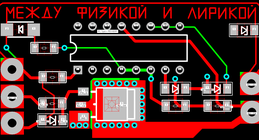Право на личную неприкосновенность («habeas corpus») — одно из базовых прав, определяющих современную европейско-американскую цивилизацию. Между тем, это право не есть неотчуждаемое. Взять хотя бы случай: вы грабитель, и в руках у вас нож, которым вы угрожаете. Если вам нанесут удар и выбьют нож, ваше право неприкосновенности будет нарушено. Шутки в сторону: если рассуждать этически, юридическое право личной неприкосновенности и моральное право — не одно и то же. Моральное право закреплено и «легитимировано» в одних социокультурных практиках и отрицается другими. Именно о праксисе и пойдет речь.
Репрессивная культура современности обладает широким инструментарием практик, осуществляющих «узаконенное» насилие над человеческим телом и отрицающих, в своей легитимности и в своем применении, право человека на собственное тело как на абсолютно неотчуждаемую и неприкосновенную собственность. Это практики — религиозные, юридические, пенитенциарные (принудительный труд), моральные, семейные, хирургические и вообще клинические, и, словом, их такое множество, что разобраться непросто. Хорошим ориентиром был бы римский вопрос «Qui prodest?», «Кому выгодно?» — но тут ответ на него затруднителен в виду того, что пользующихся выгодой от этих практик много, и не всегда узаконивающие их институты — в числе непосредственно извлекающих выгоду.
Я не готов к правовому диспуту о насильственных практиках, я попытаюсь описать некоторые из них с точки зрения моего личного этического убеждения, что человек обладает абсолютным правом неотчуждаемой собственности на свое тело. Абсолютность этого права зиждется попросту на том, что человек и есть собственное тело, признаем ли мы или не признаем, что он есть не только собственное тело. Это, так сказать, онтологическое, а не юридическое право, в юриспруденции мы лишь разделяем субъект как владельца и тело как собственность. Второе предварительное замечание: существуют «нелегитимные» формы насилия против тела, которые, однако, поощряются хотя бы попустительством (как, например, полицейское или монастырское насилие). Нельзя сказать, что эти формы посягательства на тело — вне культуры. Если рассматривать культуру как систему возможностей (а не запретов, что уводит в сторону тоталитарной трактовки культуры), то сама возможность таких, всегда точно очерченных и узнаваемых типов насилия допускается именно культурой. Однако эти типы насилия нуждаются в ином разговоре и в иной перспективе анализа.
Что касается, скажем, юридических посягательств на habeas corpus, неприкосновенность тела, то я укажу, например, на административные и уголовные меры против лиц, употребляющих так называемые «наркотические средства». Сразу ясно, что крайней размытостью страдает — или, скорее, наслаждается — понятие «наркотических средств». Но на чем дискурсивно основано право «надзирать и наказывать» в данном случае? На том гигиеническом постулате, что наркотики вредны, и, видимо, в большей степени вредны, чем табак и алкоголь, согласно этому «междисциплинарному» дискурсу юстиции и иже с ней. Однако вредны они телу самого принимающего, который и решает, вредить или не вредить своему телу. Поэтому какие-либо карательные меры отрицают это право самому решать, что делать со своим телом, берут употребляющего под здравоохранительную опеку и отчуждают его тело от него самого как источника волеизъявлений. Тело ему больше не принадлежит, о здоровье его тела заботятся юридические, государственно-медицинские, пенитенциарные институты. Уже здесь виднеется зловещий лик Гиппократа с его двусмысленным «Не навреди».
Это грубый, понятный случай. Но позволительно спросить, как отнестись к садомазохистскому контракту, согласно которому одна из сторон допускает насилие над своим телом вплоть до калечения, и более, принимаемое от другой стороны. Казалось бы, можно было бы сказать то же самое: тело неотчуждаемо принадлежит индивиду, поэтому он может добровольно предоставить права на какое-либо обращение с его телом другому лицу на основе контракта. Однако тут возникает некое робкое возражение. Может ли человек, обладая абсолютным правом на свое тело, добровольно отказаться от него в чью-либо пользу?
Тут, наверное, надо бы вспомнить, что точно так же обстоят дела и с медициной. Ее «общественный договор» пациента и врача известен: пациент отказывается от права суждения; например, в психиатрии, как пребывающий не «в трезвом уме». И есть психиатрические, или «карательно-психиатрические» практики (электрошоки, вообще болезненные клинические процедуры). Суть заключается в том, что на эти практики индивид в ряде случаев добровольно соглашается, поддаваясь категорическим убеждениям врачей, что эти практики необходимы для желаемого пациентом излечения (я говорю о случаях добровольного пребывания в психиатрической клинике). Однако о степени необходимости именно этих процедур, процедур, требующих отчуждения тела, он не может судить, кроме как со слов тех же самых врачей. И дело идет не только о психиатрии. Так, о чем неоднократно говорилось (начиная хотя бы с «Мадам Бовари» Флобера), хирургия зачастую навязывает свое сладострастное насилие пациенту, не имеющему возможности оценить необходимость ее вмешательства.
Я даже допускаю искренность врачей, убежденных, что применяют в таких случаях наилучшие методы. Правда, «наилучший» имеет значение «наиболее способствующий скорейшему исцелению» пациента, «претерпевающего» (patiens). Надо, однако, задуматься — всегда ли скорейшее излечение предпочтительнее более длительного, но зато не посягающего на неприкосновенность тела и не есть ли способствующее скорейшему излечению — просто наиболее удобное для врача? Тут может возникнуть совершенно схоластическая каверзность, что прием медикаментов взамен хирургического или электрошокового посягательства есть также воздействие на тело. У этой каверзности имеется реальная подоплека: скажем, печально знаменитый галоперидол, столь любимый отечественными психиатрами и нелюбимый пациентами. Но, тем не менее, каверзность остается схоластической (это не значит: бессмысленной), поскольку я учитываю способность пациента сопротивляться той или иной медицинской мере. И, конечно, отказаться от этой меры, если он сочтет, что она больше вредит, чем помогает его телу. Прием медикаментов, обычно продолжительный, может быть прерван пациентом; на хирургическом столе ничто уже не зависит от воли пациента. Дело все-таки даже и не в этом. Дело — в дисциплинарном режиме клиники, который либо позволяет, либо не позволяет пациенту участвовать в выборе каких-либо воздействий на его тело.
Гиппократовское «Не навреди» легко оправдывает жесткий дисциплинарный режим, если врач убежден в необходимости такового: ведь врач и не намерен вредить. Но надо признать и то, что жесткие, посягающие на неприкосновенность тела медицинские меры, в психиатрии и в некоторых других областях, могут иметь моральную укорененность. Мы хорошо знаем, что часто подразумевается: «пациент сам виноват» в своем состоянии, а потому и должен быть наказан страданиями, причиняемыми в ходе исцеления. Кроме того, именно мораль выдает себя в обмане пациента: как, например, в тех случаях, когда прославленный галоперидол выступает под иными именами (урофан, галдол и т. д.) и пациент не знает, что это «тот самый» галоперидол; как в случаях врачебного эксперимента с использованием эффекта плацебо; как и в случаях, когда не являющиеся необходимыми «ланцетов средства» выдаются за необходимые. Если обыденная мораль нарушена, это нарушение оправдывается некой «высшей» моралью. Тогда с «высшей» морали и спрос, тогда и вправе мы интересоваться, не потому ли врач предпочитает посягающие на тело, болезненные методы, что пациент, по мнению врача, должен страдать во искупление своей вины? И это прекрасно сочетается с гиппократизмом.
Проблема тут и таксономическая, классификационная. Скажем, академик Смулевич, ученик злого гения советской карательной психиатрии Снежневского, до последнего времени признавал реальность «вялотекущей шизофрении». Поскольку мы в целом знаем, что такое неврозы и депрессии, и поскольку мы не знаем, что такое шизофрения, трактовка первых как второй, хотя бы и «вялотекущей», страшно расширяет полномочия врача. Шизофреник не может претендовать на тот же когнитивный статус, что невротик, т. е. на ту же степень участия в выборе средств лечения, а значит, ужесточается (или может произвольно ужесточаться) дисциплинарный режим клиники.
Другой пример, из религиозной жизни. Посты для мирян, которые навязываются им церковью, тоже «целебны», но уже для души, полезны в душеспасительном смысле. Если бы речь шла только о репрессивном внушении, изустном понуждении, было бы полбеды. Но церковь — институт власти, осуществляющий, подобно клинике, контроль над спасением, исцелением человека, посредством выявления и учета «грехов» и посредством епитимий, а также и карательных мер, вроде недопущения к причастию. Нарушение поста, однако, весьма сомнительный грех. Если принимать понятие «грех», то, в христианском смысле, грехи могут быть только перед Богом и ближним, причем в неизбежной корреляции Бога и ближнего, как «потерпевших» сторон. Однако через самоосвящение, самообожествление («самообожение») церкви она стала инстанцией, против которой тоже оказался возможным «грех». Наверное, катастрофа едва не всякой религии в том, что ее священнослужители, по отдельности и «соборне», замещают собой непосредственные «предметы» веры: Бога, спасение души и т. д. Репрессивность церкви в том, что она никогда не устанет оспаривать принадлежность к «ее» религии (вере) того, кто обходит церковь стороной, не вступает в «общественный договор» с нею. Это клерикальный «consensus omnium», и всякий мирской апологет церкви обязан его защищать. Это часть обширной религиозной агитации и кодификации, регулирования культурных возможностей. Более того, в обмен на статус государственной религии, на реальную власть, церковь освящает государство. Так что мы имеем несколько инстанций, принуждающих к посту под страхом если не «отлучения», то епитимии и исключения из церковной жизни. Излишне добавлять, что пост — сравнительно невинная затея, особенно для восточных христиан, боящихся освободиться от византийской гнили: тяжелый, психотропный ритуал, предписание поклонов на коленях, целование руки попу — доказательства, что нам только кажется, что времена флагелляций и прочих истязаний минули. Но здесь мы, может быть, вступаем уже в область «нелегитимных» форм насилия, которые могут поощряться или негласно напрямую, или попустительством. Так или иначе, христианство может быть гуманистичным, но церковь, как иерархический, властный институт, — нет.
В обоих случаях «целения» человек добровольно отдает право распоряжаться своим телом другому, но в обоих случаях мы говорим о том, что этот другой предстает как совершенно неизбежный посредник на пути индивида к желанной цели. Можно, конечно, отмахнуться и списать на Dummheit этого индивида его вынужденное доверие к клинике или церкви. На деле ведь все сложнее: речь идет о серьезном психологическом давлении, усиленном пропагандой в масс-медиа и внешне угодными церкви государственными постановлениями, или, скажем иначе, авторитетным дискурсом политической власти, речь идет о моральном убеждении врача/священнослужителя в необходимости телесных страданий для достижения индивидом желанной для него самого цели.
Еще пример, показывающий, куда заходит нарушение права на тела в религиозной области, там, где она соприкасается с политикой. Господин Рональд Лаудер, посол США в Австрии и глава Всемирного еврейского конгресса, в своих разъездах по миру «надзирает» за тем, чтобы нигде не было запрещено обрезание (заметим, что г-н Лаудер мировой политик, а не раввин). Между тем, процедура обрезания — жестокое, болезненное насилие родителей над ребенком в том возрасте, когда он совершенно лишен какой-либо возможности сопротивляться. Уже не говорю о навязывании ему религиозной идентичности посредством ритуального калечения вне его ведома. То есть тело ребенка есть некий объект, принадлежащий другому, другим, родителям, священнослужителю. Обрезание — только один из крайних случаев распоряжения телом ребенка со стороны родителей как своей собственностью. Разумеется, сюда же относится и домашнее «воспитательное» насилие.
Я привел, однако, этот пример для того, чтобы ярче высветить сходства и различия медицинского, церковного, религиозно-семейного насилия. Сходство в том, что насилие исходит от инстанции власти: врача, священника, родителей, государства, сюда же отнесем и власть образовательного учреждения, да и власть медийного дискурса. Различие в том, что во всех примерах, кроме последнего, речь идет о якобы добровольном согласии индивида, о его якобы добровольном отказе от права распоряжаться своим телом в пользу другого человека. Общее также то, что во всех этих случаях, уже без исключений, светская или религиозная мораль оправдывают и добровольное (или недобровольное) согласие на насилие, и само причинение этого насилия, само посягательства на тело как на собственность, которая принадлежит в абсолютном смысле другому индивиду и именно как этому, конкретному индивиду.
Различие — в уровне репрессивных мер, который допускает культура для медицины, церкви, семьи, образовательных учреждений. И не совсем понятно, зачем это культуре. Если, как в случае с жестокими клиническими методами, а то и в случае с домашним насилием, речь идет о защите неким «обществом» других своих членов от возможной в будущем деструктивной деятельности того индивида, которого лишают его «habeas corpus», так ведь наказывать за еще несовершенные, лишь предположительно возможные преступления — это что-то из жизни кэрроловского Зазеркалья, а не нашей реальности. Но на самом деле можно легко предположить, что распоряжение телом индивида со стороны другого есть потребность культуры, удовлетворением которой она достигает устойчивости собственного существования и сохранения; потребность ein Tier heranzuzüchten, das versprechen darf, по словам Ницше в «Генеалогии морали», «вывести животное, которое смеет обещать» и которое поэтому можно обязывать исполнить долг. А от неукоснительного соблюдения долга, от порожденной им исчислимости индивида, его предсказуемости и меры возможного насилия касательно него в случае несоблюдения выигрывают, конечно, многие, а индивид оказывается «снятым».
Садомазохистский договор представляет собой тот же договор, согласно которому претерпевающий, patiens достигает своей цели (здесь — удовлетворения, наслаждения) посредством того, что отказывается от права распоряжаться своим телом в пользу другого, отчуждает свое тело и лишается неприкосновенности. Правда, это договор между индивидами, не представляющими некой властной инстанции и не действующими от ее имени и согласно ее правилам. Он, так сказать, «по ту сторону добра и зла», если «добро» и «зло» суть основные коллективистские моральные категории. И странно, в силу этого такой контракт менее репрессивен, менее обеспечен средствами обязать к его исполнению, хотя насилие над телом может зайти далеко. Когда я говорю о средствах, садомазохистский инструментарий может показаться устрашающим, с кандалами и клетками, но истинный «инструментарий» добровольной передачи права на свое тело — совсем иной: это понуждение морали к нормированной телесной жизни, это технократическая авторитарность врача, это религиозное внушение, это авторитет традиции, это медийная и государственная поддержка инстанции, посягающей на тело. Всего этого нет в садомазохистском договоре как таковом. Он нарушает негласную монополию институтов на отчуждение тела, на распоряжение чужим телом, и это-то делает его «аморальным», то есть «злом». Мораль заклеймляет такой договор как «извращение». Но сказанным хотя бы отметается старая и облезлая мысль о монополии государственной власти на насилие; никакое насилие не может получить культурного признания без санкции морали, поддерживаемой какими-либо признанными институтами, находящимися в положении господства, необязательно политического. «Старый Кант» писал: «Der Mensch ist ein Tier, das, wenn es unter andern seiner Gattung lebt, einen Herrn nötig hat» («Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане»): «Человек это животное, которое, когда живет среди себе подобных, нуждается в господине». С точки зрения морали, которая озабочена именно человеком, «когда он живет среди себе подобных», как бы она ни кривлялась, что у нее имеются-де и другие интересы, — с точки зрения морали, которая и обнаруживает себя как важнейшая структура репрессивной культуры, садомазохистский договор — в отличие от остальных случаев посягательств — подлежит осуждению, а не поддержке, поскольку он заключается между индивидами за пределами их жизни «среди себе подобных», их социальности. Напротив, любой из перечисленных случаев посягательств на чужое тело найдет поддержку с аргументацией «от морали», поскольку мораль есть легитимирующее себя господство над человеком, когда он живет среди себе подобных.
Но если в современной культуре наличествует возможность договоров, подобных садомазохистскому, хотя бы и не «легитимных» культурно, но поощряемых попустительством, то, значит, не столь плачевны ее дела? Я думаю иначе. Я думаю, что сама садомазохистская игра, основанная на трансгрессии Habeas corpus, подражанием разыгрывает то состояние культуры, в котором очень велик уровень морального, политического, религиозного прессинга. Эта игра обнажает изнанку всякого подобного прессинга — с одной стороны, отрицание неотчуждаемости и неприкосновенности тела, т. е. отрицание онтологического права абсолютной собственности человека на самого себя; а с другой стороны, ситуацию, в которой посягательство на тело может возбуждать признание и удовольствие обеих сторон. Если агрессия и хищность в «природе» человека, то вожделение подлежать телесной агрессии и закрепление некоторых чужих прав на свое тело за другим — это уже «рефлекс» социокультурной «природы». Исходя из своей этической максимы, я бы в данном случае настаивал на уголовной ответственности лиц, посягнувших на чужое тело, даже если это посягательство было добровольно позволено теми, кто отказался в их пользу от своего права распоряжаться своим телом. Тут дело не в формальном принципе, а в абсолютности, онтологичности того, что «мое» тело принадлежит «мне» как неотчуждаемая и неприкосновенная собственность. Но это лишь частное пожелание. Что касается самого вопроса в общем, то вспадает на ум: не есть садомазохистский игровой договор — реактивная пародия на тот навязанный нам «общественный договор», согласно которому тело может быть отчуждено и согласно которому право использовать некую культурную возможность может оплачиваться допущением со стороны индивида насилия других по отношению к его телу? Мы принимаем договор с культурой о стандартизации возможностей, как принимаем античный рок, откуда бы ни исходила эта стандартизация — от фитнеса, религии или назидательной рекламы зубной пасты. Стоит ли старая гадина культура свеч?
Я нарочно сосредоточился в своей статье на не слишком известных или мало обсуждаемых нарушениях выдвинутой этической максимы, согласно которой индивид располагает полным, абсолютным правом на свое тело и на то, как распорядиться оным. На каждый из моих примеров я сам бы мог возразить. Я лишь говорю о самой предлагаемой этической максиме и о ее противостоянии с моралью репрессивной культуры; я так же говорю о вопросах, которые кажутся неоднозначными с точки зрения этой максимы, вопросами, где максима испытывается на прочность.