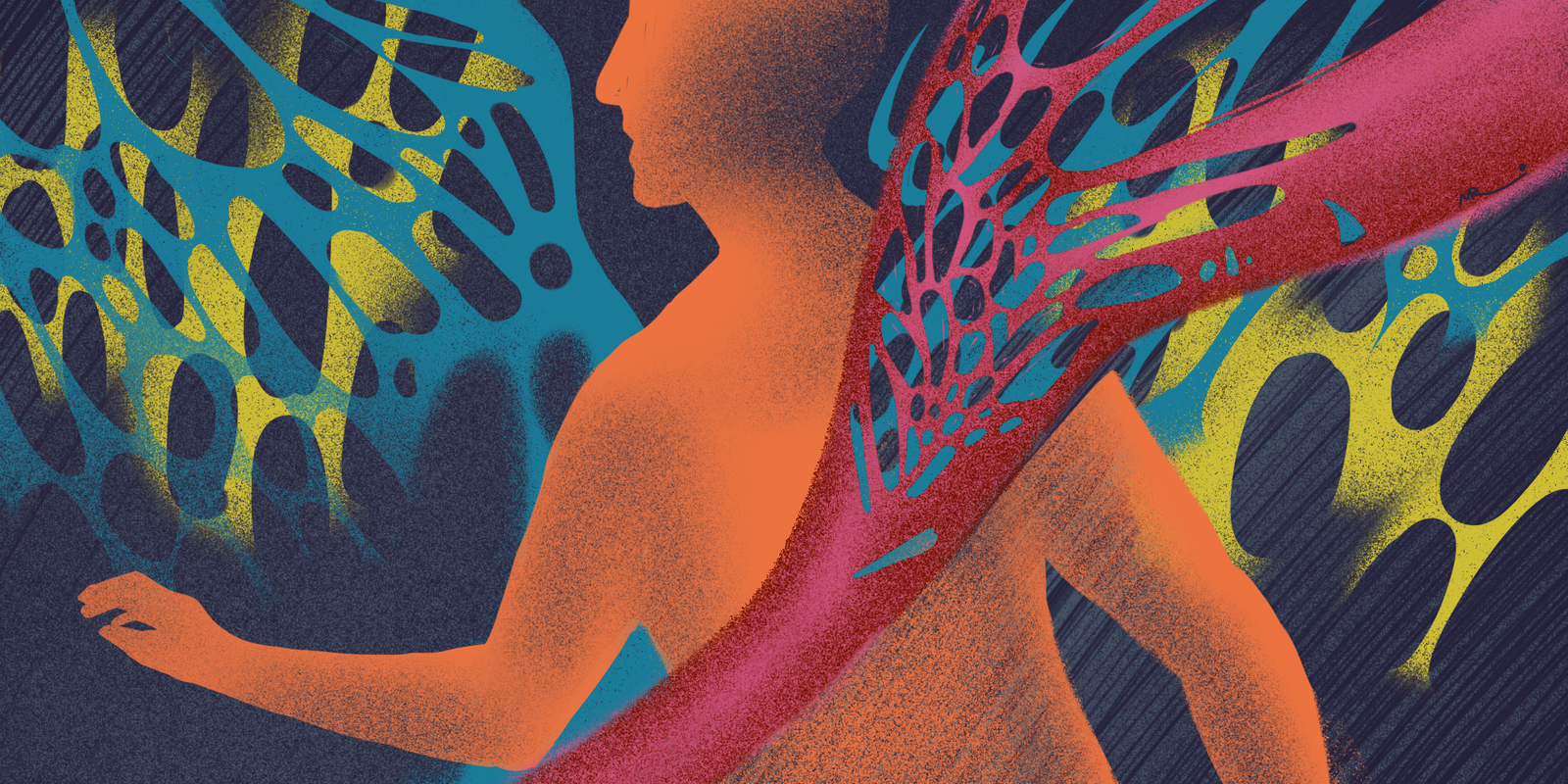Пересадка костного мозга от донора — последний шанс для тех, кто страдает серьезными онкологическими заболеваниями, такими как лейкозы или нейробластома. Эта операция помогает вылечить болезнь, которая в ином случае оказалась бы смертельной. Для донора она совершенно безопасна, а костный мозг полностью восстанавливается через две-три недели. Так как не у всех больных есть подходящие родственные доноры, медики создают регистры потенциальных доноров костного мозга. И хотя жизнь многих пациентов зависит от количества добровольцев в регистре, в России люди слабо осведомлены о донорстве. «Дискурс» разобрался, как работает донорство костного мозга и что мешает его развитию в стране.
Ире двадцать один. Она учится на специалиста-международника и каждый месяц сдает кровь на донорство. Недавно Ира опубликовала в группе ВКонтакте своего университета пост о российском регистре доноров костного мозга, в котором она сама состоит уже год. Сейчас Ира набирает группу желающих вступить в регистр, чтобы специалисты приехали в университет и сделали анализ централизованно. Нужно тридцать человек — на момент нашей с ней встречи она собрала двадцать семь.
Перед разговором с Ирой я провожу мини-опрос среди друзей и знакомых. Выясняется, что знаний о пересадках костного мозга или регистре доноров у большинства не больше, чем у меня — кто-то вспоминает пункцию спинно-мозговой жидкости, кто-то просто не понимает, о чем идет речь. А ведь вопрос осведомленности стоит довольно остро: в Российском регистре всего около восьмидесяти тысяч потенциальных доноров, в то время как, например, в Германии — шесть миллионов при населении шестьдесят миллионов человек.
Мне интересна личная история Иры, ее мотивы. Она рассказывает про девочку Марину — гимнастку из Крыма, погибшую от нефробластомы в 2014 году. Сейчас ей было бы восемнадцать лет.
— Наступило осознание, что это может неожиданно случиться с каждым. Я поняла, что костный мозг или донорская кровь не берутся с неба. Когда в группах помощи в социальных сетях пишут, что идет поиск донора в регистре и на это нужны деньги, никто не задумывается, что в этих регистрах состоят такие же люди. Кажется, что донор найдется сам собой. Тогда я решила: так как противопоказаний нет, я должна сдать анализ на типирование.
Думаю, всех пугает словосочетание «типирование костного мозга». Возникает ассоциация со спинным мозгом, кажется, что это больно, страшно. Я вполне понимаю нежелание рисковать собой ради чужого человека, но с другой стороны эта операция не несет сейчас никаких рисков, кроме индивидуальной реакции на наркоз. Максимум — головокружение, усталость после операции. Не было зарегистрировано ни одного случая осложнения из-за забора костного мозга.
— Почему нам так необходим свой регистр, если есть международный?
— Анализировать кровь на типирование — это очень дорого. Если пациенту находят донора в России, его дальнейшее обследование и операция будут бесплатными в рамках квоты. Если же нужен поиск в международном регистре, речь идет уже об очень больших суммах, на сбор которых нужно драгоценное время. Дорого обходится поиск по базе данных, транспортировка костного мозга (а его нужно успеть пересадить за 48 часов после того, как он был взят). Если донор живет на другом конце земли, нужно его привезти. Нужно говорить об этой проблеме на общегосударственном уровне. То, что в регистре так мало людей — это национальная проблема. Если бы в нашем регистре было хотя бы 500 тысяч человек, это было бы проще, дешевле и быстрее. А еще нужно вспомнить, сколько малочисленных народностей живет на территории России, чьи генотипы встречаются крайне редко. Найти для них донора в международном регистре практически невозможно.

— Что можно сделать для потенциальных доноров? Будет ли материальное вознаграждение для потенциальных доноров способствовать расширению регистра?
— Сейчас оно не предусмотрено. Мне кажется, что люди, которые соглашаются на донорство сейчас, сделают это и без денег. А для тех, кто сомневается или боится, вознаграждение вряд ли сыграет решающую роль. Нужно сделать какую-то социальную рекламу — например, в метро. Я часто вижу рекламу донорства компонентов крови, но о костном мозге никогда. Люди просто не знают, что регистр существует!
— Как твоя семья и окружение относятся к донорству?
— С отношением родителей все сложно. Два года назад, когда я начала сдавать кровь, реакция была негативная: они слишком волнуются за мое здоровье, поэтому я просто не ставлю их в известность. Негативного отношения к донорству я не встречала, в основном это недоумение. Часто слышу вопросы из серии «зачем?» Но я считаю, что если можно это сделать, то нужно. Это такой вопрос, где переубеждение не совсем уместно. Каждый имеет право на свое мнение, и попытка переубедить может вызвать негативную реакцию. Я могу лишь дать информацию, показать, что можно сдать.
— Если тебе позвонят завтра и скажут, что нужно, будешь ли раздумывать?
— Ни секунды.
***
В идеале донором костного мозга выступает родственник, чаще всего — брат или сестра, так как вероятность совпадения ДНК в этом случае самая высокая. Если же родственных доноров у пациента нет, ищут другие варианты. Для этого-то и нужен регистр потенциальных доноров. Количество удачных пересадок от неродственных доноров уже составляет 70% — и этот процент продолжает расти. Шанс того, что генотип больного совпадет по всем нужным параметрам с генотипом здорового человека, живущего за несколько тысяч километров от него, минимален — но он есть. И чем больше людей сдают кровь на типирование (анализ основных пяти компонентов, необходимый для вступления в регистр), тем выше шанс того, что подходящий донор будет найден.

Россия — страна с одним из самых уникальных наборов генотипов. Из-за этого вероятность найти донора за рубежом снижается еще сильнее.
Список противопоказаний к донорству довольно увесист и может напугать неискушенного человека, но по факту все просто: исключены все болезни, передающиеся через кровь, а также те, которые гипотетически могут вызвать осложнения у самого донора. К последним относятся, например, высокая степень миопии (больше −6), сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания.
Собственно процесс забора костного мозга возможен в двух вариантах — хирургическим путем из подвздошных костей или из венозной крови после приема специального препарата (при этом сдача похожа на обычное донорство крови). Оба варианта могут быть болезненными, но они абсолютно безопасны для здоровья донора.
Данные о себе из регистра можно удалить в любой момент без объяснения причин.
***
Московский центр гематологии находится на станции метро Динамо. В пасмурную погоду район кажется не особо гостеприимным — здание центра окружают в основном старые пятиэтажки. В нескольких корпусах находятся собственно центр гематологии и пункт сбора донорской крови.
Мне рассказывают о медицинской специфике донорства, отвечают на типичные вопросы новичка, объясняют, почему существуют те или иные противопоказания. Говорят о ежегодном дне донора, на котором в 2018 встретились две пары «генетических двойников» — два донора и два реципиента (у них не возникло рецидива в течение двух лет, что означает выздоровление).
И о том, что в большинстве стран СНГ вообще нет регистров, потому что нет своих трансплантационных центров.
Я встречаюсь с Александрой Ахремцовой — специалистом по развитию донорского движения НМИЦ, которая сама сдавала костный мозг для пациента. Она с легкостью говорит о своем опыте, о том, что не испытывала сильного дискомфорта и уже через пару дней занималась ремонтом в квартире.
— Препятствие стоит не там, где нужно прийти и сдать анализ, ведь это всего лишь пробирка венозной крови, — рассказывает Александра, — это можно сделать за компанию или по сиюминутному желанию, для очистки кармы. Но важно понимать, что будет потом. «У меня был порыв, но сейчас я поняла, что не хочу», — бывают отказы подобного рода. Часто люди хотят стать донорами для какой-то конкретной категории больных, например, детей, но ведь трансплантации нужны и взрослым людям! Отсюда высокий процент отказов в региональных регистрах.
Если говорить о том, что мешает развитию российского регистра, то сложности есть с обработкой данных о региональных донорах и о проведении типирований для них. Минздрав не занимается вопросом донорства на должном уровне, а бюджет, выделяемый на него, не соответствует нуждам центров. Российский регистр активно развивается лишь в течение последних пяти лет. В основном им занимаются центры, проводящие трансплантации костного мозга, в том числе НМИЦ гематологии в Москве. До этого существовали лишь локальные регистры в отдельных городах России, не объединенные в единую систему, а суммарно количество потенциальных доноров не превышало двадцати тысяч.
Благотворительные фонды лишь частично спонсируют процедуру типирования, которая сама по себе дорогостоящая, в остальных случаях такие анализы проводятся за счет этих медицинских центров. Когда нет финансирования, типирование становится для больницы очень дорогой процедурой, хотя сама проверка быстрая: не везде есть специальное оборудование.
К тому же, в большинстве российских регионов нет постоянных пунктов приема анализов на типирование. В некоторых регионах время от времени проводятся разовые акции (о которых еще нужно откуда-то узнать). Также с 1 октября 2018 года можно сдать кровь в любой лаборатории «Инвитро», но они есть не везде.
Но главная проблема — разумеется, неинформированность и низкая доступность. У пунктов приема анализов тоже есть свой режим, и человек, работающий в офисе с девяти до семи, практически не имеет возможности сдать кровь на типирование. Единственным вариантом остается организованный выезд специалистов НМИЦ. Для этого необходимо набрать группу из 30 человек, но не все работодатели готовы на такие жертвы, ведь эти люди так или иначе выбиваются из рабочего процесса.
Все это ведет к тому, что мечты об идеально отлаженной и организованной всероссийской системе донорских регистров остаются лишь мечтами.
Врачам остается лишь развивать то, что у них есть, всеми силами способствовать распространению информации о донорстве и спасать тех пациентов, кому все же повезло найти «двойника».
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке материала врачу-гематологу ФБГУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России Вере Алексеевне Васильевой и врачу-гематологу Изольде Михайловне Шухман.
Иллюстрации: Марина Прокофьева