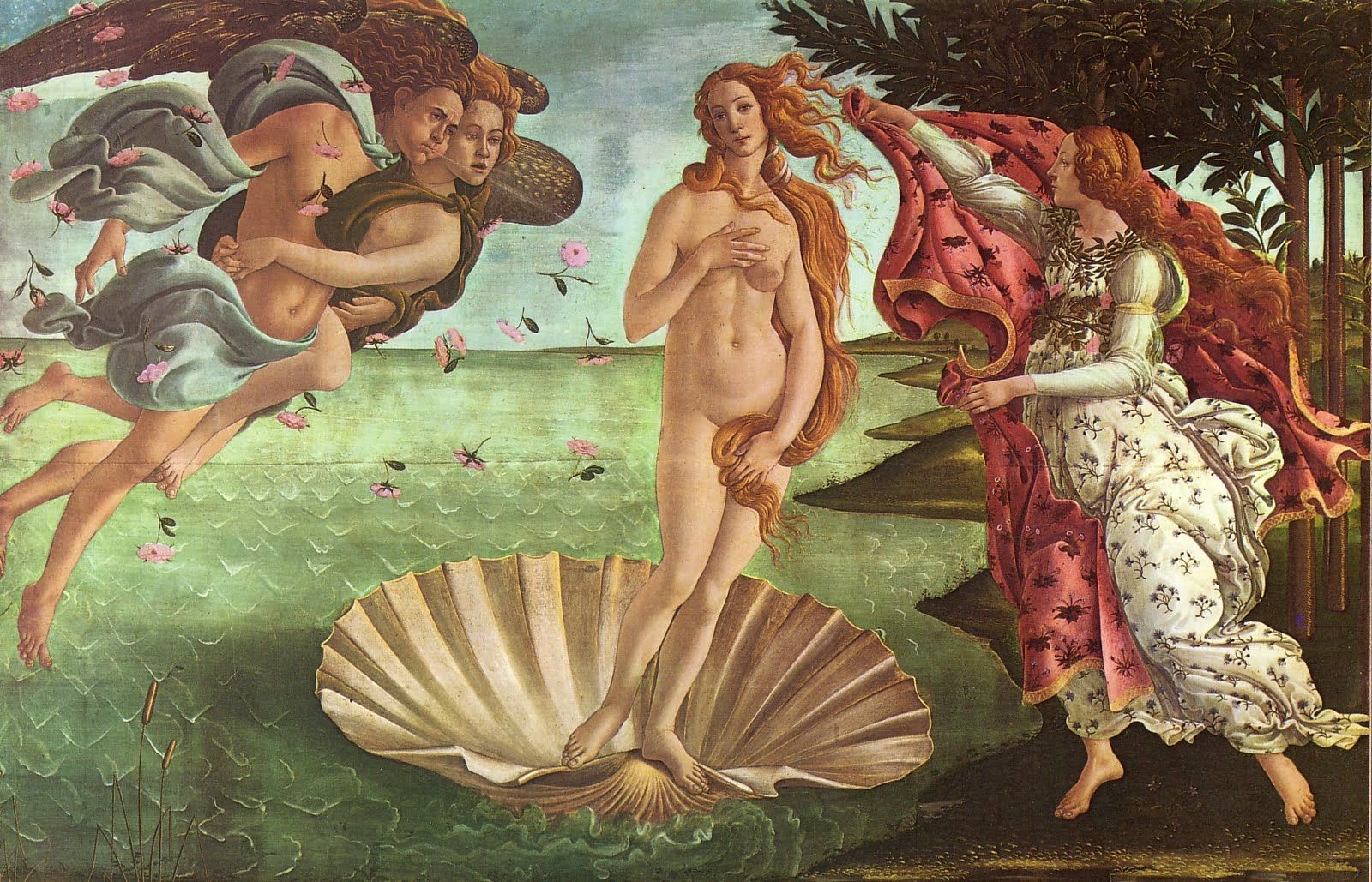Когда венецианская проститутка сказала Жану-Жаку Руссо «Zanetto, lascia le donne e studia la matematica» («Дзанетто, оставь женщин и учи математику», «Исповедь»), – произошел разлом, который я полагаю радикальным для западной мысли. Оказалось, что у познания два объекта, и эти два объекта требуют разных подходов, разных, можно сказать, систем исследования. В самом грубом смысле – а я думаю, и в самом точном, эти объекты можно назвать «жизнью» и «бытием». Бытие познается науками. Оно характеризуется простым наличием, как обнаружил еще Парменид: того, чего нет, того и нет. Что касается жизни, то она характеризуется деятельностью, процессом, переменчивостью, неисчисляемой длительностью, или, вернее, она и есть деятельность, процесс etc. Все слова приблизительны, потому что наук о жизни не бывает. И если что-то говорится о «жизни», то всегда находится логик Аристотель, упрекающий диалектика Гераклита: «Так можно думать, но так нельзя говорить». Высказывание о жизни – парадокс, логический скандал, нечто обоснованное интуицией, схватыванием, сметкой, житейским опытом, «знанием людей», пословицей, игрой, озарением, минутным намереньем, чем-то ускользающим, неуловимым – практическим разумом, а не рассудком. Сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм пытались осмыслить, если не преодолеть этот разлом между бытием и жизнью. Но одно дело la matematica, а совсем другое – le donne.
Сказанное было бы типичным пошлячеством, если бы подразумевалось, что предмета всяческого знания и познания и вправду – два. Но два лишь объекта для познания, зависимых, как всегда зависит объект, от субъекта – от двух структур субъекта, двух метаязыков. На деле, конечно, бытие и жизнь – одно и то же, но в разных способах своего присутствия, в разных способах своего бытования. Проект, попытавшийся, и во вполне обозримый период, соединить два объекта, две формы субъектности, два бытования, наличие и деятельность, – это пореволюционное литературоведение XX века, наследовавшее исторической поэтике и павшее или все еще продолжающее свое паденье в связи с распространением структуралистских семиотических практик. Литературоведение – это знание о жизни, «отраженной» литературными произведениями, это герменевтика литературного текста, направленная на то, чтобы открыть в нем нечто, принадлежащее жизни, а не ему самому.
Уточню. Филология, конечно, наука. Наука о языке, речи и письме. Применительно к литературе – о написанном, о текстах. С точки зрения филологии, литературоведение – мешанина донаучных практик, имеющая целью нечто загадочное и интригующее: понимание. Понимание текстов – совсем не то же, что наука о текстах или, конкретнее, интерпретация семиотической структуры текста. Наука просто не достигает уровня индивидуальной конкретизации, на который притязает понимание. Причем конкретизации, вероятно, продолжающейся бесконечно. Наука работает с множествами сходных объектов. И если случайно достигает понимания конкретного текста, то – увы: «Так можно думать, но так нельзя говорить». Хотя бы потому, что понимание текста – это понимание человека, стоящего за текстом, автора, его интенции, выразившейся в тексте, т.е. самой жизни, а не бытия. Тезисно это выглядит, может, и странно. Но прежде чем о чем-то говорить, надо же условиться, о чем пойдет речь и, скажем, зеленая марсианская обезьяна не будет помянута.
Плеханов в своей литературной критике дал примеры того, как «нельзя говорить». Авторитет Плеханова как эстетического мыслителя позволил в 20-х годах Вячеславу Полонскому высмеивать рапповца "троцкиста" Лелевича за ложность понимания, например, социальной основы, или классовой природы, стихотворений Ахматовой («К вопросу о наших разногласиях. Критические заметки по поводу книги Г. Лелевича «На литературном посту»», 1925). Правда, когда Полонский сам заговаривает о том же, чтобы показать Лелевичу, как «надо» говорить о социальной природе текста и «ментальности» стоящего за текстом автора, он дает плачевные примеры, не слишком отличающиеся от плачевных примеров, избранных из Лелевича. Обоим кажется, впрочем, что они занимаются марксистской наукой о литературе. Ничуть не бывало. Они занимаются тем, чем занималась «прогрессивная» критика XIX века: Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Михайловский. Клише известны: «Евгений Онегин» – «энциклопедия русской жизни» и т.д. Даже назвав роман в стихах «энциклопедией», еще можно претендовать на что-то. Но энциклопедия жизни – уже непозволительный гибрид. Как «диалектика души» в романах Толстого, как «жестокий талант» Достоевского, как «луч света в темном царстве» на сцене Островского и т.д. Хочется сказать – «lascia le donne e studia la matematica». Или наоборот: оставь математику и изучай-ка женщин. Но никак не сразу и то, и другое. На деле, математики тут и нет: никто не собирается «поверять гармонию алгеброй», подобно бедному Сальери из пьесы Пушкина, что особенно пикантно, учитывая, что музыкальную гармонию всегда счислением и поверяли. Но есть некое ощущение научности – как некой амбиции, как некоего знания, которое, конечно, не вкусовщина и не отсебятина. И если трудная работа Константина Аксакова, занятого различением языка, словесности и искусства и почти догадавшегося, что «Мертвые души» действительно поэма, но поэма ироикомическая, «Похождения Чичикова», – протекает где-то в недрах «реакции» и «мракобесия» (там же, где и Леонтьев etc.), – то «Мильон терзаний» пишется Гончаровым с бокалом шампанского в руке. Фельетонизм «прогрессивной» критики нарастает, научная историческая поэтика идет от успеха к успеху, и, тем не менее, развитие будущей литературоведческой «науки» зависит от первого, а не от второй.
Марксизм – своеобразная презумпция «научности». Если литература – «стихийность», то он поверяет ее «сознательностью». Стихийность и сознательность – две темы конца 10–начала 30-х годов, всюду применимые операторы, «волки» и «машины» Пильняка. От утверждения Белинского, что фантастическое «не далось» Гоголю в «Портрете», до утверждения Плеханова, что символическое не дается Генрику Ибсену, произошло некое серьезное изменение: Маркс написал «Капитал». Оно целиком и сугубо внешнее относительно гоголевской фантастики или ибсеновской символики. Но околомарксистская культура послереволюционных лет вообще усиленно занимается пролиферацией «наук». Алексей Гастев озабочен наукой об организации труда. Александр Богданов – научным творчеством пролетарской культуры; создается наука о доклеточной «живой материи» (статьи Ольги Лепешинской). На это можно возразить, что наука об организации труда (эргономика) вполне реальна. Да, но если раскрыть Гастева, мы обнаружим то же дискурсивное смешение жизни и бытия, понимания и познания, пафоса и науки.
В литературоведении категории жизни и бытия окончательно смешал уже Геннадий Поспелов (пускай будет он), когда породивший его «вульгарный социологизм» (хотя и вульгарный, но все-таки социологизм) был якобы выметен с позором, а на деле растворился в схоластических конструктах новой «науки». К Поспелову дело и шло. Кажется, конечно, что «формальная школа» все-таки двигалась в ином направлении, диссонировала с «наукой» о жизни, «отраженной» искусством. Но это лишь поверхностное ощущение. Дело в том, что понятие «формы» – весьма неопределенное, ускользающее понятие.
Что такое «форма»? Это «артикуляционный жест», в поэзии – интонация, «мелодика», в прозе – «сказ», розановские «словечки» (Эйхенбаум). На деле с языком-то формализм и не в ладу. Поэтический «артикуляционный жест» берется в отрыве от знаковой функции языка. «Форма» всегда абстрагируется от «содержания». Не знаю, отмечал ли уже кто-то, что это вопиющее пренебрежение знаковой природой языка, не разрывающего «план выражения» и «план содержания», поскольку они и составляют знак. Когда Григорий Винокур берется рассуждать о языке поэта, он фактически высказывает то, что никакого решительного ответа на вопрос «Что такое язык поэта?» дать не может, но может предложить череду определений, не дополняющих друг друга, а неровно накладывающихся друг на друга («Об изучении языка литературных произведений»). Между тем очевидный ответ заключается в том, что язык поэта – это естественный язык, на котором написан текст. От этого определения Винокур увиливает всеми силами остроумия и манипуляции риторическим изложением, вплоть до весьма глубокого, но ошарашивающего утверждения, что «ближайшее этимологическое значение», «внутренняя форма» литературного слова – это его словарное значение, т.е. словарное (языковое) значение претерпевает какую-то хитрую метаморфозу в «поэтическом» языке. Старые риторы 18 века заметили бы, что в речи рыночных торговок оно ее претерпевает в не меньшей степени.
Это не значит, что формализм не дал череды открытий, гораздо более блистательных, чем тогдашняя марксоциология литературы. Отдельные критические характеристики Тынянова и Шкловского превышают меткостью и емкостью находки трудолюбивой исторической поэтики. Да и сама историческая поэтика в руках Владимира Проппа стала ничем иным, как структурализмом, или почти структурализмом. Сложность только в том, что все открытия, характеристики, системы описаний все еще имеют несколько донаучный характер, и только в рамках структуралистской практики могут быть правильно интерпретированы, прояснены, дополнены и тогда уже готовы к использованию. В то же время «литературная эволюция», жизнь жанров и другие постулаты формальной школы обрушиваются под собственным громоздким смешением науки о текстах и науки о жизни: биологии.
Между тем складывалась поспеловская ортодоксия, или пустопорожнее мямленье разнородных терминов, указывающих только друг на друга и на свою историю. Необходимым ферментом для нее стало, с одной стороны, содержательное «вторичное смешение» многообразного и разнородного, которое было произведено Михаилом Бахтиным в его центральных понятиях «карнавал», «хронотоп», «диалог» («полифония»), т.е. в понятиях полного неразличения жизни и искусства, пространства и времени, своего и чужого, фольклора и авторского творчества. Укажем хотя бы на формообразующий эстетический принцип различения пространства и времени в эстетике Лессинга, отменявшийся не только «хронотопом», но и «карнавалом», а отчасти и «диалогом», навязываемым совершенно не диалогизирующим произведениям и эпохам, как бы помещаемым в единое воображаемое пространство.
С другой стороны – сыграла роль возникшая возможность официального истолкования любого художественного произведения с точки зрения пустых формальных категорий «старого» и «нового». Эти категории были далеко не пустыми для советской литературы конца 10-х–30-х годов, но в применении к любому историческому явлению в литературе и, шире, искусстве они высвобождались от всякого конкретного содержания и становились чистой «формой», готовой к заполнению чем угодно. Тут сходятся формализм и культурный «сталинизм»: старое и новое – в равной степени основная формальная оппозиция «литературной эволюции» (традиция и новаторство, автоматизация и деавтоматизация приема) и «марксистской» историософии.
Не впуская в себя ни чистого «бахтинианства», ни чистого «формализма», литературоведение советских ученых основывалось на сосуществовании с бахтинским и формалистским дискурсами или подобными им. Вне этой «формации» сосуществований советское (и шире социалистическое восточноевропейское) литературоведение попросту не могло бы функционировать, не замыкаясь на собственной схоластике и, значит, в итоге – тавтологии. Ибо в самом принципе «отражения» ничего, кроме тавтологии, не заложено.
Это литературоведение дало ответвление в теорию периода, где понятие «предметной ситуации» как некоего субстрата исходного языка вышло за свои пределы. Действительно, при чтении текста на иностранном языке «предметная ситуация» помогает уточнить значения слов, избежать омонимии. Но чтение не есть перевод, который строится, как известно, на системе закономерных эквивалентов и замещений. Т.е. понимание из предпосылки перевода стало его теоретическим методом. Это кажется нюансом, но представим себе предметную ситуацию, «изображаемую» пассажем Диккенса или Тита Ливия; ее можно – и нужно! – передать «своими словами», как учил Александр Кашкин, бонза советских переводчиков. Получается художественный (и не всегда высокохудожественный) пересказ, причем сколь угодно тенденциозный. Конечно, в своем праксисе добросовестные переводчики не могли руководствоваться таким «методом» перевода в обход языка – его открыл не Кашкин, а пишущие дамы конца XIX века, вроде Чюминой и баронессы Врангель, которые старательно и «изячно» пересказывали все, что поняли в прочитанном. Речь не идет о преимуществах буквализма или о буквализме и творческом пересоздании как вечной альтернативе – речь идет о переносе «понимания» с процесса чтения на теорию и процесс перевода, как если бы полноценное чтение не было само по себе предусмотрено переводческой профессией.
Не формальные анализы «приемов» и поэтик были опасны для литературоведения, а семиотическое исследование структуры смысла. Ведь оказывалось, что смысл, «содержание» – вовсе не сама Жизнь, а упорядоченные конструкции, производимые друг от друга и существующие на уровне групп и множеств текстов. Т.е. пребывающее в регулярном движении бытие, феноменологически, а не психологически «данное». Оно не зависело от бытия, постигаемого в социально-экономических категориях. Оно могло быть удовлетворительно описано и без них, хотя, при должном описании социально-экономических упорядоченностей, почему бы и нет? – возможна соположенность. Экономика продаж произведений Бальзака. Социальные отношения, поразившие Флобера «демоном энциклопедизма» (Валери). Противопоставление лингвистики как строгой науки литературоведенью как прихотливому поэтическому истолкованию стало болезнью филологических факультетов. Где-то посередине моталось стиховеденье, будучи наукой о бытии, математикой, но при этом никак не находящей точки опоры в «математике» языка и обреченной на преследование фантома некой чистой «формы». Поиски смысловых ареалов поэтических метров выражают свои результаты эссеистическим языком «жизни», простейшей психологии. Удивительно, не правда ли, из скрупулезных формализованных анализов Гаспарова узнавать, что Овидий – поэт доброты, а Гораций – золотой середины.
Именно такое состояние разброда, полутайной вражды и брожения заставал автор этих строк, то есть я, на филологических факультетах. Это не сугубо отрицательное состояние. Важность его в том, что авторитет языковых штудий снова исподволь признавался «литературоведами» (здесь беру слово как факультетский термин), а вся махина литературоведения как науки об «отраженной» жизни просто перестала удовлетворять запросам самих «литературоведов». Наблюдались и забавные прилаживания стиховедческих анализов к тематическим, всегда касавшиеся какого-нибудь частного творчества, никогда не желавшие оставаться на ступени, где еще всё дело в количествах. Как если бы с количествами было уже все понятно, и включение их в область качественных (например, жанровых) характеристик не вызывало затруднений. Но тут вспоминается Кьеркегор, с его анекдотом о трактирщике, продававшем пиво на один эре дешевле, чем покупал, и уверенном, что получит прибыль, поскольку «тут все дело в количестве». Простите! Удешевляя позитивные данные примешиваньем их к традиционной и в общем-то схоластичной и неточной «науке» о жанрах, а тем более к творческим биографиям, мы продаем на один эре дешевле, чем покупаем, и ничего не получим, кроме убытков, как бы ни было велико обилие таких смешений. Речь идет о том, что литературоведенье как наука о жизни перестало нас удовлетворять, и мы насыщаем его разнородными «позитивными» сведеньями, среди них такими, например, как: в кого и насколько успешно был влюблен поэт, создавая данное стихотворение? Lascia le donne e studia la matematica!
На деле, конечно, литературоведенью не грозит превращение в структурную лингвистику текста. Постструктуралистская эпоха, усваивая наследие структурных исследований, ощущает потребность в чем-то расширяющем метод, чем-то, что позволило бы говорить о самых разных сторонах того, что мы называем «письмом» или «дискурсом». О конструируемом «реальном», но и о воображаемом, задающем этому «реальному» горизонты. Не о психологии, но о жесте, направлявшем перо, ручку, молоточки пишущей машинки, уордовский курсор. О жесте руки писателя, создающего текст. Это совсем не то же самое, что дегуманизированный, абстрагированный «артикуляционный жест». Некоторая структуралистская аскеза, конечно, никогда не повредит, но на ней изучение литературного текста не завершается. Однако если это – историческое истолкование уже не только поэтики, но и смысла, в его конструктах, надлежащим образом проясненных, определенных in abstracto и in concreto – с точек зрения множеств и многообразий, то что оно такое? Что такое историческое истолкование смысла, какая особого рода интерпретация или какое обобщение осуществляется тут?
Мы знаем, что мы не вернемся к поспеловскому этапу. Но, может быть, установив должную дистанцию относительно такой «науки о жизни», как творческие биографии, мы вступим и уже вступаем в область новых форм филологии, будь это эстетика реципиента, эстетика бытия текста для читателя, будь это некая уточненная и ограниченная по методу социокультурная дисциплина, будь это расширенная текстология… у меня есть пожелания, но я не знаю, какой общий облик науки о жизни и бытии примет литературоведение. Ясно, что оно не погибло вместе с советским литературоведением, которое в своих исторических притязаниях было завязано на одном главном объекте – «реализме», и потому не могло не пасть. Оппозиция реалистическому литературоведению, науке об «отражении», слишком сильна, как сильны и полусознательные устремления к нему. Но повторю: в прежнем виде ему уже не быть. Как мы не будем Женеттами, Бартами, Леви-Строссами двадцать первого века. Ситуация крушения структуралистской Касталии пережита или переживается так же, как переживались распад и бессильная дряхлость традиционализма, уже перфект для нашего времени. Но и возникновение нового – развитие, сразу идущее от прекрасных касталийских руин и от убогих сараев школьной «науки» о литературе.