«Несоразмерность слова и слова». 13 стихотворений из новой книги
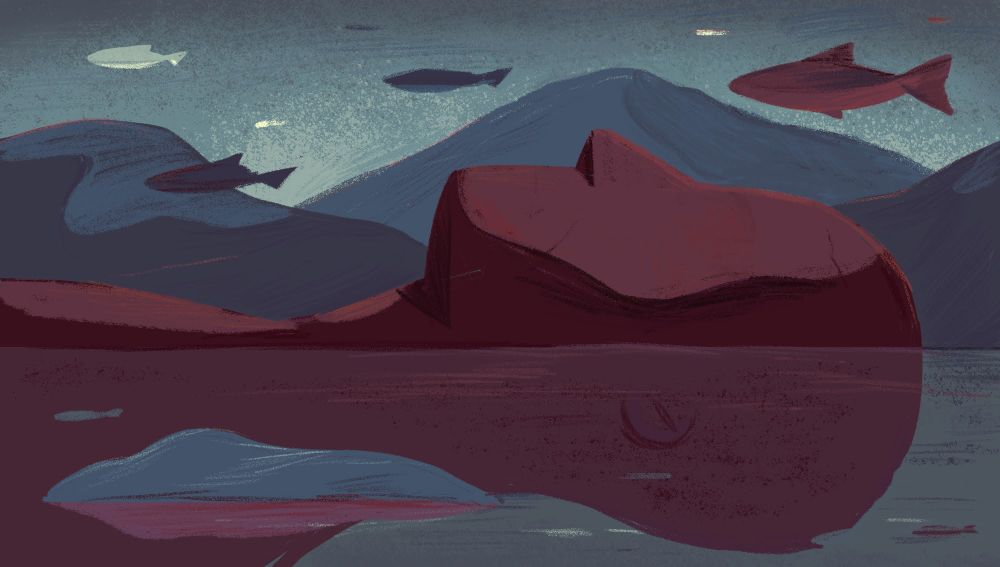
Иллюстрация: Ксения Горшкова
Анна Глазова — поэтесса, переводчица, литературоведка. Родилась в Дубне Московской области, училась в Московском архитектурном институте, затем в Берлинском Техническом университете, в аспирантуре Северо-Западного университета (Эванстон, США), где защитила диссертацию, посвящённую сравнительному анализу поэзии Осипа Мандельштама и Пауля Целана. Преподавала в Корнеллском университете, Университете Джонса Хопкинса, Ратгерском университете. Стихи публиковались в журнале «Воздух», альманахах «Вавилон» и «Черновик», антологии «Девять измерений». Переводила с немецкого произведения Пауля Целана, Эрнста Яндля, Фридерики Майрёкер. Перевела роман Роберта Вальзера «Разбойник» и сборник прозы Уники Цюрн. Автор пяти книг стихотворений. Лауреатка Премии Андрея Белого (2013; шорт-лист 2003, 2008).
•
Очевидное слово, которое мне приходит в голову при чтении стихов Анны Глазовой, — метафизика: разговор о категориях и свойствах мира, данных нам в его физике — очертаниях и движениях. Разговор этот компактен и плотен. Это небольшие заметки на страницах большой книги, которую автор не спеша заполняет. Обращение к сущности предмета, как правило некоего предмета природы, но иногда и своего собственного слова, слова-ребенка («их прикрыть бы»), отсекает хождение вокруг да около, нагнетает смысл. Кроме того, оно очерчивает, всякий раз заново, свои границы — границы метода.
Например, мысль о «разоблачении облака» позволяет разоблачить и саму себя — ведь продолжение мысли показывает, что в облаке на самом деле скрывалось много капель, хранилищ и ретрансляторов глубины. Облако разоблачается, капли падают, мысль движется («в месте соприкосновения / разрастается мысль»), стихотворение очерчивается: удивительно, как много в этих стихах движения при их кажущейся статуарности — впечатление которой обычно создают назывные предложения. Эти предложения обозначают ситуацию — но она отказывается фиксироваться.
Плотность мысли, которую мы ощущаем, в конце концов пролетает сквозь нас, истекает. «Как писать нетяжёлые книги?» — спрашивает Анна Глазова в последнем стихотворении «Лицевого счисления», будто полемизируя с фетовской надписью на томике Тютчева: «Вот эта книжка небольшая / Томов премногих тяжелей». Она пишет: «без тяжести / нет легкости». Тяжесть и легкость сосуществуют в этих стихах диалектически — диалогом внутри монолога.
поэт, критик
*
движение к сути —
нескончаемая воронка
полная танцев частиц
и текущих друг в друга мгновений
времени без источника.
смерч над водой
наполняется смертью водных существ
и кружение мелких чешуек —
неслышная песня
в рёве воды.
*
пусть поднимется сама глубина
(а не из)
и опустится прикоснувшись к
себе, схлынувшей —
то, что рвётся наружу,
касается дна, берегов
и
твоих чувств.
*
несборность рядовых столкновений
нарушения поведения сна
перед сном разумеется сходство примет
помеченных глазом
голосом перечисления лиц
ничего,
лишнего.
*
как бы вскользь
что-то уловленное
будто рыбкой
мелькнувшее по руке
совпадает с движеньем зрачка —
вдруг в друг-
ое отправлено дно
под водой ставшее
вдвое двуглазым
зрение зимородка.
*
несоразмерность слова и слова,
пока не легли на язык,
а когда легли —
их прикрыть бы,
как позой зародыша
взрослого сон.
*
живое с живым поделилось теплом,
из деления выросла разнородная дрожь
будто в пальцах при засыпании.
дрожь и кольца вокруг проткнутой тишины.
тоньше этого звука
точная принадлежность
всех отражённых во влечение знаний.
*
всё что вчиталось сюда между строк
промедление — разрыва — отсутствия
точки и строчки
между двух глотков и времени сна
всё что вместилось —
себя выпивающий выдох
и перерывы сна по частям.
*
разоблачение облака:
в нём ничего не скрывалось —
дождь смывает с воздуха плоскость обзора
в каплях множится глубина
и ещё углубления ищет
смежный со смыслом избывший значение жест.
*
как невозможность дальнего брода между
черновиком и чистовиком
когда сам в это втянут — правым, левым —
всё в чём-то сходится:
из брожения — в изображение
в то что оттолкнуто
от себя и от кажимости,
и тому же подобно.
*
выразимый только
приоткрытием губ
где-то взятый пример
(детства, смерти, события):
ничего не кончается
где нечему было распасться:
лучше сбыться на этих губах.
*
без тяжести
нет лёгкости,
без бессмыслицы
без
без:
в общей силе
к свободе
обещание равновесия.
*
в месте прикосновения
разрастается мысль:
уголёк зрачка в темноте
(будто внутри зверя подсвечен)
и ты чувствуешь
страх прозрачности.
кто-то кутается в меха,
кто-то сам скорняк или его поставщик.
не кто-то — в ворохе (шорохе) темноты
твой истекающий взгляд.
Из книги Анны Глазовой «Лицевое счисление» (Центр Вознесенского, 2020).





