Константин Куприянов. Рассказ «Нетолерантный пациент»
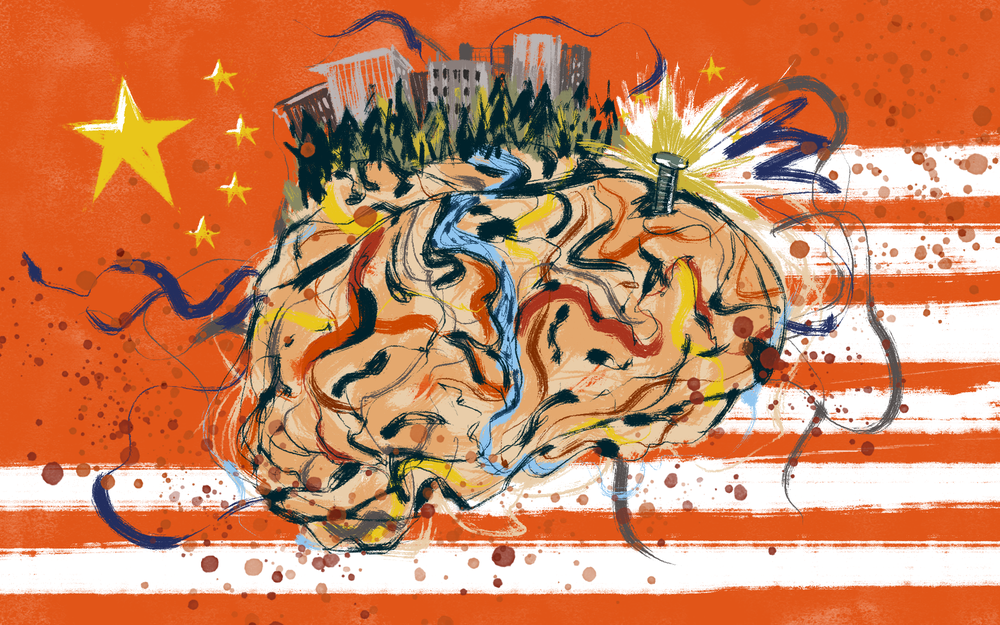
Иллюстрация: Ванесса Гаврилова
В начале ноября завершился второй сезон премии в области научной фантастики «Будущее время», учрежденной благотворительным фондом «Система». Победителем премии стала биолог, научный журналист и писатель Елена Клещенко с рассказом «Веревка повешенного». В шорт-лист премии также вошли: инженер-генетик Сергей Котлов, писатель Михаил Мавликаев, переводчик Владимир Прягин, руководитель проектов IT-компании Эльдар Сафин, культуролог и писатель Андрей Столяров.
Но нашим фаворитом стал «Нетолерантный пациент» — страшный своей правдоподобностью рассказ-предостережение Константина Куприянова про недалекое будущее, в котором за Уралом нет России — это теперь китайская территория. Для бывших россиян обязательны лишь три класса образования, библиотеки стоят сгоревшими и заброшенными, кроме лесоповала и стройки работы нет, люди озлоблены, ненавидят Москву, Китай и друг друга.
Павел выходит на свободу после долгих лет в китайской тюрьме. В его голову вживлен американский чип, который Павел ощущает важной особенностью, отличающей его от соотечественников. Он начинает ненавидеть их за слабость, за то, что они безропотно приняли участь рабов, а китайцев — потому что за вежливостью и жалостью прячут презрение к безвольным русским. И еще ему кажется, что вся ненависть в нем — и та, что довела его до заключения, и та что правит им на долгожданной свободе — именно из-за импланта, который ему вживили в ходе эксперимента много лет назад. Но чтобы избавиться от чипа, Павлу нужно будет усмирить свою гордость — ведь помочь ему могут только китайские врачи.
Нетолерантный пациент
Освобожденный подмигнул, махнул им и, расправив плечи, шагнул на свет. Последняя дверь лязгнула за его спиной, и вот уже был кругом лишь лес и его вкрадчивая вечерняя песня — и ни души вокруг. Он постоял, выпуская сигаретный дым и гнев из легких. Чуял, как с воздухом вместе в тело входит свобода. Удивительно, но стоило только оказаться по другую сторону стены, как несвобода улетучилась, будто ее вообще не существовало. Думал он эти двенадцать с половиной лет, что когда выйдет, то еще долго продолжит чуять на ногах кандалы, оковы на руках; думал, многие месяцы будут растворяться их следы и улетучиваться в памяти темные мгновения. Однако стоило вздохнуть раз-другой, и вот он уже не помнит ни горечи предательства, ни пытки неволей.
Размяв плечо, на котором висела легкая вещевая сумка — какие пожитки у лагерника? — освобожденный зашагал по распутице. Сладко чавкали худые сапоги, погружаясь во влажную почву. Лагерные хозяева предлагали ему обождать три дня и поехать на тюремном транспорте в город, но освобожденный наотрез отказался: добровольно остаться на трое лишних суток в клетке?! Уж нет! Пускай лучше лес и впрямь приберет его, да только умрет он теперь, что бы ни произошло, свободным человеком.
И вот он зашагал, пока смеркалось, прямо через тайгу, вдоль непролазных чащ — в лагерь петлей вела одна колея, отошедшая от имперской трассы, он шел к ней. Путь в три километра через грязь и поваленные тут и там деревья занял два с лишком часа, так что свет иссяк в небе, когда освобожденный достиг асфальта. Совсем зыбкая каемка холодного летнего света еще мерцала над сосновой опушкой, дремлющей и загадочно шуршащей при порывах ветра.
По асфальту шагалось быстрее, и по темноте мужчина продвинулся немного в сторону города, пока не попалась на пути автобусная остановка с ободряющим названием «ЛУЧ» («Лагерь им. У Чжаня») — сюда к тем счастливцам, кто добивался свиданий, прибывали родственники.
Остановка была аскетичной: бетонные стены, выкрашенные в синий, потолок черный от копоти и следов насекомьей жизни и бетонный же, утопленный в мусоре пол. Там, где когда-то была скамья, освобожденный расчистил себе место, выбросив бутылки, окурки, строительный и бытовой мусор, сваленный здесь, посреди бескрайней тайги, какими-то людьми, и с наслаждением вытянулся. Первый вольный сон, подумал он, завернул ступни в шарф, натянул шапку, последними спрятал ладони в карманы прохудившегося тулупа. Хитра таежная летняя ночь: если не холод, так комары сожрут тебя, коли не спрячешься.
Едва крикнула сова, он забылся сном и насладился самым сладким за двенадцать лет сновидением, тот защитил его от мошкары и даже маленьких лесных зверьков, никто не тронул освобожденного, и тот разглядывал разноцветный длинный фильм, пахнувший молоденькой девушкой, толстым, довольным жизнью котом, родным младенцем. Улыбался во сне, как будто сам сделался ребенком, и радость к утру чуть разгладила твердый морщинистый лоб.
С первым лучом, проникшим через кроны и щели в его берлогу, мужчина проснулся, подскочил и сделал кое-какую зарядку, чтобы прогреть остывшие на каменном ложе кости. Тело не ломило, хотя проспал он неподвижно на бетонной плите почти шесть часов — на воле спалось хорошо и среди мусорной кучи.
День начался для него рано, а потому отплатил щедрым плодом: уже к полудню освобожденный добрался на попутной машине до города. Сюда вечером приехали зять с дочерью. Он дожидался их на станции, глядя внутрь собственной бездны, где мерно горело пламя и тлела радостная надежда.
— Привет, — сказала дочь.
— Привет, родная! — воскликнул освобожденный.
Чуя, что они не в своей тарелке, он предложил выпить. Остановилась вся троица у дальней родственницы, в двухкомнатной квартире в недавно отстроенном рабочем районе. Когда они шагали туда, сирена на заводе прогудела, и улицы наводнили работяги — уставшие, но довольные, они возвращались с долгих смен.
Освобожденный позавидовал радости их вольного труда. Двенадцать лет он валил лес для китайской корпорации и всякий раз, убивая очередное дерево, чувствовал себя бо́льшим убийцей, чем когда совершал свое «преступление». А главное, делал он это из-под кнута — злой русский надсмотрщик следил, чтоб китайский хозяин получил довольно древесины для нужд империи. Здесь же, в вольном городе, рабочие люди хотя бы сами избирали себе цех и вид работы по вкусу.
Оказалось, что и родственница трудится на таком. Освобожденный насел на нее с вопросами, пока дочь и зять пошли купить снеди:
— Так чем, Глаха, ты занимаешься?
— Да все тем же, Павлуша. — Дородная женщина хлопотала вокруг плиты — газ никак не зажигался.
Павел поднялся и отстранил ее могучей рукой, ставшей стальной на лесоповале. Огонь вспыхнул, и они стали дожидаться чая.
— Ну, расскажи мне. Я ведь дюжину лет не видал мира!
— А телевизор как же?
— Телевизор, ха! Ну, если ты вертухай, то, может, полагается тебе телевизор, а если рабочий, как я, то изволь трудиться с шести до шести, апосля уже ни силы нет, ни желания. Если и глядели что, то на китайском.
— Да-а, — покачала женщина головой, осматривая освобожденного с головы до пят, — без желания тяжко мужику. А я — простая наборщица, секретарша…
— О! Кстати, сейчас-то у меня с желанием лучше! — Он по-свойски хлопнул ее по плечу, отвыкнув за годы обращаться с женщиной.
Впрочем, плечо Глаши оказалось таким же каменным, как его, — труд скопился в нем, словно свинец, и она даже не покачнулась от удара, а только кротко улыбнулась, пряча взгляд. Облизнула губы.
— Это хорошо, что лучше. Доброго мужика сейчас не встретишь, — виновато рассказала она, — все добро китаянки разобрали, нам одних бракованных довозят, да лагерные порой забредают.
Страстное помутнение охватило Павла от ее голоса, который изменился сразу после прикосновения. Вдруг он позабыл обо всем и бросился на нее. Очнулся, только когда спустил желание под визг чайника, увидал лишь теперь крепкую белую плоть под своими грубыми ладонями, услыхал тяжкое частое дыхание и возгласы.
— Чего ты, все уже? — разочарованно сказала двоюродная сестра, кончив кричать.
— Могу еще.
Но тут явились из магазина дочка с зятем.
— Ну, Пал Алексеич, будем? — весело предложил тот.
Дочка Татьяна ткнула его локотком. Глядя на нее, Павел подумал, что нисколько она не изменилась, хоть успела к своим двадцати шести родить двоих.
— Малышка моя, — сентиментально сказал освобожденный, выпив.
— Ширинку застегни, па.
Он поглядел вниз.
— Ему бы умыться, — заметила Глаша и отправила Павла в гнилую ванную комнатку.
Здесь он с наслаждением намылил черное тело, отмыл давнюю грязь из-под ногтей и редких волос, пролежал в блаженстве посреди маленькой теплой лужицы с четверть часа, пока ему не стукнули в дверь:
— Па-а, ужин!
Поели макарон и огурцов. Наконец-то выпил с зятем.
— Ну что, Петя, как детишки? Уже в школу ходят?
— Один уж кончил, — гордо отвечал зять, демонстрируя пацана с помощью голограммопроектора: трехмерный малыш гонял мяч по пустырю перед сгоревшей библиотекой.
— Ох ты ж! Вундеркинд? Сколько ему?
— Десять, пап. Он три класса обязательных кончил. Когда четырнадцать будет, пойдет на лесоповал, а то не прожить. Зато второго образованным сделаем.
— Лесопова-ал? — удивился Павел и впервые погрустнел после освобождения.
Чокнулись, выпили. Хозяйка поставил на стол закусок — огурцов маринованных да капусты.
Посматривала на него исподволь и крутила на пальце белые локоны — видно было, чего ей не хватило. И дочь морщилась, замечая это.
— Ну да, другой работы на районе нет, — сказала она, — шоб еще платили.
— А чей повал-то?
— Ну, известно чей! Что ты спрашиваешь? Ихнее тут все. Как и было.
Павел вдруг бросил жевать, закурил и поглядел исподлобья прямо против себя. Он смотрел мимо дочки, похотливой Глашеньки и зятя-дурачка. Вспоминал понемногу.
— Ты чего, па? — сказала Татьяна.
— Ничего, — вернулся к ужину.
Зять подвинул ему рюмку:
— Да давай.
Захмелев, он воскликнул:
— Выходит, пока лямку тянул, у вас так до сих пор китайцы и хозяйничают?!
— Ох, ну давай не начинай, ну пожалуйста! — взмолилась дочка.
— А чего? Чего не начинать-то? Я под ихним гнетом двенадцать лет без выходного дня отработал. Знаю только китайский Новый год теперь — давали отвальную и в баню пускали. Двенадцать раз в бане был за двенадцать лет! — Он глянул на зятя. Тот почесал бритую голову. — Все бесит. Черт бы подрал!.. — объявил Павел злобно, поднимаясь. — Где мне заночевать позволишь, хозяюшка?
Глашка с готовностью подскочила и побежала показывать комнату. Было тут пусто, лишь в углу стояла ее собственная постель, а подле той сундук со сменой одежды.
На этот раз любил он ее долго и подробно, позабыв о дочери, зяте. Когда уж сил не было, попросил принести ему водки и сигарет. Она принесла, легла рядышком и посмотрела преданно через полумрак, будто собачонка:
— Завтра еще останешься, Паша? Я выходная.
— Не знаю, — пуская дым под потолок, проговорил Павел. — Мне бы доктора обнаружить. Нейроимплантолога желательно.
— Кого-кого?
— Нейроимплантолога, говорю же. Чего ты уши не моешь? — Вид ластящейся бабы стал раздражать его.
— Это какой-такой доктор? Я о таких не слыхала.
— Есть такие. — Павлу было лень объяснять.
Чем больше времени проходило, а радости настоящей жизни делались физически доступны, тем злее он делался. Он ощущал, как в отсутствие монотонной работы приступами возвращается то, из-за чего он угодил в лагерь, — ярость.
— А чего делают? —Она вдруг приподнялась и заглянула ему за ухо.
— Эй, овца! Ты чё творишь? — Он одернул ее резко, так что Глашка взвизгнула от боли:
— Отпусти!
— Нужна ты больно.
Он сел на сундуке, курил теперь, уставившись на уменьшающуюся луну. От нее сюда втекал белый жидкий свет и подогревал в нем решимость.
— Ну Пашечка, ну расскажи-и!
— Да не похрен ли тебе?
— Нет, не похрен!
— Имплант у меня! Американский. Установлен по специальной лицензии, — не без гордости объяснил он, докурив. — Аж в Москву катался.
Удивленное бабье лицо вызвало вдруг раздражение, он вышел обратно на кухню. Тут уже стемнело, дочка убрала еду и вымыла посуду, улеглась где-то в коридоре спать. Освобожденный заварил себе чай и помешивал его оловянной ложкой в одиночестве. Изредка он прикасался к грубому застарелом шраму на голове и думал, вопреки природной скромности, что он не такой, как все.
— А чего делает он, твой имплант? — не унималась Глашка уже следующим утром. Пристала, едва он встал.
Похмельный Павел пробормотал что-то, наотмашь шлепнул ее по носу. Женщина изумленно уставилась, затем принялась реветь.
Раздраженный Павел вышел из дому. Было довольно рано, мало людей на улице — мамки с детьми да старухи. К его удивлению, на лавке у подъезда сидел на корточках зять, курил в одиночестве.
— О, ты здесь. А Татьяна где?
— В магазин детский пошла.
— А ты чего не с нею?
Зять удивленно пожал плечами.
— Ну, подвинься чуть. Чем ты занимаешься-то, на жизнь чем зарабатываешь, Петруха?
— Да я все то же. То тут, то там… Строимся.
— Строители, — с насмешкой, но и с уважением произнес освобожденный. — Слухай, а в городе нейроимплантолог-то есть? Или что же мне в Москву ехать?
У зятя даже сигарета едва не выпала изо рта. Он выпучился на Павла и затряс маленькой бритой головой.
— Чего с тобой? — нахмурился освобожденный. — Ты этого… контуженный, что ли?
Тот пошлепал губами, но так ничего и не сказал.
— Нейроимплантолог, — решил пояснить Павел, чтоб тот не решил чего неприличного, — это дохтур такой. Высокотехнологический. Мне нужон, а то я ведь двенадцать лет у врача не был, а у имплант головной, и надо бы каждые полгода промывать.
— Чем промывать?
— Да леший знает! Может, спиртом. Может, чаем. А может, и маслом машинным, — добавил, хохотнув.
— А у тебя, — осторожно начал говорить зять, — дядя Паша, еще случались эти… ну это… припадки? Как тогда.
Он многозначительно вытаращил глаза. Освобожденный нахмурился. Давнее дело он вспоминать не любил, да и в лагере как-то повелось не болтать особо о делах, которые завели заключенных в глубинную тайгу, на китайский лесоповал. Но, пожалуй, людей можно понять: все, что они знали, это скупые газетные заметки о полузакрытом суде, на котором он, Павел, ясное дело, утверждал, что ни в чем не виноват.
— Я ни в чем не виноват, — докурив, мрачно повторил он и сегодня.
Последний раз говорил эти слова тринадцать лет назад адвокату. Тот спустил очки на кончик носа и поглядел на обвиняемого как на дурачка. Раскосые черные глазки неподвижно замерли, затем он продолжил писать убористым мелким почерком и больше уж вопросов не спрашивал.
— Не виноват! — рявкнул тогда Павел, еще не сообразив, что его ждет.
Больше адвокат с ним никогда не встречался, только приходил на заседания суда и сидел там с неподвижным, идеально гладким лицом, будто манекен китайца, а не живой человек. На заседаниях показали запись, от которой сам Павел сперва обомлел и даже потерял дар речи: отчетливо было видно, как он с помощью кухонного ножа и какой-то под руку угодившей палки, орудуя с невероятной ловкостью и быстротой, расправляется с тремя русскими бандитами, пришедшими в поселок, чтобы пограбить. В те годы — обычное дело — царило в тайге беззаконие, и простые люди остались беззащитны против насилия. Согласно видеозаписи в течение шести секунд Павел убил троих здоровых мужиков, ни один даже не успел поднять оружие.
На секретной части суда, о содержании которой знали только полдюжины человек, включая самого Павла, долго и подробно выяснялись способности, которыми наделил обвиняемого имплант. Согласно официальной бумаге, пришедшей аж из Сан-Франциско — прямиком в их районный Братский суд, — никаких биологических процессов он не контролировал и личность не менял, а только собирал информацию. Значит, постановил суд, ловкий убийца сделал все сам: в отсутствие смягчающих обстоятельств получил за убийства червонец, а за неуважение к китайскому правосудию — сверху два с половой.
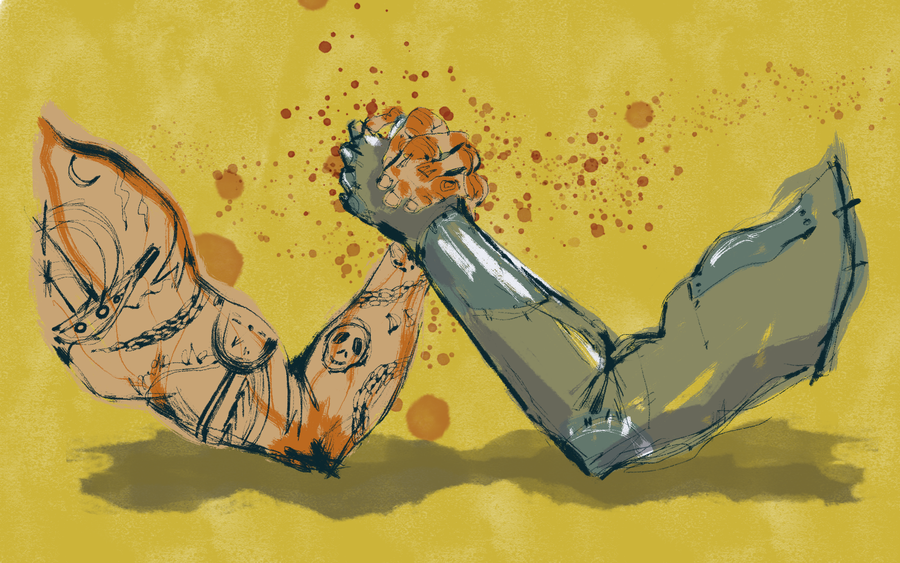
Но объясняться перед зятем не хотелось. Освобожденный посасывал кислую потухшую сигаретную жопку и размышлял. Выходит, раз тут даже слова «нейроимплантолог» не слышали, нужны деньги на поездку в Москву. Не оставаться же ему в неведении насчет того, что там с имплантом.
— А на кого ты, Петруха, работаешь? Кого строишь?
— Кого придется, — уклончиво сказал тот.
— Да ну брось. Ты чего со мной секретничаешь? Мы же родня. Говори прямо — на китаезов же?
— И на них случается.
— «Случается». Да я слыхал, у них одних во всей тайге деньги и остались. Откуда у русских-то деньги, а?
— Что правда, то правда, у нашего брата денег давно не водится.
— Давно-о. Я вот присаживался — водились, — мрачнея, припомнил освобожденный.
Зять затравленно посмотрел на него. Поерзал, слез со скамейки:
— Ладно, дядь Паш, я пойду это…
— Чего? Куда пойдешь-то? Таньку дожидайся. Лопочешь, будто дела у тебя есть.
Петруха виновато кивнул. Похоже, он сейчас и сам хотел бы оказаться поскорей под Танюхиной юбкой. Павел рефлекторно стал злиться, чуя чужой страх
— Ты чего это, Петруха, — он тоже слез со скамьи и оскалился на него, наклонился и заглянул в глубь Петрухиных голубых глазок, — мне не доверяешь, что ли?
— Доверяю, — сказал тот поспешно и отвел взгляд.
— А, ну хорошо. — Павел широко улыбнулся, чуть отступая. — Стало быть, прорабом возьмешь?
— Прорабом? Так я ведь сам прораб, дядь Паш.
— А, ну разнорабочим бери. У меня руки-то сам видишь — сталь. Каждый день как в спортзале. — Он хохотнул. Теперь, хоть и прошла лишь пара дней, лесоповал вспоминался как нечто отдаленное, почти смешное. — Во, да ты погляди, банки какие! Могу одной левой бревно подымать!..
— Э-э, да, руки отменные.
— Так ты согласился? — хищно улыбнулся освобожденный. — Работаем? Мне б сезон-другой — сколько на билет надо до Москвы? Самой дешевой электричкой готов отправиться. Да, деньги нужны. Сам понимаешь — ни гроша у меня, а здоровьем бы надо заняться.
— Слушай, Павел Алексеевич, ты только не серчай, но работы все уже разобраны. Ребята у меня есть, точки назначены.
— Чего-чего? — приложил к уху ладонь, будто не расслышал.
— Точки, говорю, назначены! — гаркнул зять. — Кто, где, чего — по бригадам уж раскидал, у меня ж парни-то свои, проверенные, пятый год мы.
Резким ударом в челюсть Павел опрокинул собеседника, тот подлетел, ноги оказались в воздухе, приземлился в мутную лужу. Освобожденный поднял тлеющую сигарету, вылетевшую изо рта зятя, — снова достался ему лишь невкусный окурок.
— Зятек, да ты меня что же, получается, в жопу послал только что? — с улыбкой уточнил он, когда Петруха кое-как очухался и сел посреди лужи, соображая, где он.
Он водил бритой маленькой башкой, приоткрыв рот, затем притронулся к нижней челюсти и кое-как двинул ее, раздался хруст, из глазок мужчины брызнули слезы боли, послышался стон, но Павел лишь расхохотался. Затем наклонился и дернул Петруху к себе. Легкий зять вскочил на ноги, но пошатнулся, почти сразу согнулся, обильно и громко блеванул завтраком себе под ноги.
Из-за зеленых дворовых кустов появилась Татьяна, груженная детскими причиндалами. Освобожденный принял у нее сумки и поставил на скамью, приветливо улыбнулся. Она вначале не поняла, в чем дело, но затем рассмотрела Петрушу и нахмурилась:
— Нажрались, что ль, уже?
Зять затравленно уставился на нее, по лицу его тек прозрачный пот, ничем не пахший, кроме разве что ужаса.
— Больной, что ли? — закричала на него дочь, заметив ссадину на нижней челюсти Петруши.
Тот притрагивался к ней, силясь сомкнуть приоткрывшийся рот, но челюсть больше не сдвигалась, и он так и стоял, чуть согнувшись, с приоткрытым ртом, выпученными глазами. Затем стал несмело мычать и пятиться, пытался жестом завлечь Татьяну в подъезд. Из окошек первого-второго этажей на происходящее смотрели люди, Павел даже помахал подростку, снимавшему его на телефонный голограммопроектор — прибор по превращению любой видеозаписи в трехмерную имитацию.
— Ты какого хрена устроил ему с утра пораньше! — орала дочь. — У него послезавтра клиент будет, как он с ним говорить-то станет?! Нам детям на шмот не хватает, бл**ь, а ты тут устраиваешь!
— Угомонись, курочка. То же мне мамаша, — сказал Павел, — сына в рабство собралась сдавать.
Зять начал скулить, издавая высокие звуки, будто зверек, молящий о жратве или пощаде. Он пятился, глядя на освобожденного как на исчадие ада.
— Мне-то сказал, что работы нет, что все распределил уже. Я ему и треснул, чтоб вспомнил, — низким голосом пояснил Павел.
Зять вцепился в Татьянину руку, но та отмахнулась и, прикрыв его собственным телом, надвинулась на отца:
— Он тебе, может, из уважения говорить не стал, что преступников в бригаду брать запрещают! Особливо убийц! Думал, трех человек измудохал до смерти, и все — все забыли?
— Я свою двенашку отмотал, — угрюмо произнес освобожденный. — Имею право теперь на труд и уважение. Я тебя защищал, между прочим! И мать твою, подстилку китаянскую!..
— Не бреши тут при людях! Черт ты злобный!.. Чего ты базаришь-то будто барин? У тебя ни гроша за душой, ты никто здесь, ясно?..
Павел угрюмо уставился на нее.
— Не стыдно? Мы все бросили, тебя забрать приперлись, а ты драться полез! Даже не пьяные ведь! — Она фыркнула. — Кобель ссаный. Лежал бы с Глашкой своей, я б еще поняла. А ты… Все! — повысила она голос, когда Павел начал было возражать. — Заткнись и слушай. Нахер идешь! Здесь останешься. Я-то, дура, думала, ты нормальный с отсидки выйдешь, по дому помогать сможешь, хозяйство поднимешь. А тебя, мудака, от детей подальше держать надо! Кролик подопытный! — завопила, когда Павел опять было стал спорить. — Глаха с тобой пусть теперь мается, раз ты ей нужон! А от нас держись подальше, а то ментов вызову. Пошли, Петя!
Она шагнула было в сторону своих пакетов, но освобожденный грубо оттолкнул ее и сказал:
— Ты, курица, с родным отцом так не базарь. Что отвечать не привыкла — я вижу. Вас воспитывать, видно, некому там было, как я отъехал. Да только не забудь: дом на меня записанный, значит, жить я буду там, если пожелаю.
— Пожелает он! Не записано на тебя ни*уяшеньки, придурок. Заткнись и дорогу дай!
На этот раз он толкнул ее, приложив настоящую силу, и дочь, ахнув, опрокинулась на асфальт, упала мужу в ноги. Тот перепуганно поднял ее, и в этот момент рот его, видимо, чуть сместился, он сумел-таки закрыть его, а потом и сказать:
— Пал Алексеевич, родной! Ты что?! Дочку-то!.. Как так?! Давай пошли выпьем, успокоимся…
— Понял я все про вас, мрази, — прорычал освобожденный. — Я — жертва интернационального насилия!.. — Он драматично повысил голос. — Не стыдно вам? Я на передовой технологической борьбы между Китаем и Америкой — главная ейная жертва. Думаете, последняя?.. Думаете, никого из вас война за создание не коснется?..
— Вижу, телик ты все же много смотришь. — Татьяна пришла в себя и заорала с удвоенной энергией: — Рот закрой!
Она шагнула и, не раздумывая, влепила ему пощечину. Тут освобожденный и сам чуть растерялся, в голове загудело, но он и вправду замолчал, даже немного успокоился, обнаружив в дочке силу, которой не ждал, и по лагерной привычке стал осторожничать с тем, кто дает отпор.
— Продался американцам, а нам теперь голову ебешь. Сам ты теперь подстилка! Работать лень тебе было! Вот и отдал им башку свою тупую на опыты. А ну не жалуйся, придурок! Иди в лагерь работай, лес дальше вали! С внуком. Это закон такой: для всех, кто из зоны, здесь только одна работа. Теперь понял, идиот?!
— Ты кого подстилкой-то назвала, Татьяна?! Я науку международную продвинул! Я с китайцами помогаю бороться, которые оккупировали нас тута! — принялся ответно орать Павел.
Вокруг уже собралась целая толпа, и кое-кто рассмеялся.
— А ну заткнитесь! Я вас всех отмудохаю, кто вякнет! — Он энергично закатал рукава и продемонстрировал людям татуированные руки, которыми и впрямь мог пользоваться как оружием.
Люд сибирский, хорошенько знавший цену насилию, притих, но улыбки не исчезли.
Вдалеке раздался вой сирены. Павел хищно прищурился:
— Китаезов вызвали! Полицаев!.. Суки! Сука, ты это сделал! — Он ткнул в Петрушу.
Тот задрожал:
— Не я, тесть, ты что! Я тут все время стоял же.
— Кто вызвал — молодец! — усмехнулась Татьяна. — Надеюсь, закроют еще на червонец тебя!.. А ну отвали! — Она попятилась, когда Павел бросился на нее. — Не приближайся!..
Сирена становилась громче. Если вначале Павел понадеялся, что едут не за ним, то теперь уж понял, что наверняка кто-то стукнул. Он с ненавистью осмотрел лица зевак, что вылезли из подъездов или повысовывали рожи из окон. Кругом была сочная зелень, напряженно жужжал в цветущей сирени пчелиный рой, занятый трудом вне зависимости от формы политической власти. Такой родной и сладкой показалась ему воля, что он чуть не заплакал, представив, что вновь очутится в кандалах, вновь бросят его на лесоповал и заставят незнамо сколько копить в груди черный гнев на жизненную несправедливость.
Тут из подъезда высунула беленькое личико Глаша.
— Сестренка! Спасай! Предатели полицаев позвали! — взмолился он. — Не дай сцапать!
Он кинулся к ней, вытянул ее за руку наружу и стал осыпать запястье поцелуями, приговаривая: «Спрячь, спрячь!» Глаша полминуты стояла растерянная, явно не понимая, что творится, но сирена приближалась.
Тут уж каждому ясно было, что машине остается только нырнуть через пару мгновений в арку, попрыгать по битому асфальту, расплескивая стоячую воду из луж, и через минуту-другую наряд мелких злых китайцев возьмет подъезд в оцепление, без лишних разговоров накинется на возмутителя утреннего покоя и повяжет.
Жалость замерцала в Глашиных глазах, и Павел, верно приметив это, закивал, гладя ее волосы, стараясь, чтоб она ничего не видела, кроме его худого лица.
— Да, сестренка, помоги, помоги, — хрипло зашептал он, кивая.
Она тоже стала кивать, одержимая похотью, волнением и желанием сделать добро.
— Не связывайся ты с ним! — крикнула им вслед Татьяна, но, конечно, Глаша уже не остановилась.
Влажная ее ладонь соединилась с грубой сухой ладонью освобожденного, и она потащила его в колодец двора. Они нырнули в противоположный подъезд и там прошли дом насквозь, выбежали через технический ход, не запечатанный вопреки инструкциям китайских хозяев. Очутились на просторной улице, по которой носились машины и где не было ни одного деревца.
Тремя полосами шло здесь движение, а основными его участниками были продолговатые оранжевые фуры, которые через городок везли бесконечный русский лес, превращавшийся в дальней красной империи в неисчислимое множество ценных предметов. Они перебежали на другую сторону и, обернувшись, увидели, как промчалась крякающая полицейская машина. Другие автомобили, взвизгивая тормозами, дали полицаям дорогу. Через мгновение сине-красная «чанглу» ворвалась во двор и принялась нервно крякать там, распугивая пешеходов.
— Гла-аша! — воскликнул восхищенный Павел и сам не заметил, как полез в ее красный приоткрытый рот, принялся целовать ее жадно и слепо, неумеючи.
Женщина онемела и стала легкой, как пушинка. Понемногу оба пришли в себя, ощутили стыд, ведь был светлый день и проходившие мимо дети глядели. Снова соединив руки, они побежали дальше.
Глаша отвела освобожденного на другой край города, в частный сектор. Здесь по довольно крутому холму теснились бревенчатые домишки, похожие один на другой, потому что все они были покрыты копотью и грязью — на том берегу широкой реки затмевал небо гигантский многофункциональный завод с семьюдесятью трубами, одновременно он в три смены качал пресную воду для империи, фильтровал и бутилировал ее и производил массу полезных побочных продуктов, которые продавали подневольному населению за их же гроши, а самые ценные везли в империю.
Хотя до дальнего берега Ангары был почти километр, завод затмевал собой горизонт, настолько крупным он был. По мутному черному руслу величаво шли баржи и сновали мелкие катера, беспрерывно доставлявшие работников, чтоб цеха не вставали ни на минуту — работа велась в четыре смены, — их белое мельтешение подчеркивало то, какой дурной сделалась вода за последнее десятилетие.
Домишки, погруженные в полумрак химического облака, стояли покосившиеся, а многие казались разваленными и брошенными. Бегали по пыльным улочкам облезлые унылые псины, заливисто лаяли на незваных гостей; освобожденный раз или два поднимал с земли палку, замахивался, чтоб отогнать наиболее голодных.
Почти у самого берега, на последней нижней террасе холма, где спрессованно стояли черные избы, Глаша отыскала дом за номером девять (улица носила геройское имя Си-Чуяня, великого китайского воина, уничтожившего за трехминутный бой шесть российских вертолетов, прежде чем его-таки погасили с неба). Заколотила в дверь, но никто не открыл. Впрочем, было не заперто.
Они вошли в сени, где пахло гнилью, старостью, сыростью, оттуда проникли в жилую комнату. Обстановка была бедной: стол, стулья, диван с причудливым горбом, а напротив — древний плоскоэкранный телевизор. Ни радио, ни голограммопроектора здесь не имелось, даже фотографии висели самые обычные, отпечатанные на матовой бумаге, так что ни одна из них не двигалась. Лица хмурых старых людей глянули на Павла из-под подола полумрака.
Глаша нашла керосинку и зажгла огонек. Все окна, кроме одной форточки, были плотно занавешаны, поэтому единственный освещенный угол находился прямо над столом, где вокруг неубранной посуды кружили черные мухи и осы. Женщина раскрыла пару штор, но из-за химической черноты, приставшей к стеклам, едва ли стало светлее. В пустых недрах холодильника она отыскала синюю куриную ногу, отварила ее и скормила Павлу. Отрыгнув, он позвал ее к себе на колени и быстро отдался грубой страсти, забыв, что все еще опасность до конца не миновала.
Вечером, когда обессиленные от любви Глаша и освобожденный пялились в телевизор, читая субтитры к китайскому сериалу, пришел хозяин, молодой парень в белой рабочей рубахе и с седыми волосами — выцвели и утратили силу из-за вредной, тяжкой работы на заводе. Имя его было напечатано на рубашке красным иероглифом.
Он нахмурился, не обнаружив окорочка на месте.
— А я, дура, чем питаться буду? — угрюмо спросил он, когда Глаша призналась, что куру поглотил гость.
— Не мороси, на рынок лучше сходи, — закуривая, посоветовал Павел. Сигареты также принадлежали хозяину.
— Ты-то, бл**ь, кто?
— Павел, — протянул руку и сжал пареньку ладонь, чтоб тот понял, за кем здесь сила.
Глаша поглядела с обожанием на то, как ее любовник демонстрирует мощь и как молодой родственник подчиняется нехотя.
— Гриша. Какого хрена куру мою съели?
Не дождавшись ответа, хозяин ушел во двор, отловил под кустами сонную кашляющую курочку, принес в сени и под безразличными взглядами курящих любовников отрубил ей голову мясницким ножом.
Осуществив отсечение, он вошел в комнату, позволил крови утечь в слив раковины, затем стал степенно отмывать руки. Тощее куриное тельце носилось в панике, путалось под ногами, будто надеялось обрести снова голову. Но ту, скатившуюся на крыльцо, грыз уж черный уличный кот, прокравшийся на шум и запах.
— Готовь, — сказал Гриша, закончив умываться. Птица как раз кончила бегать.
Вечером Глаша ушла восвояси, а мужчины сели за бутылку и глядели в синий экран, где наконец-то, лишь после десяти вечера, начали транслировать программы на русском.
— «Дом-2» — это зашибись, — одобрил Павел. — Боялся, закроют, пока сижу…
Гриша сразу подобрел и показал ему фотоальбом на стареньком примитивном айфоне: почти два десятка одинаковых селфи с грудастой блондинкой. Мужчины разглядывали каждую фотографию с большим вниманием, комментировали формы со знанием дела, закусывая водку корками черного хлеба.
— Приезжала в Иркутск, — пояснил Григорий, — в прошлом годе. Ох, я два часа на морозе в очереди стоял, чтоб только потрогать да пофоткаться. Такая баба!..
Оказалось, что Глашин родственник — отличный парень. За ночь Павел близко с ним сошелся и даже получил предложение пойти к ним на завод. Правда, уже утром Гриша от идеи отказался.
— Ты же сиделец. Тебя здесь никто не примет, кроме лесоповала, — проворчал он.
Освобожденный на лесоповал не хотел. Решил справиться про нейроимплантолога.
— Тебе, старик, в Иркутск надо. Большой город — там, может, и отыщется.
Павел приободрился:
— Да я только «за»! Как попасть-то?! Обложили меня, а главное, денег-то — ни гроша!
Нахмурившись, Григорий вышел на улицу, размялся, позвал гостя за собою. Вместе они отправились к реке. В русле на протяжении метров пятидесяти от берега простиралась помойка: все виды отходов, но в основном бутылки и картонные коробки из-под них, а также целое море покрышек, разлагающихся сухпайков, не доеденных рабочими, канистр, кусков механических приборов и прочей гадости, медленно растворявшейся в пахнущей бензином воде.
Мужчины, покуривая, прошагали по узкой тропинке вдоль черных камышей, пока не достигли причала. Здесь скучали какие-то мужики, колыхались на волнах моторные лодки. Трое людей играли в домино и прервались, чтоб с молчаливым любопытством глянуть на пришедших.
Гриша дал освобожденному денег, чтоб тот мог нанять себе лодочника. За полтысячи оккупационных рублей плешивый старик согласился доставить его до Ангарска — оттуда было всего сорок километров ходу до Иркутска. Ободренный такой добротой, Павел расцеловался на прощание со своим благодетелем. Одно печалило его.
— Глаху жалко — больно уж вкусная баба.
— Не переживай, старик, — хмуро отозвался Гришка, — в Иркутске баб — не перетрахать. Причем и китаяночки есть.
Павел скривился и сплюнул под ноги. Мужики стали гоготать. В большинстве мест запрещено было русским спать с китайками, из-за чего существовал нездоровый спрос на них там, где дозволение было дано. Но освобожденный такое не любил, объяснил досадливо:
— Узко мне с ними!
— Имплантированные есть, — заверил Гриша. — Нажимает на кнопочку, и пожалуйста — любой размер без неудобства помещается. Ладно, бывай, мне на завод пора.
На том простились. Пока дед, погрузившись в реку по колено, толчками отводил свою моторку в менее мутную часть водоема, где можно было уже включить двигатель и набрать скорость, Гриша подошел к краю причала и крикнул освобожденному:
— А за Глаху не переживай! Я заместо тебя ее…
Павел не услышал последней части фразы, но улыбнулся. Пусть уж женщину любит добрый русский мужик, лишь бы не китаез.
Постепенно нагревался воздух, день выпал теплый, и дед-лодочник стал улыбаться, говоря, что кости его-де не болят лишь в хорошую погоду. Разговорившись, Павел дознался, что десять лет назад мужику делали операцию, тоже какой-то эксперимент. Вживили в руку некий имплант, способный придавать лапе нечеловеческую силу.
Заспорили, начали играть в армрестлинг. Правую Павел сгибал деду без проблем, а левая у того и впрямь была как из железа — сколько освобожденный ни пыхтел-краснел, старик запросто укладывал его.
Павел, выбившись из сил, признал стариковское превосходство и лег на днище лодки, уставился в небо, пускал в свежий воздух сигаретный дым и улыбался, бросив о чем-либо думать.
— Ничего. Зато мы человечество продвигаем, — бормотал он, хотя дед вовсе не слушал, — благодаря тебе, да мне, да остальным детки будут умные, сильные, жить станут полтораста годков. Переживут китаезов да воцарятся заместо них в тайге. Эти-то имперские, они ж хлипики. Кабы не русский мужик, кто б им лес-то валил? Пусть хоть обпичкают себя имплантами, да толку что — суть человечью не переделаешь. Кто был размазней, тот ею и останется, особливо если Боженька китайцем дал родиться. Вот наше, русское богатство — воля да решимость! Мы — великих воинов колыбель, — добавил он, неосознанно повторяя лозунг центральнороссийского телевидения.
— Ага, да только армейку нашу они за пятнадцать часов опрокинули, — напомнил дед.
— А ты узкоглазный телик больше слушай. Они тебе не такое расскажут, — злобно отмахнулся Павел.
За три дня пешим ходом из Ангарска достиг он Иркутска. Был голоден: двое суток на одной воде и лесных ягодах. Пришел в центр реабилитации для бывших лагерников и с ходу получил черствого хлеба. Тут же съел его и, подкрепившись, справился об нейроимплантологии.
Отвечавшим был пожилой администратор-китаец, говорил на идеальном русском.
— Имеется, — сказал Чжан (так его именовала табличка на столе). — Улица Рабочая, дом девятнадцать. Может, вам такси вызвать?
— За чей счет? — недоверчиво спросил Павел.
— Империя платит бывшим узникам подъемные. Хотите, вам оформим? У вас справка-то от какого числа?
Павел протянул промокшую дорогой бумажку об освобождении. Кроме года выдачи и фотографии, все на ней оказалось размытым — чернила не выдержали невзгод речного и пешего путешествия. Тем не менее Чжан сделал вид, что все в порядке, и принялся печатать на компьютере, спросил имя, происхождение, степень участия в войне…
— На диване я сидел, — угрюмо признал Павел. — Думал, шутят по ящику. Тем более про пятнадцать часов-то.
— Вполне разумно! — закивал Чжан.
Через час он выдал освобожденному дебетовую карточку с хорошеньким балансом и переделанную справку об освобождении, ламинированную, чтобы предотвратить ее повторную порчу:
— Теперь у вас и денежки имеются, и главный документ! Спасибо за ваш труд в лагере, товарищ.
— Кобель вы***нный тебе товарищ, — хохотнул Павел, забыв на миг, что китаец понимает русский.
Тут чиновник сильно обиделся и больше уж ничего не говорил. Щурил зенки, пока освобожденный прятал свои новые драгоценности в секретный карман трусов.
У банкомата, впрочем, пришлось вытаскивать. Снял тысячу оккупационных рублей и прогулял их до вечера. Попробовал и китаянку, но даже с расширяющим бедра имплантом была она сухой и противной, как он и ожидал. Тявкала, как собачка, и ни слова не сказала по концу. Поэтому он небрежно скинул ее лапой с кровати и курил остаток своего часа, глядя в окно без мыслей.

Тоскливо ему стало от любви с проституткой, будто он продался и родину продал, хотя вроде как трахал оккупанта за свои же, честно обретенные деньги. Затем вошел увалень сутенер и выгнал его на улицу. Шел холодный дождь. Павел решил сэкономить и заночевал под мостом среди десятка безработных русских.
В шесть утра патруль погнал их оттуда. Город быстро просыпался: единственный выходной для рабочего люда, воскресенье, ушагал за горизонт, снова пришла сука-шестидневка. Впрочем, худа нет без добра, значит, и доктор откроется вскоре.
По названному адресу нашел он нейроимплантолога и пришел к порогу клиники в семь утра, до открытия оставался час. Дорогой курил, чтоб не скучать, наблюдая, как пробуждается городская жизнь. Иркутск разросся и коптил небо лесом фабричных труб. Множество новеньких мануфактур основали оккупанты и заморские инвесторы, чтоб каждый честный житель мог найти себе дело по вкусу.
К удивлению Павла, в клинику уже стояла очередь. Здание было совсем новым и пестрым, его украсили желто-синими поликарбонатными панелями, чтоб радовать глаз работяг, шагающих через промзону, где поместилось учреждение, на завод или домой. Над пластиковой белой дверью красовались надпись на китайском и перевод: «Клиника нейроимплантологии доктору Ван Ду Хуя! Мы рады всем».
Прямо перед этой дверью начиналась очередь: четверо китайцев стояли, раскрыв огромные газеты, и читали, синхронно склонив головы. Освобожденный пристроился пятым и сидел на ступеньках, позволяя утреннему солнышку греть себе лоб и щеки, скрытые жесткой грязной щетиной.
Когда начался прием, очередь впустили внутрь здания. Молоденькая секретарша доктора взяла у каждого документы, затем раздала опросники на китайском.
— Милая, — взмолился Павел, — а мне б на русском!..
Блондиночка, крутанув бедрами, повернулась к нему, поглядела сверху вниз с явным раздражением, однако Павел уже уставился на большой бюст, выпиравший из-под халата, и даже не приметил, что вызвал недовольство.
Вырвав из его руки листок, девушка ткнула розовым ноготком в верхний правый угол и затараторила на китайском. Тут Павел помрачнел, поняв, что она из тех детей войны, кто родной язык променял на тарабарщину. Хоть за двенадцать лет он немного выучил слова и мог отличить команды охраны: «Стой! Стреляю!» от «На обед!» (это спасло бы жизнь паре бедолаг, убитых при нем по недоразумению), — сейчас, будучи вольным человеком, он не желал понимать и замер, уставившись в сторону как истукан.
Девушка всплеснула руками и, раздраженно бормоча, ушла в свой закуток. Оттуда она принесла маленькую коробочку и почти насильно прицепила к уху пациента.
— Что не ясно вам? Это китайская клиника, — услышал он, когда она вновь начала говорить. — Учите язык или валите отсюда.
— Куда валить-то мне? Я сибирский мужик!
— За Урал валите, раз язык учить не желаете!
— О, ишь ты умная какая! Откуда сама-то?
— Из Омска. А ваше какое дело?
— Да никакого мне до тебя нету дела, прошмандовка, — огрызнулся Павел. Девушка густо покраснела, Павел поднялся с места и надвинулся на нее. — Подстилка китайская. Приехала тут, бл**ь… еще учить меня будет! Пошла вон от меня!.. Я токмо с дохтором буду разговаривать! — И он швырнул в нее аппаратом для перевода.
Девушка ловко поймала коробочку и разразилась минутной тирадой, но Павел сложил руки на груди и демонстративно повернулся к ней задом. В конце концов блондинка начала было дергать его за руки и даже царапаться, но тут уж он не сдержался, развернулся, поймал ее за пучок волос на затылке и легко притянул, будто котенка, на уровень глаз:
— Я с тобой, падла, не буду ни драться, ни ссориться. Шейку сверну сейчас, и к маме в бл**ский свой Омск поедешь, усекла?.. Что зенки-то вылупила, паскуда? Русский-то еще помнишь, шлюха крашеная?..
Он отпустил ее, девушка бросилась наутек.
К Павлу подошел молодой китаец из очереди и сказал:
— Это была отвратительная, унизительная сцена!
— Да? — Павел хмыкнул и закурил. — Может, ты меня не поучать будешь, а поможешь? Я на империю двенадцать лет пахал, а отношение такое.
Китаец вздрогнул и придирчиво осмотрел Павла с головы до ног. Тот состроил страдающую гримасу и стал похож на огромного обиженного младенца.
— Хорошо, мистер. Из уважения к труду и толерантности к вашему расовому несовершенству, — добавил он после раздумий.
Китаец попросил его выйти с ним на крыльцо, чтобы переждать истерику девушки, рыдавшей у себя в кабинете. На улице, кашляя из-за сигаретного дыма, он скрупулезно заполнил нужные графы, спросив несколько вещей у освобожденного.
Павел смотрел на хлипкого чудика — годков тому было, наверное, не больше, чем этой дуре. Но вот же человечище — изучил русский язык, понял, как надо обращаться с коренным населением. Отчего же наши, думал Павел, русские бабы такие неверные и так запросто бросают родину, чтоб прислуживать оккупантам в Сибири, которую русский воин Ермак покорил когда-то?..
— Спасибо, — сказал он китайцу, когда тот вручил ему заполненную анкету. — Ты где русский-то выучил?
— Где? В Интернете, понятное дело, друг, — сказал молодой человек. — Я сейчас любой язык могу за десять секунд выучить. Но по ограничениям — не более десяти языков одновременно.
Он причесал свою косичку перламутровым гребешком, а затем приподнял копну сухих волос над ухом и показал огромный, светящийся синим имплант, который, судя по очертаниям под кожей, занимал изрядную часть черепной коробки. Павел присвистнул. По сравнению с этим его собственный был жалкой мошкой. Впрочем, он все равно страшно гордился своей особенностью, делавшей его не только лучшим русским, чем большинство, но еще и придававшей статус борца за будущее процветание человечества.
Девушка — помощница доктора несколько раз прошла мимо, игнорируя попытки Павла отдать ей листок. Тогда уже сам имплантированный китаец обратился к ней и вступился за освобожденного. После ожесточенного спора листок все же был вручен, и она отнесла его в кабинет Ван Ду. Нейроимплантолог вызвал Павла через полчаса.
Оказалось, что доктор совсем молод. Если бы не пестрая лицензия, висевшая за его спиной, освобожденный усомнился бы, не школьник ли перед ним. Молоденький нейроимплантолог лучезарно улыбнулся, став похожим на свою фотографию на документе.
Его глаза были неестественного голубого цвета и сверкнули, когда он приблизился и протянул ухоженную ручку для пожатия. Павел понял, что имплантированные зрачки просвечивают его насквозь, такое — видел он в газетах и Интернете — тоже теперь встречалось сплошь и рядом, современные врачи давно уж при диагностике не используют ларингоскоп и даже колоноскопию. За окном, где-то в жилом секторе, прокричал петух.
— Двенадцать лет без сервиса, удивительно, — сказал после осмотра нейроимплантолог. — Еще и на тяжелой работе. Вы, часом, не Супермен?
— Я — росомаха, — улыбнулся Павел.
— Ха-ха-ха, какой вы милый.
Китаец быстро вбил что-то в виртуальный интерфейс голограммопроектора, и тот выпустил в центр комнаты радужный луч. Возникло огромное трехмерное изображение мозга освобожденного, контуры и извилины которого мерцали бледно-голубым заревом.
— Да-а, похоже, штука на положенном месте, — объявил Ван Ду. — Только я не знаю, как же мне ее вытащить для промывки. — Он снял маленькие очки и потер глазки.
— Как это не знаешь, родной? Ты ж дохтор, у тебя даже на входе написано, — вздохнул Павел.
Он помнил, что и до посадки не жаловал эскулапов — вечно они сомневались, причмокивали, крутили головами, а дельного сказать не могли, хоть с насморком обратись, хоть со вспышками ярости — все одно, советовали больше отдыхать и драли за свой совет пятьдесят рублев, хотя лекарств, кроме угля и клизм, в их районной таежной поликлинике не имелось.
— Да ведь он у вас американосовский.
— Американский, — поправил со знанием дела Павел и закурил.
— Ах да, вы правы, — огорченно признал Ван Ду и ввел поправки в свой речевой модуль, с помощью которого слова его трансформировались в русский. — Видите, сколько И. не учишь, он все равно в самом элементарном делает ошибки. Ясное дело, ведь делали в Калифорнии, а там с дисциплиной ужас что! У нас бы такое несовершенство просто не допустили до релиза.
— Ладно, — отмахнулся Павел, — так чего там не то? Почему не можешь промыть-то мне его? Сколько мне мучиться еще? — Он скорбно посмотрел на китайца.
— У вас же в анкете написано, что жалоб нет.
— Ну, жалоб нет, чего мне жаловаться? Я мужик взрослый. А страдания-то есть.
Китаец нахмурился и сел за стол, стал рыться в Интернете: было видно, как зрачки его мельтешат туда-сюда, пока он глядит на видимые лишь ему экраны, перемещаемые с помощью интерфейса нарощенной нанороговицы.
— Понимаете, — сказал он, закончив поиск, — ведь американские импланты имеют свои коды доступа для извлечения и обслуживания, а поскольку Собор с Хуавей не друзья сейчас, как вам известно, то коды эти нам тут просто так не доступны. Конечно, в Интернете все есть и можно купить не задорого, но… Я вот сейчас нашел код в Сети, который вроде как подходит, но меня лицензии лишат, если я его тут использую. — Он обвел кабинет глазами.
— Это же твоя клиника, малыш, ты чего? — Павел опустил ручищу на щупленькое китайское тело.
Вопреки его ожиданиям китаец нисколько не смутился, а вдруг нежно прикоснулся к руке и даже на миг прижался к ней лысой щечкой. Прикрыл глаза как бы от удовольствия. Павел оцепенел, внутри него все опустилось, он почувствовал, как желчь подступает к горлу — он был голоден, но все равно его затошнило. Тем не менее он сдержался и отнял руку, будто ничего не заметил.
— Моя-то моя, да ведь за нами пригляд такой, что мама не горюй. Даже в Уйгурии не так жестко, как тут.
— Почему?
— Говорят, «Сибирь разъедает». — Китаец пожал плечами.
Павел смутно вспомнил, что о таком и впрямь толковали по ток-шоу, которые глядели заключенные, когда им на китайский Новый год давали неделю отдыха.
— Кто сюда попадает, сразу коррумпируется и начинает сношаться с оригинальным населением, — сказал Ван Ду.
— С оригинальным?
— Тоже не так? Чертовы переводчики!.. — Китаец поднялся и приблизился к Павлу.
Сняв с пояса маленький приборчик, он попросил его наклониться и покрутил острое сверло нанодрели прямо над ухом пациента, в том месте, где был зашит экспериментальный имплант.
— Беда-а, — протянул он спустя пару минут, — военная модель… точно самоуничтожится, если я так его расковыряю.
Павел выпрямился и поглядел на него разочарованно. Ван Ду и сам, похоже, сожалел о своей беспомощности.
— Ладно, была не была! — воскликнул он после нескольких мгновений раздумья и бросился к столу.
Он выдрал из блокнота листочек бумажки и написал на нем что-то по-китайски, прикрывая от камер слежения вспотевшей ладошкой. Доктор, краснея, вложил в руки Павла записку. В ответ на недоуменный взгляд он подмигнул пациенту, приложил палец к губам и достал из тумбочки маленькие очки, которые, прилаженные к огромной голове освобожденного, позволили тому прочитать перевод записки на русский.
Что ж, Павел этого ожидал. Он тяжело вздохнул, закончив чтение.
— Дай мне сигаретку…подумать, — сказал он.
Курил долго, обстоятельно. Вымерял для себя важность и ценность: жизни, чести, свободы… Свобода, как ни крути, оказывалась на первом месте. С какой стороны ни поглядишь, воля — из золота, а все прочее — в лучшем случае серебро, а то и шлак обыкновенный.
Однако свободы без здоровья он не представлял. Придется вечно скитаться от одного доктора к другому, если вопрос этот не порешать. А Ван Ду предлагал полное извлечение, пусть и просил о невозможном. Согласиться показалось самым правильным. Пусть таким особенным он уже не будет, но ведь бывают и другие эксперименты, успокоил себя Павел.
Как знать, жизнь длинна, может, ему еще удастся однажды добраться до России, перейти Урал и устроиться подопытным к американцам или даже в Сколково. А это — прямая дорога в историю, слава на века. Главное, освободиться сейчас.
Смерив в крайний раз докторишку взглядом, спрятав свою брезгливость, он улыбнулся и кивнул, комкая записку. Тот покраснел еще сильнее, явно обрадовался. От волнения он даже пробормотал что-то на китайским, сдабривая это интимной хрипотцой.
Доктор крепко сжал ладонь Павла, в которой тот держал бумажку. Несколько мгновений он заискивающе заглядывал в лицо освобожденного. Тот сперва слабо улыбался, стараясь смотреть мимо нейроимплантолога в окно, потом понял и раскрыл ладонь. Ван Ду извлек свою записочку и, облизываясь от радости, сжег ее в пепельнице.
Поздним вечером Павел пришагал к указанному адресу: доктор занимал роскошную хату в частном секторе города. Это был один из районов, откуда выбросили русских жителей и перестроили все на китайский лад, сохранив для антуража историческую застройку и внешние очертания классических изб и коттеджей. Всюду были устранены заборы, чтобы китайские хозяева могли наблюдать друг за другом и перебрасываться по утрам и в выходные фразами напрямую. У многих имелись русские работники, слугой был и первый человек, которого повстречал освобожденный, дойдя до участка Ван Ду.
Несмотря на поздний час, мужчина с обвислыми щеками и горбом на спине орудовал садовыми ножницами, состригая с квадратных кустов лишние веточки. Яркий белый луч бил из его левого глаза, в то время как правый был скрыт под черной пиратской повязкой.
— Куришь, брат? — невесело спросил Павел, приблизившись.
Мужик уменьшил яркость глазного фонаря и обернулся. У него было изможденное лицо, казавшееся в плотных сумерках серым и болезненным. Он смахнул с черных усиков капли пота и вздохнул:
— А… это ты.
— Я? Ждешь, что ли?
— Да докторишка все уши мне прожужжал про «гостя». Я думал, его хахаль с Японии прилетает.
Павел причмокнул сигаретой во рту и со снисходительной улыбкой пустил дым в песью рожу слуги:
— Дурак, что ли? Я ему не хахаль, а пациент.
Слуга обвел освобожденного скептическим взглядом:
— Оно и видно. С тюрячки, поди, откинулся?
— Как знаешь?
Пожал плечами и жестом пальцев попросил сигарету себе:
— Чуйка.
— Где сам-то сидел? — поинтересовался Павел, делая вид, что ему это малоинтересно.
— В Уральской первой.
Освобожденный скривился:
— А… так ты люстрированный?
— Есть такое.
— Смотрю, неплохо устроился, петух сраный, — сплевывая ему под ноги, сказал Павел.
«Уральская первая» была построена близ Воркуты и известна даже тем, кто до поры обошелся без ходок: в ней мотали срок осужденные за «соучастие в работе режима» — чиновники и депутаты разных мастей, полицаи, чекисты, их дети и родственники и прочая шелупонь, владевшая короткое время властью. Сажали в основном не бежавших вовремя жителей европейской части России, потому что Сибирь и Дальний Восток уже не применяли к тому времени центральнороссийское законодательство. Не- многие могли похвастаться тем, что откинулись из «Уральской первой» живыми и здоровыми, а кто вышел — редко имел хоть рубль за душой, ибо новая московская власть жадно присвоила все конфискованное: деньги и заморские богатства.
— Сам ты петух. Думаешь, не знаю, чем расплачиваться с ним будешь? — огрызнулся люстрированный.
— Была б моя воля, я б таких, как ты, за яйца б подвешивал да сушил, как сверчков, под солнышком, — мрачно сообщил Павел, вспомнив, как на лесоповале в жаркие дни китайские надзиратели совершали подобную процедуру, приготавливая себе «живые сухарики» к пиву.
Мужчины докуривали в молчании, посматривая друг на друга с нескрываемой ненавистью. Вскоре из дома вышел Ван Ду. Он снова облизывал губки и нетерпеливо поглядывал на Павла, зазывая внутрь. Слуга поглядел на это с усмешкой, но ничего не сказал.
— А ты, Владимир Ростиславович, свободен до послезавтра, — ласково обратился к нему доктор.
— Рад стараться, ваше благородие, — отозвался тот и, бросив садовые ножницы прямо себе под ноги, заковылял по дорожке восвояси. Горб, заработанный тяжким физическим трудом, не давал ему выпрямиться.
— Образованнейший мужчина, — сообщил Павлу доктор, кивая на силуэт слуги, тающий в полумраке, — бывший какой-то министр русских исторических наук, я полагаю.
Освобожденный вошел в дом. Тут уже обстановка была совсем китайская, да и внутренность дома была отделана по последнему писку моды, а к тому же напичкана электроникой: светящиеся приборы глядели отовсюду, по сверкающему ламинату в зале ползало три маленьких робота-уборщика. Хозяин предложил Павлу снять обувь и походить босиком. Тот нехотя разулся, размотал портянки и пошевелил грязными пальцами, давно не видевшими белого света.
— Извиняюсь, — пробормотал он, заметив, что оставляет грязные следы на полу и к ним уже торопятся чистящие машинки.
Ван Ду улыбнулся, стремясь дать понять: все в порядке! Хлопнул в ладоши, отчего сразу заиграла нежная струнная музыка, раздалось пение цикад и плеск волн несуществующего моря.
В гостиную, склонив голову, вошла пожилая женщина. Она была старенькой, круглолицей, с раскосыми глазами — походила на якутку, — взгляд уставила в пол и ни разу не взглянула на Павла, пока доктор диктовал ей поручение. Кивнув, она взяла гостя за руку, отвела в ванную, где, по-прежнему не глядя на него и не реагируя на вопросы, принялась мыть в теплой воде каменные ступни освобожденного. Для этого она опустилась перед ним на колени, и Павел, пока женщина трудилась, оставил попытки заговорить с ней — курил и глядел, как двигается вверх-вниз ее горб и как вода в тазике делается черной.
Наконец она закончила, и Павел, обновленный, счастливый, воротился в гостиную. Доктор пил красное из бокала и слушал пятую симфонию Шостаковича. Он хлопнул в ладоши — музыка стихла. К служанке он обратился вновь на китайском (хотя, может быть, это был вообще некий третий язык), и та, низко поклонившись, удалилась. Вскоре входная дверь скрипнула, Павел наблюдал, как бесшумная тень покидает участок, волоча котомку за плечами.
— Теперь мы совсем одни, — томно произнес китаец и улыбнулся.
— Да уж. — Павел поковырял пальцем в ушной раковине. — Доктор, ну ты вначале мне штуку-то мою промой, а?
— Ах да. Я же скачал код. Пришлось обратиться к настоящим виртуальным пиратам, чтоб не попасться контрразведчикам, — с гордостью добавил он. — Пройдем в кабинет, мой друг.
Он завел Павла в небольшую комнату, где царил запах сигарного дыма и теплый карий цвет: массивные книжные стеллажи, огромный дубовый стол, паркет кофейного оттенка и библиотечные зеленые абажуры, распространявшие по помещению пресный электрический сок.
Доктор установил голограммопроектор в центре стола, над поверхностью возникло изображение мозга Павла. Надев наноперчатки, Ван Ду погрузил их в голограмму и начал что-то нажимать на интерфейсе, видимом только ему через глазные импланты. Павел ощутил боль за ухом, она усиливалась с каждой секундой и распространялась по всей голове. Он застонал, хватаясь за черепушку. «Вот и конец мой пришел», — подумал он, когда звон и боль сделались нестерпимыми, захотелось умереть, лишь бы пытка кончилась.
Доктор спокойно сказал:
— Прошу прощения, это происходит из-за долгого отсутствия техподдержки. Через минутку тебе станет легче.
И действительно, вскоре поверх голограммы в воздухе всплыл виртуальный поп-ап-экран, запросивший код доступа. Когда нейроимплантолог ввел цифробуквенный шифр, скачанный в пиратской бухте Интернета, боль моментально прекратилась.
— Я внутри.
Освобожденный издал стон облегчения.
— Прямо в тебе, мой друг, — понизив голос, уточнил Ван Ду.
Его руки действительно ковырялись в сердцевине голограммы — там, где сидела мошка импланта. Павел пожал плечами. Он чувствовал, как в его сознании что-то рябит и меняется, словно некий манипулятор нажимает на струны, образовывавшие обычно мысли, меняет их скорость и направление движения.
— Хм… похоже на обычный имплант для сбора информации… Скажите, а у вас бывали после его установки вспышки ярости?
— Нет.
— Вам повезло, мой друг. — Надев очки, доктор стал орудовать над столом маленьким пинцетом. — Я читал про эту модель: многие жаловались на изменения психики, хотя сам имплантик не дает личности ценных дополнений. Обычная эксплуататорская политика американских корпораций — мучить людей за гроши ради обучения Искусственного интеллекта. Еще и подвергать психику риску необратимых изменений, сращивая это с тобой. Сколько они заплатили за его установку?..
— Тысячу баксов, кажись, — пробормотал Павел.
Ему трудно было разговаривать. Слова, плававшие в голове, нехотя выстраивались во фразы, но даже произнести три слова вслух оказалось невероятно трудно: он словно продирался через заросли, вспоминая, как двигать языком и гортанью для создания звуков.
Доктор закачал головой:
— Думаю, мой друг, тебе надо избавиться от него.
— По-о… почему?
— Саркофаг импланта почти разложился. Гляди, какая эрозия. — Доктор продемонстрировал увеличенное изображение.
Имплант и впрямь выглядел не очень: обугленная черная точка, едва мерцавшая красным огоньком, в то время как большая часть поверхности подверглась деформации.
Павел промычал, пытаясь выразить свое мнение.
— Даешь согласие?
Павел простонал. Он понимал вопрос, но не мог составить ответ. Хуже того, он не знал, что ответить, ведь у него не стало ни желаний, ни мыслей — только жидкая всепроникающая неопределенность. Он почувствовал себя зверем в западне, понимающим лишь, что из нее надо вырваться, иначе — смерть.
— Кивни, если «да», — чуть строже велел доктор и сделал легкое движение, вызвавшее спазм сумасшедшей боли.
Павел поспешно закивал. Ван Ду облизнул губки, встал из-за стола и притянул к себе голову пациента. Миниатюрная дрелька сверкнула и загудела в его руках. Двумя быстрыми уверенными движениями молодой доктор вскрыл тонкий защитный слой вокруг импланта и извлек железку из головы освобожденного.
Павел на миг потерял сознание, а когда очнулся и сел посреди кабинета, все уже было кончено. Он провел рукой по шее, размазав по ней и затылку густую темно-красную кровь. Доктор был тут как тут: он уже приготовил вату, бинт, перекись водорода и спирт. Обработав ранку, ловкими, решительными движениями он запеленал пациенту голову, предварительно промыв и наложив жгут. Предложил рюмочку спирта. Павел с охотой выпил и встал на ноги.
— Вот, — сказал доктор. Пинцетом он поместил имплант в небольшую вертикальную колбу и поставил ее в один ряд с еще дюжиной таких же на книжной полке. — Моя американская коллекция.
— Неплохо, — сказал Павел и улыбнулся, радуясь, что вновь может мыслить и говорить.
Доктор усадил его в огромное кресло, стоявшее напротив стола под тенью фикуса:
— Ты же не против, если я его сохраню? Довольно старая модель — такие давно не делают. Тебе очень повезло: нынешние производят из обычного металла или даже пластика, а этот титановый, поэтому он тебе не повредил за столько лет, даже без обслуживания.
— Понятно.
— Но если будешь вживлять новые, то обязательно — обязательно! — ухаживай за ними, хорошо? — Ван Ду наклонился и заглянул ярко-голубыми глазами в самую Пашину душу: — Так что, подаришь мне этот в коллекцию?
— Конечно. Спасибо, док. — Павел устало улыбнулся.
— У тебя правда не было проблем с яростью из-за него?
— Яростью? Да я же добрейший души человек, — ответил освобожденный.
— Ну, славно. Значит, у тебя хорошая карма. — Китаец выпрямился и хрустнул пальцами. — Только десять процентов подопытных не испытывали искажений личности и психических заболеваний…
Он снова заискивающе улыбался и часто облизывал губы. Взгляд, которым он разглядывал гостя, стал откровенно похотливым. Павел невесело усмехнулся, стараясь оказаться поглубже в кресле. Ван Ду сел рядом и небрежно опустил холеную ручку на могучее русское плечо. Освобожденный с трудом сдержался, чтоб не блевануть.
— Мне б это… поесть чего, — сказал он, чувствуя, как во рту все пересыхает.
— Ах да, ты так ослепил меня своим великолепием, что я забыл о манерах! Пожалуйста, прошу за мной. — Китаец взял его за руку и повел в столовую, то и дело оборачиваясь и улыбаясь, словно смущенная девушка. — Прошу меня простить, дорогой друг. Это все твоя красота, она лишает меня воспитанности и сдержанности, но клянусь, я позабочусь о тебе.
В столовой был накрыт стол. Павел плюхнулся на маленький ротанговый стульчик и изучил обстановку: в центре стояли две плошки риса, кастрюля с жареными куриными ножками, маринованные свиные ребрышки, миски с тофу, овощами и фруктами, в изящные пиалы было насыпано немного конфет и налито розовое варенье. Также посреди маленьких посудин возвышался серебряный кубок, где, погруженная в лед, стояла бутылка «Оригинальной русской» (первая водка, которую китайцы стали производить после оккупации сибирских территорий). Настал черед освобожденного облизываться и глядеть хищно.
Китаец выключил подогрев стола, сохранивший пищу теплой, и предложил начать. Сам он не ел и не пил — сослался на особую диету. Поэтому Павел уговорил половину бутылки, закусив всем, что нашлось на столе. Ел он, громко чавкая и отрыгивая, специально чтоб сбить возбужденный настрой Ван Ду. Но тот, похоже, относился к манерам гостя безразлично: весь ужин с его лица не сходила маслянистая улыбочка.
Когда Павел почти доел, доктор наложил себе в миску тофу и съел неторопливо, будто это был его любимый деликатес. Он также разделил одну последнюю рюмку с Павлом, после чего собрал всю посуду и отнес на кухню.
Освобожденный, ковыряясь ногтем в зубах, последовал за ним. Кухня была просторной, в потолке оказалось прорублено огромное окно, откуда теперь на них взирал тонкий золотистый месяц, рожденный позапрошлой ночью. Напротив массивного гарнитура было приоткрытое панорамное окно, огромная веранда, увитая цветами, виднелась за границей яркого света. Оттуда на кухню сочились холодок и звуки таежной жизни.
Ван Ду выбросил остатки пищи, сложил посуду в посудомоечную машину и включил ее. Негромкая вибрация распространилась по комнате, сделав наэлектризованное молчание более волнительным. Павел попятился от двинувшегося к нему докторишки, уперся лопатками в холодильник и понял, что отступать некуда.
— Желаешь кофе или чая? — с придыханием спросил китаец, почти прижавшись к гостю щуплым тельцем. Был он на полторы головы ниже и практически дышал маленьким носиком в широкую грудь Павла.
— Да нет, пожалуй, — отозвался тот, — еще ведь спать ложиться.
Китаец усмехнулся. Затем отстранился и опустил взгляд, изображая смущение. Он будто ждал чего-то от гостя, но тот одеревенел и боялся пошевелиться. Он чувствовал, как предательски бурлит в паху кровь, несмотря на сознательное отвращение.
— Тогда подожди меня здесь, ладно? Никуда не уходи.
— Хорошо.
— Хотя… Может быть, ты предпочитаешь начать в кабинете?
— Нет-нет, — поспешно ответил Павел, — здесь в самый раз.
Он так и остался стоять в задумчивости, пока доктор плавной походкой удалился. Прислонился к холодильнику и курил последнюю сигарету из пачки.
Всякое вспоминалось ему в эти быстро утекающие минуты — и то, как сладка была молодость в беззаботное радостное время «вставания с колен», и то, как неслабо пришибло их при обрушении инфраструктуры, и то, как многие месяцы есть доводилось лишь грибы, ягоды да плоды с огорода: голод и продразверстка крепко прошлись тогда по городам и селам Сибири. Затем вспомнил он лихое беззаконное время, покуда устаканивались власть и закон китайских оккупантов. С удовольствием припомнил он дорогу в Москву тринадцать с лишком лет тому назад и свои приключения там: женщин, новых друзей, удивительные кабаки с редчайшими видами алкоголя, роскошно украшенные площади и неоновый блеск сверкающей сердцевины метрополии. Лиха была Москва и даже более богата, чем он смел вообразить. Хотя половина людей ходили в ней голыми и тощими от невзгод и голода, другая половина кутила и развлекалась по тем же улицам, будто не было ни оккупаций, ни страдания за границей стальных столичных колец.
Наконец, память добралась до дня, когда собственными руками он пришиб троих грабителей, в чем так и не раскаялся за все годы. Разве что печаль брала сердце, когда думал, что все трое были белобрысыми русскими парнями, а значит, могли бы дать хорошее русское потомство и населить опустевшую таежную землю честными, крепкими тружениками. Но, покуривал он, бабы нарожают новых, а паскуды, пришедшие грабить соседа-сибиряка, жить не должны.
Затем коротко вспомнил он лесоповал, двенадцать лет упорного каторжного труда, отделившего один берег его вольной жизни от теперешнего. Вспомнил немногих добрых людей в лагере, русских и китайцев, а равно и многих злых, сломанных неволей и тяжестью лесорубного труда. Впрочем, ни о ком не вспоминал он с обидой. Ведь все люди встречаются тебе как отражения самого тебя, даже распоследний негодяй есть твой брат и зеркало, а значит, все встреченное уже живало в самом Павле и лишь дожидалось нужных людей, чтоб проявиться. Этой духовной науке обучился он у книг и проповедников в лагере, объяснявших буддистские принципы посреди роя мошкары в прелой зеленой жаре на обочине, где перекуривали работяги между сменами.
Вернулся Ван Ду. Появился так же бесшумно, как ушел, одетый теперь лишь в полупрозрачный шелковый халатик белого оттенка, под которым виднелось смуглое тельце, черные соски, окруженные курчавыми волосиками, розовый кончик между ног. Он взволнованно дышал и улыбался, будто барышня на выданье.
Павел тяжело вздохнул и потушил сигарету в раковине, убрал себе в карман, шагнул несмело навстречу доктору.
Тот приблизился и обнажил плечи, но пока не снял еще халат и глядел, не мигая. Затем приказал машине потушить свет, осталось лишь свечение полумесяца в потолочном окне да ярко-голубые глаза-импланты, которыми доктор мечтал просветить голову освобожденного.
— Ты так красив, — прошептал доктор, а затем вдруг начал говорить по-китайски.
Говорил он несколько минут, с чувством, голос дрожал, под конец в глазах заблестели слезы.
— Чего это? — удивился Павел.
— О, это мое любимое стихотворение… Это поэма, написанная моим учителем, доктором Ся Ванем. Она посвящена русско-китайской дружбе: повествует о полевом враче, который находит на поле брани раненого, но еще живого русского пехотинца, и хотя тот проклинает его и отказывается от помощи, врач исцеляет его, сносит проклятия и ненависть, и в конце дружба и любовь побеждают человеческую нетерпимость. Ты никогда не слышал?
— Не-а.
— Хочешь я переведу тебе?
— Нет уж, спасибо, — Павел криво улыбнулся, — я стихи это… не очень как-то.
— Ну, ничего.
Вновь воцарилось молчание. Павел дышал чаще и потел от волнения.
— Знаешь, — сказал он, когда китаец начал мять его руку, притягивая к себе, чтоб освобожденный коснулся его, — я тут вспомнил: а ведь действительно я после импланта обозлился.
— Да?
— Ага. Трех человек я убил, — сообщил Павел в отчаянной надежде, что китайца это остановит, — самыми этими руками.
— Русских?
— Да.
— О, как мне жаль, милый! Это огромная рана на твоем сердце! К ней привели козни американских эксплуататоров, конечно. Как славно, что мы удалили эту занозу из мозга. Ах, западный неоглобализм губит столько душ. Каждое его слово — ложь. Они все еще мечтают жить в системе золотого миллиарда — эксплуатировать всех остальных любым чудовищным образом, лишь бы сохранить свое благосостояние. Порой я молюсь Кришне и благодарю его, что мы здесь, в тайге, вдали от растленного Запада. Какое счастье, что благодаря отцу и деду я получил хорошее образование и могу помогать простым русским и китайским людям, заблудившимся на тропах современных гибридных войн. Знай же! Твой разум и душа теперь очищены. Ведь ты отбыл срок, отработал свой долг перед Империей, а я избавил тебя от опасного дополнения к твоей личности. Ты свободный, вольный мужчина, — горячо говорил Ван Ду, — великолепный. И теперь полностью можешь переделать свою жизнь, стать иным, развить в себе поэта или художника, если пожелаешь. Или великого воина! Что угодно, ведь ты свободен!.. Подумай только: ты можешь поистине глубоко и открыто любить теперь, кого пожелаешь, ведь ты испытал самую темную часть своей ночи и вышел в достоинстве и чистоте. Теперь ты поистине более возвышенное существо, чем большинство людей на этой Земле. О, как ты прекрасен!..
Выслушав это излияние, Павел подумал, что разговорами делу не помочь. С тяжелым вздохом он стал ждать, что произойдет дальше. Ван Ду игриво посмотрел по сторонам, чуть попятился, увлекая за собой освобожденного, потом запрыгнул костлявым задом на кухонную столешницу. Теперь его глаза стали на одном уровне с глазами Павла, он поманил его пальцем, медленно раскрыл халат.
Павел понял, что мелкая красная точка, торчавшая у доктора между ног, это и есть весь инструмент, которым богат китаец. Он хрюкнул, подавляя хохот, Ван Ду мигом понял, смутился и расстроился. Глаза его выразили подлинную боль, и он поджал губы, отводя взгляд в сторону. Медлить больше не имело смыла.
Павел взял его левой рукой за шею, пытаясь изобразить нежность. Доктор послушно запрокинул голову, щуря глаза в предвкушении удовольствия.
— О, ласкай меня, пока я гляжу на месяц, — хрипло попросил он.
Правой рукой Павел достал из-за пояса кухонный нож, который притаил за пазухой, под рубахой, пока хозяин уходил переодеться. Крепко взяв китайца пальцами за скулы, он вздохнул и полоснул ему по горлу.

Синева вспыхнула втрое ярче в распахнувшихся глазах Ван Ду, голова задвигалась, будто совершая маленькие кивки. Павел бросил нож на пол, спеша зажать рану ладонью. Второй рукой держал жертве голову, уставившись в глаза, из которых убывала энергия. Он чувствовал под ладонью бешеную пульсацию крови, сдерживал ее напор, чтоб не запачкаться.
Китаец все сильнее трясся в агонии, его руки вцепились в плечи освобожденного, но тот не обращал внимания: главное было не позволить кровавому фонтану хлынуть наружу. Свечение глаз Ван Ду ослабевало, из уголка рта протянулась длинная кровавая слюнка. Он все еще смотрел с мольбой на убийцу, но уже и сам, кажется, понял, что песня его спета.
Когда тело окончательно обмякло, а глаза полностью потухли, Павел отпустил его. Кровь так и не брызнула, она стекала все медленнее, в такт прерывающейся пульсации, по телу, халату, столешнице, полу. Крови было так много, что освобожденному страстно захотелось курить, но ведь сигарет не осталось. Он вздохнул, отступая подальше. Труп сполз со столешницы, шмякнулся в лужу, подняв алые брызги, вздрогнул последний раз, затем газы и дерьмо вышли из него.
Павел включил свет и тщательно вымылся в раковине. В коридоре была его вещевая сумка, он спрятал туда окровавленную одежду, чтобы сжечь вскоре, и переоделся в чистое. После этого вооружился тряпкой и принялся оттирать все места, к которым притрагивался: сначала с тела и одежды доктора, затем с кухонных предметов и мебели в других комнатах, где побывал.
С полки в кабинете он забрал колбочку со своим имплантом, а затем похитил и голограммопроектор с намерением утопить в ближайшем водоеме. Рассчитывал, что отсутствие прибора и записей о его посещении замедлит расследование дела полицией, тогда успеет добраться до Владика, а оттуда, если даст Бог добрую судоходную погоду, недалече паромом до Сахалина. Уж там он укроется — благо японцы не выдавали русских беглецов империи.
Перед тем как уйти, он вернулся, чтоб поглядеть на труп. Посреди кухни, у края кровавой лужи, сидел огромный кот, размером с небольшого бультерьера, пробовал то лапкой, то язычком красную жидкость, словно гадая, что это такое. Почувствовав Павла, он поднял удивленную морду, запрыгнул на столешницу и, обернувшись, застыл в недоумении, навострил ушки, облизнулся. По пышной серо-белой шерсти бродила судорога волнения, полосатый хвост ритмично бил о знатные котячьи бока.
— Извини, брат. — Павел немного растерялся.
Он-то думал, в доме больше не было жителей. Животное сдавленно крикнуло, совсем как человек, и спрыгнуло со столешницы в темноту. Гудела посудомойка и пели ночные птицы.
Но коты, благо, показаний не дают, по крайней мере до той поры, пока и в них не вживят импланты. Хотелось надеяться, что, когда это произойдет, они не станут усиливать агрессию животных. Даже врагу не желал Павел своей судьбы.
Ему было жалко сейчас, во время отходняка после убийства, всех: и себя, и горе-грабителей, и других людей, даже китайца, которых он убивал по необходимости или из самообороны. Но честь и воля важнее, заставлял себя вспомнить. Только они и делают тебя личностью, особенным, не таким, как все эти миллиарды людей, растворенных в Интернете и вселенной голограмм — ловких сетях, имитациях реального.
Набрав в вещевую сумку, с которой пережил уже столько невзгод, кое-какой еды из холодильника, он погасил везде свет и осторожно вышел во двор через веранду. Улица давно спала, а месяц скрылся за тучкой, и стал накрапывать дождь, будто смывая с освобожденного преступление. Над каемкой леса уже брезжила белизна — первый свет придет в тайгу через час, но уже теперь начинает мерцать чуть различимый контур, призванный вскоре отделить тьму от света. По зыбким, нарождающимся очертаниям завтрашнего дня Павел намеревался ориентироваться, пока солнце не войдет в силу — к тому времени он будет уже далеко.
Прежде чем шагнуть в сторону леса, он задумался, не убить ли кота, ведь тот может поднять шум, когда проголодается, и тогда соседи раньше найдут тело. Но брать такой грех на душу он не решился. «Будь что будет», — сказал себе красивый русский человек и бросился бежать дальше за заветной волей.
Иллюстрации: Ванесса Гаврилова





