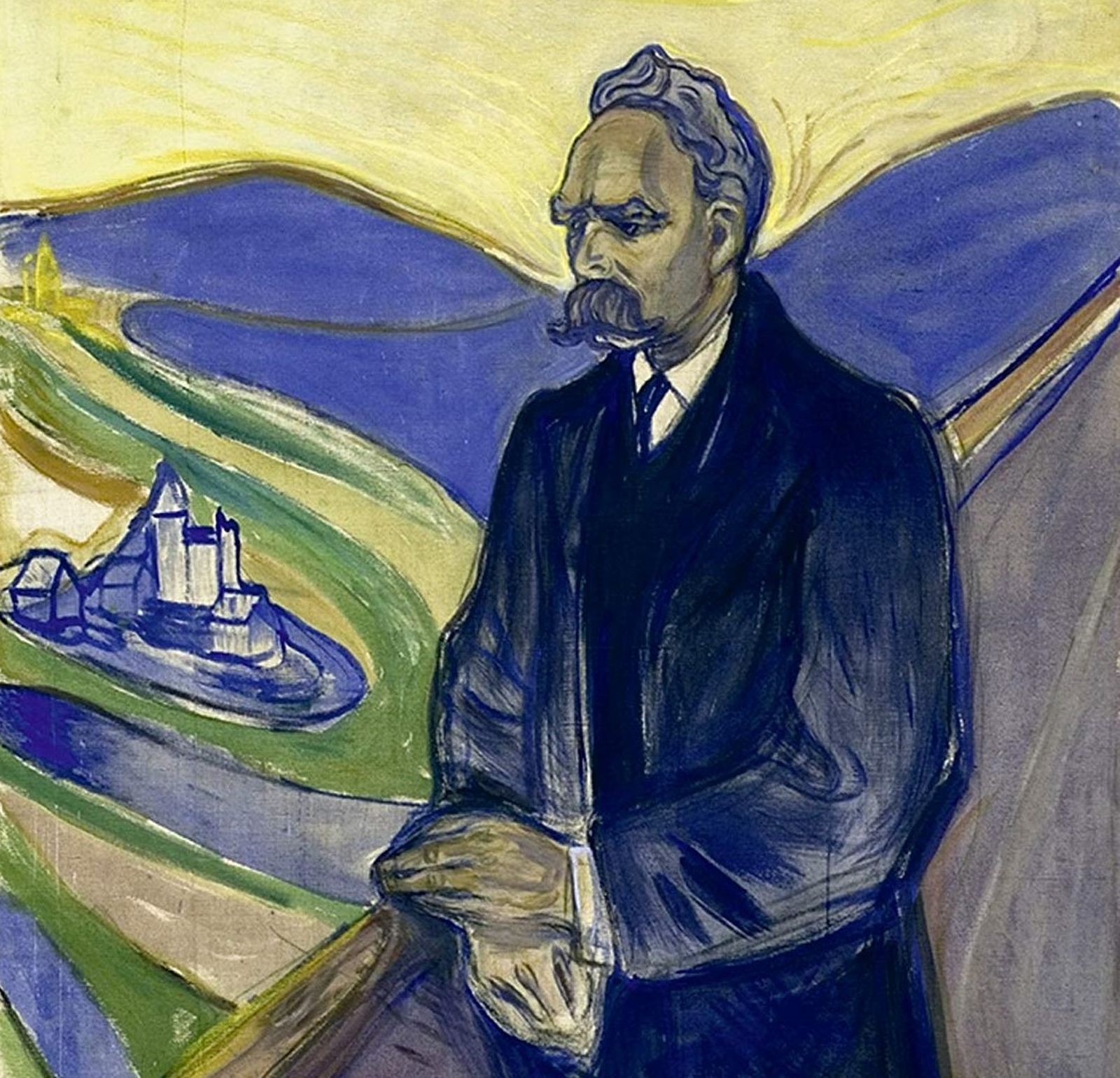Рюдигер Сафрански (р. 1945) — немецкий ученый и писатель, почетный профессор кафедры философии и гуманитарных наук в Свободном университете Берлина — известен увлекательными и глубокими биографиями Шопенгауэра, Хайдеггера, Шиллера. Его взвешенный и проницательный портрет очередного немецкого мыслителя — Фридриха Ницше — в 2016 году был представлен «Издательским домом „Дело“». «Дискурс», с любезного разрешения издательства, публикует одну из глав вышедшей книги о расставании философа с профессурой, его дружбе с Паулем Ре, движении от «Человеческое, слишком человеческое» к «Утренней зарей» и святотатственных рассуждениях о неморальных причинах морали.
В начале января 1880 года Ницше пишет своему врачу Отто Айзеру: «Мое существование — ужасное бремя, я бы давно отбросил его, если бы именно в этом состоянии страданий и почти абсолютного отречения мне не удавались поучительнейшие пробы и эксперименты в духовно-нравственной сфере. Эта жаждущая познания радость поднимает меня на высоты, где я одолеваю всякую муку и всякую безнадежность. В целом я счастливее, чем когда-либо в моей жизни». Это одно из тех многочисленных писем, в которых Ницше свидетельствует о взаимосвязи между физическими страданиями и его духовным триумфом. Особенно плохо ему приходилось в отдельные промежутки с 1877 по 1880 год: регулярные приступы ужасной головной боли, рвота, головокружение, глазное давление, слабость зрения, граничащая временами со слепотой. Зима 1876–1877 годов в Сорренто приносит некоторое облегчение. Однако, когда в летнем семестре 1877 года Ницше снова принимается за преподавательскую деятельность в Базеле, боли возвращаются. Весь следующий семестр он мучается с рутинными по характеру своих тем лекциями и семинарами. Обязанности учителя в гимназии (Педагогиуме) он с себя снимает. Это вызывает тревогу друзей. Ида Овербек сообщает в своем дневнике о разговоре с Элизабет — та приводит причины, «которые, вероятно, могут привести ее брата в сумасшедший дом». У самого Ницше это тоже вызывает опасения, поскольку он вступает в тот возраст, в котором его отец умер от расстройства мозга. Он боится, что ему грозит схожая судьба. В Байройте, где все ужасаются ницшевскому обращению в просветительство, циркулирует диагноз врача Отто Айзера, согласно которому новая публикация Ницше свидетельствует о «начале мозгового расстройства».
Ницше тянет лямку своих профессиональных обязанностей еще вплоть до самой весны 1879 года, но одновременно усердно работает над томами с продолжением «Человеческого, слишком человеческого». Готовя в марте 1879 года гранки для второй части книги, он пишет Петеру Гасту: «О боже, может быть, это мой последний продукт. В нем, как мне кажется, есть какой-то бесстрашный покой». В особенности в собрании афоризмов из второй части «Человеческого, слишком человеческого» можно заметить попытки ободрить себя, которыми Ницше хочет создать духовный противовес угнетающему его физическому упадку. «Все хорошие вещи — сильные возбуждающие средства для жизни, даже всякая хорошая книга, написанная против жизни».
Это замечание содержит важное указание на то, чего Ницше ожидает от мышления — не только пропозициональных истин. На внутренней сцене борьбы с физической болью существует еще и иной критерий истины. Его можно назвать экзистенциально-прагматическим. Этот критерий означает: идея обладает ценностью истины в той степени, в какой она живительна и способна порождать образы для того, чтобы противопоставить нечто тирании боли, которая иначе будет оттягивать все внимание на себя. Этот аспект самовнушения получит потом немалую значимость в случае с идеей вечного возвращения. Мы не вполне понимаем идею вечного возвращения, если рассматриваем ее просто как космологическую или метафизическую спекуляцию. Несомненно, Ницше верил в ее пропозициональную истину, но еще больше — в ее экзистенциальную преобразующую силу. Он понимал ее как требование жить в каждое мгновение так, чтобы можно было не страшиться возврата в это мгновение. Эта мысль должна сообщать каждому мгновению неповторимый блеск, она должна придавать жизни достоинство беспредельного. Об этом будет еще немало сказано в дальнейшем. Для Ницше идея может обладать такой ориентированной на телесное и преобразующей силой лишь в том случае, если она заключена в исключительно красивой и выразительной языковой оболочке. У Ницше чувство стиля практически граничит с физической чувствительностью. Он реагирует на особенности языка телесными симптомами — от воодушевления и радости движения до слабости и рвоты. Он находится в поиске таких фраз, которые способны вызывать движение в нем самом и в других, и он формулирует и ритмизирует их по большей части именно в движении — на ходу. При случае ему удается заглянуть в мастерскую своего мышления и своей речи: «Подкараулим-ка, подслушаем-ка хотя бы себя самих — в те мгновения, когда слышим или обнаруживаем новое для себя положение. Может быть, оно нам не понравится, потому что выглядит таким своенравным, таким самовластным: и мы бессознательно спрашиваем себя, а нельзя ли как-нибудь уравновесить его враждебной противоположностью, нельзя ли добавить к нему какое-нибудь „как знать?“, какое-нибудь „не всегда“; нам доставляет удовлетворение даже словечко „вероятно“, потому что оно пресекает лично для нас тягостную тиранию безусловного. Если же это новое положение, напротив, подойдет к нам в более мягкой форме, совсем терпимым и кротким, словно отдаваясь в руки противоречию, то мы попробуем испытать свое самовластие по-другому: не получится ли у нас помочь этому слабому созданию, приласкать и накормить его, сделать его сильным и тучным, сделать его истинным и даже безусловным?».
На этой сцене красота и сила положений и их ценность с точки зрения истинности — почти одно и то же. Во всяком случае воля к знанию должна прийти к договоренности с чувством стиля и ритма, дабы положения могли внушать утонченное, опьяняющее, внушающее благоговение, соблазнительное впечатление. С этим же связано и то, что в этих мыслях столько жизни, «как если бы они были индивидами, так что с ними надо сражаться, к ним примыкать, надо охранять их, заботиться о них, вскармливать их». На внутренней сцене эти идеи живут, как персонажи, ведя сражения между собой, и к этому театру идей применимы те же слова, которые были сказаны Ницше о греческой трагедии: «В том и волшебство этих битв, что кто их видит, тот не может не участвовать в них!».
У Ницше мышление является актом высочайшей эмоциональной интенсивности. Как другие ощущают — так он мыслил. Здесь присутствуют страсть и возбуждение, благодаря которым этот театр идей никогда не сможет превратиться просто в жизненный рефлекс или профессиональную рутину. «Еще живу я, еще мыслю я: я должен еще жить, ибо я должен еще мыслить». Ни о каком моральном долге здесь речи не идет. Нет, для Ницше мышление есть несравненное удовольствие, он ни при каких обстоятельствах не готов отказываться от него и благодарен жизни за то, что она дарит ему это удовольствие. Он хочет жить для того, чтобы иметь возможность мыслить. Мысля, он выносит те атаки тела, которые могли бы отравить ему жизнь. Он шлифует слова и мысли, чтобы в результате возникло нечто «ничему не поддающееся», даже нечто «непреходящее», что отправится затем в дальнейшее плавание вместе с потоком временем. Ницше мечтает об этой маленькой вечности и замечает, что тонко обработанной мыслью, пускай она даже будет ужасна, он чтит самого себя. С собственными мыслями надо общаться, как с «независимыми силами, как равные с равными». Между Ницше и его мыслями разыгрывается страстная любовная история со всеми перипетиями, какие вообще бывают в любовных историях. Здесь есть место и недоразумениям, и разрывам, и ревности, и вожделению, и отвращению, и ярости, и страхам, и восхищению. Страсть к мышлению позволяет Ницше устроить свою жизнь так, что в ней он получает материал для мыслей. Ницше хочет не только продуцировать изречения, которые будут цитируемы, но и сделать свою жизнь цитируемой основой для своего мышления. Жизнь как репетиционная сцена мышления.
В январе 1880 года, когда Ницше пишет цитировавшееся в начале письмо про единство творческого счастья и физической боли, «Человеческое, слишком человеческое» завершено, а в записных книжках начинает уже накапливаться материал для опубликованной спустя полтора года «Утренней зари». Для Ницше оба этих произведения относятся к одному периоду творчества, поскольку применительно к ним обоим верно то, что они на фоне сильных физических страданий подарили ему ту самую «жаждущую познания радость». «Никогда не находил я в себе столько счастья, — пишет он в Ecce homo, — как в самые болезненные, самые страдальческие времена моей жизни: стоит только взглянуть на «Утреннюю зарю» или на «Странника и его тень».
Оба произведения связаны между собой еще и тем, что в них Ницше ставит эксперимент по «переворачиванию» морали, искусства и религии, что означает — рассматривать их как феномены, не обладающие тем привилегированным доступом к истине, который приписывает им история. Четкую и вдохновляющую его формулировку основного положения своего анализа Ницше находит у своего тогдашнего друга Пауля Ре, который в отношении морали утверждал, что «моральный человек отнюдь не ближе к интеллигибельному (метафизическому) миру, чем человек физический — поскольку нет никакого интеллигибельного мира». Ницше приводит эту фразу (не полностью) в «Человеческом, слишком человеческом» и много раз еще, вплоть до Ecce homo, возвращается к ней. Однако Ницше идет еще дальше, чем Пауль Ре; не только нравственные ощущения, но и религию и искусство он вырывает из их метафизически-истинной почвы. Ре, чья книга «Происхождение нравственных ощущений» вышла в 1877 году, с восхищением признает большую смелость своего друга. «Я вижу свое собственное Я спроецированным вовне в увеличенном масштабе», — пишет он Ницше, получив первый том «Человеческого, слишком человеческого».
Ницше познакомился с Паулем Ре в 1873 году. Сын еврейского землевладельца, Ре после изучения юриспруденции обратился к философии и приехал в Базель, чтобы слушать там лекции Ницше, который был старше его всего на несколько лет. Их дружба пережила свой высший взлет зимой 1876–1877 годов в Сорренто у Мальвиды фон Мейзенбух. Между ними развилось интенсивное сотрудничество, они читали друг другу свои рукописи, давали советы, критиковали, редактировали. Пять лет спустя, осенью 1882 года, их дружба распалась из-за любовной коллизии с Лу Саломе. После разрыва с Ницше Ре опубликовал еще несколько книг по философии морали, затем изучал медицину, занимался врачебной практикой в поместьях своего отца, — толстовец, помогавший крестьянам и слывший среди них чудаком, едва ли не святым. После смерти Ницше Ре перебрался в окрестности Зильс-Марии. Там он работал врачом, леча местных жителей. Через год после смерти Ницше он разбился во время прогулки, упав с отвесного склона. Неизвестно, было ли это несчастным случаем или самоубийством. Незадолго до того Ре признавался: «Я должен философствовать; если же у меня не будет материала для философствования, то лучше всего для меня умереть».
После разрыва Пауль Ре хотел посвятить своему бывшему другу Ницше новую книгу о «Происхождении совести», однако тот отклонил это неуместное предложение. Тем не менее Ницше никогда не отрицал полученных им со стороны Ре творческих импульсов, даже несмотря на то что впоследствии он гораздо сильнее подчеркивал различия с теоретическими позициями своего друга — вплоть до утверждения в предисловии к «Генеалогии морали», что ему едва ли доводилось читать что-либо, чему он должен был столь решительно говорить «нет», «фразе за фразой, выводу за выводом». Одобрение нашла у него принадлежащая перу Ре критика метафизических оснований морали, «нет» же относится к мнению Ре, что моралью мы обязаны альтруистической натуре человека. В противоположность этому в «Человеческом, слишком человеческом» Ницше отслеживает следы морали вплоть до сфер, далеких от морали. История морали неморальна, а в нравственных ощущениях дает о себе знать не заложенное в человеке добро, а целая долгая история культурных привычек и уложений. Физиология тоже играет роль. Тот, кто действует нравственно, может казаться себе нравственным, но в действительности, объясняет Ницше, в нас «действует» эта история тела и культуры. Как же она «действует»? Прежде всего таким образом, что расщепляет человека. Мораль, как пишет он в «Человеческом, слишком человеческом», предполагает способность к «саморасчленению». Нечто в нас отдает приказы другому нечто в нас. Существует совесть и непрекращающееся самокомментирование и самооценивание. И все же могущественная традиция говорит об «индивидууме», стало быть о неделимом ядре человека; Ницше же размышлял о расщеплении ядра индивидуума, его главное положение в этой связи гласит: «В качестве существа морального человек ведет себя не как индивидуум, а как дивидуум». Поскольку индивидуум не является единством, он также может стать ареной внутренней всемирной истории, и тот, кто исследует ее, быть может, станет «авантюристом и кругосветным путешественником того внутреннего мира, что зовется «человеком». Как Ницше.
Тема морали была пожизненной навязчивой идеей Ницше. В этих раздумьях ему открылось, что главными из всех взаимоотношений человека являются его взаимоотношения с самим собой. Человек, «дивидуум», может и должен неким образом относиться к себе. Он — не одноголосое, но многоголосое существо, приговоренное к тому, чтобы (и одновременно имеющее возможность) ставить над самим собой опыты. Поэтому индивидуальная жизнь, равно как и жизнь культур, есть череда опытов над собой. Человек — это «не установленное животное». Если человек не может установить, определить себя, то все зависит от того, как он с собой обходится. Мышление Ницше отвечает на допущение свободы, которую он при этом одновременно отрицает. Однако ему близка внутренняя многоголосица, которая ставит человека перед выбором, какому из голосов доверить принятие решений. Мы склонны рассматривать многоголосицу как богатство. Но не может ли быть по-иному? Возможно, изначально были только слабые и сильные, различавшиеся по степени однозначности своей воли и тем самым — по ее силе. Сильная воля могла склонить более слабую. Она могла приказывать. Более слабые слушались, но жало приказа застревало в них, как чужеродное тело. Оно срасталось с ними, «усваивалось». Оно становилось совестью. Быть может, так возник «дивидуум» — израненное шипами приказов, расщепленное существо, которое с трудом учится превращать страдательность послушания в одержимость приказыванием и при этом остается мучимым нечистой совестью. Он научился слушаться, теперь он должен научиться приказывать — прежде всего самому себе. Но для этого он должен иметь почтение к самому себе и открыть в себе господина. Тот, кто слишком хорошо научился послушанию, тщетно будет искать в себе инстанцию, которая достаточно смела для того, чтобы отдавать приказы. Приказы, превратившиеся во внутренний голос, не только расщепили индивидуум, но и пробудили в нем недоверие к себе. В результате этой сложной истории в конечном итоге возникло то, что более поздние столетия назовут глубинами души.
Ницше сознает, что этот путь возникновения «дивидуального» существования невозможно пройти вспять. Дорога назад в доисторическое одноголосье внутренней жизни человека — если оно вообще когда-либо имело место — закрыта. Разломы, внутренние пропасти стали тем временем неотъемлемой частью conditio humana. И все же Ницше будет снова и снова требовать, чтобы человек творил «из себя законченную личность». Однако подобное цельное бытие означает не невозможное преодоление дивидуального способа существования, а действенное самоформирование и самоинструментовку. Нужно стать режиссером своих жизненных импульсов, научиться балансировать над своими пропастями и стать дирижером собственной разноголосицы. Пресловутая «воля к власти», которая в поздние годы вырастет, как мы еще увидим, во всеобъясняющий космический принцип и директиву большой политики, тоже всегда настроена у Ницше по определенному камертону и означает обретение власти над самим собой. Произведения Ницше в целом есть единая хроника бурных событий, которыми сопровождается этот захват власти над собою. Еще раз (см. главу 2) процитируем моральный императив Ницше: «Ты должен был стать себе хозяином, хозяином даже над своими добродетелями. Прежде они были твоими хозяевами; но им позволено быть лишь твоими инструментами наряду с другими инструментами. Ты должен был получить власть над своими за и против и научиться пускать их в ход и снова отменять, сообразуясь со своей высшей целью. Ты должен был научиться понимать перспективистский принцип всякой высокой оценки». Намеченные здесь взаимоотношения с собой суть отношения суверенитета, «в которых больше не имеет слова гражданская мораль», поскольку она требует надежности, постоянства, предсказуемости. Сделать себя «цельной личностью» Ницше обозначает как высшую задачу, которую каждый может решать на протяжении своей жизни. Однако такая постановка задачи вытекает явно не из истории морали, которая менее всего «рассчитана» на то, чтобы индивид становился «цельной личностью». Напротив, эта история — кровавое безумие, в котором люди оказываются расходным материалом. Тому, кто смог сделать из себя «цельную личность», это удалось вопреки истории.
Первый набросок такой развенчивающей иллюзии истории морали мы находим в «Человеческом, слишком человеческом»; она будет продолжена в «Утренней заре», а в «Генеалогии морали» анализ внеморальной истории морали будет доведен до своего завершения.
Уже в «Человеческом, слишком человеческом» Ницше опробует тезис, который еще сделает головокружительную карьеру в его произведениях. Он гласит: под моральным различением между добром и злом скрывается древнее различие между «благородным» и «низким». Что благородно? Ответ Ницше: благороден тот, кто достаточно силен, решителен и бесстрашен, чтобы «отплатить», если ему что-нибудь сделают. Благороден тот, кто может постоять за себя и умеет защититься и отомстить. То, что делает благородный, хорошо именно потому, что он сам хорош. «Плох» же «низкий». Он таков потому, что его самооценка недостаточна, чтобы прибегнуть к обороне сколь бы то ни было ограниченными средствами. «Благородный» и «низкий» таким образом — обозначения для разной степени уважения к себе. С точки зрения благородного, дурной человек есть ничтожество, которого нечего опасаться потому, что он даже не уважает самого себя.
Однако ничтожные люди могут — с точки зрения благородного — все же быть опасны, когда они, компенсируя свою слабость сплоченностью, переходят в наступление, будь то физически в реальном восстании рабов или же в духовной сфере, когда они переворачивают иерархию ценностей и добродетелей и подменяют добродетели господ моралью терпения и смирения. В «Человеческом, слишком человеческом» Ницше уже намечает свою критику ресентимента в морали. Он начинает также подвергать критике шопенгауэровскую мораль сострадания, перемещая акцент с чувства сострадания на акт возбуждения сострадания. Он видит орудие слабых в том, чтобы побуждать кого-либо к состраданию. Слабые выявляют тем самым слабость сильных, а именно — их способность ощущать сострадание; и этой слабостью сильных слабые начинают пользоваться. Могущество слабых — в их способности возбуждать сострадание. Тем самым страждущий находит способ «причинять боль» другим.
Другой пример того, насколько неморально обстоит с моралью и сколько незримой борьбы здесь разыгрывается, — это благодарность. Согласно провокативному тезису Ницше, она есть мягкая форма мести. Мы нечто получаем и тем самым ощущаем на себе власть другого, в данном случае благотворную, но все же недостаточно благотворную. Ведь теперь мы ощущаем себя должниками перед другим. Мы выказываем благодарность и возвращаем долг, быть может, даже превышающий при этом размер полученного. Мы освобождаемся за счет того, что меняем местами должника и кредитора. Ницше вспоминает в этой связи высказывание Свифта, что «благодарность свойственна людям в той мере, в какой они лелеют чувство мщения».
Ницшевский анализ морали преследует чуть ли не навязчивую тенденцию обнаружить замаскированную в морали изначальную жестокость. Поэтому открытая жестокость оказывается для него моментом истины. Здесь на поверхность выходит праистория вражды. Стихийное пробивает тонкий слой цивилизации. «На людей, ныне проявляющих жестокость, нам следует смотреть как на сохранившиеся до сих пор ступени прежних культур: геологическая система человечества вдруг раскрывает в них глубинные пласты, которые иначе остались бы невидимыми».
В «Утренней заре» Ницше продолжает анализировать лежащую в основе человеческих взаимоотношений жестокость. Он описывает то, как «утонченная жестокость» может стать признанной добродетелью. Когда кто-то пытается похвальным образом отличиться, не пытается ли он тем самым также и «причинить боль» другим, вынужденным видеть его выдающееся положение, не хочет ли он насладиться вызываемой им завистью? Не входит ли в творческую эйфорию художника также и «предвосхищаемое наслаждение» тем, как он сможет потеснить своих соперников? Не является ли агональный характер культуры в целом сублимацией готовности к жестокой борьбе? Какие тайные удовольствия стоят за целомудрием монахини? «Сколько карающего презрения в ее глазах, когда она глядит в лицо женщинам другой стати?». Ницше находит в религии достаточно подтверждений своему тезису о жестокости как творческом истоке цивилизации. Во многих культурах богов представляли себе жестокими. Их можно было ублажить с помощью жертвы. О богах явно думали как о существах, которым доставляет радость вид мучений и кровопролития. И даже христианский бог удовлетворился жертвоприношением своего сына. Тот, кто хочет потешить богов, должен устроить для них праздник зверства. Потеха богов есть человеческая потеха в укрупненном масштабе, поэтому «жестокость относится к числу самых древних человеческих праздников души».
Когда Ницше называет историю нравственных ощущений историей «заблуждения», он не оспаривает при этом того, что данное заблуждение несло и до сих пор несет культуросозидающую функцию. Пускай нравственное чувство является заблуждением в той мере, в какой оно воспринимает себя органом истины и путеводной звездой в вопросах подлинного предназначения человека. Однако именно в этой своей неверной самоинтерпретации оно оказывается одной из самых необходимых иллюзий, которые позволяют людям заниматься культурным моделированием себя. Нравственный закон, сколь бы репрессивным он ни был, способствует одновременно своеобразному самовозвышению человека. К примеру, существует табу на инцест. Можно взять и нарушить его: инстинкт и физиология, стало быть, природа, этому не препятствует. Здесь пролегает не физическая, а моральная граница, требующая сдержанности: послушание перерастает в конечном счете в самообладание, без которого не может обойтись культура. Лишь тот, кто может владеть собой, научится уважению к себе.
Многочисленные культурные заповеди и запреты служат практическим целям — евгеническим, экономическим, санитарным, политическим. Но Ницше предостерегает от того, чтобы проецировать пользу, которая зачастую выявляется лишь по ходу времени, в качестве исходно намеченной цели в начало процесса. То же относится и к самообладанию. Оно также едва ли намечалось как педагогическая программа, но является субъективным следствием запретов объективной нравственности. Нравы служат не для того, чтобы тот или иной индивидуум извлекал выгоду из их существования. Речь здесь идет не об отдельных людях, а о поддержании и развитии всего человеческого культурного устройства. Кому есть до этого дело? Не отдельным индивидам, будь то даже те, в чьих руках сосредоточена власть, а бессубъектному «субъекту» культурного процесса. Этот бессубъектный субъект воплощается в системе нравов и табу. Эта система заслуживает внимания независимо от того, видеть ли в ней пользу. Так объясняются те загадочные запреты, которые кажутся полностью бессмысленными и непрактичными и дают Ницше повод к такому заключению: «У диких народов есть вид обычаев, созданных как будто ради сохранения обычая вообще». Ницше упоминает в качестве примера монголоидное племя камчадалов, которым якобы под страхом смерти запрещено соскребать снег с обуви ножом, совать нож в уголь или класть железо на огонь. Подобные табу явно преследуют лишь ту цель, что «постепенно закрепляют в сознании постепенно вступающие в свои права обычаи и непрестанное принуждение их выполнять; и все это для укоренения первой нормы, с которой начинается цивилизация, а именно — что любой обычай лучше, чем никакой».
Обычай действует как система моделирования импульсов. Один и тот же импульс может под давлением определенных обычаев переживаться как мучительное чувство робости либо же развиться в «приятное чувство смирения», если оно, к примеру, вменено людям христианской моралью. Сам импульс не несет поначалу никакого нравственного характера. Последний возникает у него лишь как «его вторая натура». Агональная культура, например древнегреческая, оценивает зависть иначе, нежели культуры, ориентированные на равенство. Для греков не было ничего вопиющего в том, чтобы наделять своих богов чувством зависти, а для Древнего Израиля гнев служил доказательством величайшей жизненной силы, и потому священный гнев был отличительным свойством иудейского бога. Нравственность понималась в соответствующих культурах как система различения не только доброго и злого, но и истинного и неистинного. Системы морали, согласно Ницше, связаны с открытой либо имплицитной метафизикой самолегитимации. Однако при сравнении культур оказывается уже невозможным сохранять соответствующие метафизические претензии на истину. Великие истины расщепляются на множество культурных техник, которые явно существуют. Эта релятивация через соприкосновение с чужими культурами, напоминает нам Ницше, породила просвещение уже в Древней Греции. Этнографические исследования какого-нибудь Геродота привели ко взрыву мифически завершенного греческого культурного горизонта. В Новое время прежде всего Монтень использовал сравнение культур, чтобы умерить пыл иных притязаний на истину. В эту традицию встраивает себя Ницше. Он далек от того, чтобы отказываться от принципа нравственности лишь потому, что не оправдала себя ее имплицитная метафизика. Ибо мораль и нравственность остаются необходимыми. Он высоко ценит силу морали, сказывающуюся в моделировании импульсов и созидании второй натуры, и может поэтому утверждать: «Без заблуждений, заключенных в гипотезах о морали, человек оставался бы животным».
Ницшевская критика метафизической и религиозной самолегитимации морали хочет оставить в неприкосновенности работу моделирования импульсов и достижения «второй натуры». Единственно, что в будущем с ними следует обращаться более просвещенным образом и передать их сознательному водительству. Система нравственности из жаркого и туманного проекта должна сделаться холодным и ясным. Конечно же, кое-кто «продрогнет от дуновения подобного образа мыслей». Однако это не должно препятствовать нам просвещать культуру относительно нее самой, не страшась при этом затронуть тайны ее функционирования. В культуре, изолирующейся от просвещения касательно ее самой, возрастает внутренняя температура. Это можно назвать теплом домашнего очага. Когда страх свободы и метафизической бесприютности порождает панические чувства, тогда теплый очаг может превратиться в кипящий котел. Поэтому требование Ницше к «более духовным людям эпохи, явно все сильнее сгорающей в пожаре», прибегать к наукам, как «угашающим и охлаждающим средствам», используя их в роли «зеркала и способа опамятоваться» против настроя эпохи.
В «Человеческом, слишком человеческом» Ницше возлагает большие надежды на подобный «способ опамятоваться» не только в расчете на отдельных индивидов. Он допускает возможность того, что целая цивилизация, увидев себя насквозь и расставшись с прежними религиозными верованиями в судьбу, быть может, окажется в состоянии поставить «перед собою экуменические, охватывающие всю землю, цели». Коль скоро «человечество не хочет обречь себя на гибель от такого осознанного всемирного управления, оно должно сначала добыть превосходящее все прежние масштабы знание об условиях культуры как научное мерило для достижения экуменических целей».
Здесь Ницше близко подходит к подчеркивавшемуся впоследствии Максом Вебером различию между, с одной стороны, выбором ценностей, а с другой — рациональным познанием средств их воплощения. Наука не может принимать решений в выборе ценностей, однако, проясняя функциональную ткань культуры, она снабжает наши поступки критериями, которые позволяют судить о целесообразности средств. Также Ницше ждет от науки понимания «условий культуры», с помощью которого можно судить о том, осуществимы ли в принципе «экуменические» цели. Что касается самих этих целей, то Ницше вовсе не расстался со своими представлениями периода «Рождения трагедии». По-прежнему в силе его основной тезис об антроподицее, согласно которому человечество и история получают свое оправдание лишь в рождении гения. Смыслом истории являются «вершины мирового восторга», воплощенные в великом индивидууме и великом творении.
Коль скоро научный способ рассмотрения подрывает почву метафизической истины, то этим затрагивается в первую очередь мораль; однако само собой очевидно, что этим затрагивается также и религия, и, в конечном счете, искусство. Что касается религии, то в «Человеческом, слишком человеческом» и в «Утренней заре» Ницше понимает ее поначалу как метафизику для народа — совершенно в духе просветительской критики религии, распространенной в его эпоху. Он экспериментирует с немудрящим тезисом, что религия служит «наркотизации» при бедствиях, от переживания которых невозможно уйти иным образом. Когда познание природы продвигается вперед и вместо «фантастических причинных связей» открываются подлинные причинные связи, на болезни, к примеру, не смотрят больше как на божью кару и, вместо того чтобы молиться и приносить жертвы, принимают подходящие лекарства. Власть судьбы — отправная точка религиозных фантазий всякого рода — будет хоть и не сломлена, но все же ограничена. Это наносит вред власти «жрецов» и «сочинителей трагедий». Страдание, которое оказывается исцелимо, утрачивает свой мрачный, тяжелый в своей значительности пафос.
Если бы религия была просто способом компенсации за неустранимое зло и иллюзией магической власти над природой, то критика быстро разобралась бы с ней. Однако у религиозного чувства есть еще и другие аспекты, заставляющие Ницше задуматься. Прежде чем пуститься на эти раздумья, он, словно бы уговаривая самого себя, резко и бескомпромиссно постулирует выводы просвещенной критики религии — выводы, к которым он ощущает себя обязанным. «Еще никакая религия ни прямо, ни косвенно, ни как догма, ни как аллегория не содержала в себе истины». И «трюк теологов», смешивающих научное познание с назидательными спекуляциями, никого тут не должен вводить в заблуждение. Напротив, науку следует подвергать критике, если она «впускает во мрак своих последних выводов зарево кометного хвоста религии». Религия не должна драпировать себя под науку, а наука не должна переходить на религиозный шепот там, где у нее не остается аргументов. Ницше выступает за ясность в отношениях. Тем не менее он знает, что, открывая в религиозном чувстве одни лишь заблуждения, мы еще далеко не исчерпываем его.
Так что же еще можно обнаружить в религиозном чувстве? Это, особенно в христианстве, готовность к ощущению собственной греховности. Откуда берется это чувство, что за ним скрывается? Ведь это же удивительно, когда человек воспринимает себя «куда более грязным и скверным, чем есть на самом деле». У древних греков религия не предполагала такого пятнающего самовосприятия. Наоборот, благодаря тому что боги делили с людьми их добродетели и пороки, каждый мог чувствовать себя свободным от греха. Люди позволяли темной стороне своего существа отражаться даже в своих богах. На вопрос о происхождении чувства греховности «Человеческое, слишком человеческое» дает ответ, который в позднейших работах Ницше неоднократно варьируется. Он гласит: христианство изначально было религией людей, которые жили под гнетом и в бедности, которые не были благородны и о себе поэтому не думали благородно. Религия малого самоуважения. Христианство вконец погружало людей в «глубокое болото», в котором они и без того уже находились.
Это объяснение не удовлетворяет и самого Ницше, ибо указание на связь между социальной бедностью и малым самоуважением куда как тривиально. И поэтому Ницше взвешивает мысль, не отзывалось ли расслабление поздней римской культуры на чувство греха как на возбудитель или наркотик, особенно если потом в этом сокрушении мог «просиять «луч божественного милосердия».Не было ли то желание перипетий, драматизма обращения, не был ли тот «эксцесс чувства» тем, от чего хотелось получать наслаждение? Римская империя разрослась так безмерно и охватывала целый круг мира, в котором условия и люди становились все более схожими, исторические драмы отодвинулись к дальним границам — не была ли при таких обстоятельствах внутренняя драма религиозного обращения бесценным дополнительным источником интенсивности? Не был ли экстремизм раннего христианства курсом лечения против распространившейся скуки? Если культура стареет и «круг всех естественных ощущений» пройден бессчетное число раз, все дело в том, чтобы найти «новый вид прелестей жизни». Может, таким новым возбуждающим средством и было христианство. Обращенному оно давало душевную драму из греха и отпущения. А другим вид мучеников, аскетов и столпников доставлял удовольствие, после которого «становишься равнодушен даже к зрелищу борьбы между животными и между людьми».
Однако и с таким объяснением застреваешь в исторической генеалогии христианства, его карьера в чувствах людей вплоть до наших дней все еще непонятна. Чтобы продвинуться в этом, Ницше углубился в психологию святых, мучеников и аскетов, у которых особенно пышно разрослась причудливая поросль религиозных чувств. По этим виртуозам религии было видно, какая чудовищная сила самоподъема, какая экстатическая энергия работает в религиозном чувстве. Тут вообще больше не могло быть и речи о дурном, подавленном настроении, о смирении и скромности. Эти святые и аскеты одолевали в себе что-то такое, на что смотрели как на низкое и подлое. Но борьба их велась на два фронта: они есть ничтожнейшие, и они есть торжество над этим, низкое и возвышенное, бессилие и власть. Внутренне богатый человек живет в зеркальном кабинете. Когда он глядит, с одной стороны, в «светлое зеркало» своего Божьего подобия, собственное его существо видится ему «сугубо мрачным, сильно искаженным». Но в самые таимые свои мгновения он знает, что-то «светлое зеркало» есть не что иное, как увеличенный он сам, что в Божьем подобии он усматривает свои лучшие возможности, которые одновременно и возвышают, и унижают его. Эти отражения тоже имеют отношение к «саморасчленению», благодаря которому человек становится не только моральным, но и религиозным существом. Религиозное «саморасчленение» может радикализироваться до самопожертвования. Это происходит за счет того, что «человек любит какую-то часть себя — мысль, потребность, труд — больше, чем какую-то другую часть себя, и что на такой лад он расчленяет свое существо на части, принося в жертву одной части другую». Так, аскет, святой мученик торжествует за счет того, что унижает себя, и он полон гордости в этом своем унижении. «Это саморазрушение, это глумление над собственной природой (…) столь важное для религий, — на самом деле есть высшая степень тщеславия. Сюда относится вся мораль Нагорной проповеди: человек получает настоящее наслаждение в том, чтобы насиловать себя чрезмерными требованиями, а потом обожествлять эти тиранические требования в своей душе. В любой аскетической морали человек поклоняется одной части себя самого как Богу, а для этого вынужден дьяволизировать все остальное в себе».
Религиозный человек в свои высшие мгновения желает того же, чего желает художник: «мощной эмоции». Оба они достаточно нескромны, чтобы не оставлять нетронутым «чудовищное», даже если чувствуют, что это прикосновение их уничтожит. Такой вид гибели является для них «вершиной мирового восторга». Поскольку эта отдача себя чудовищному — общая одержимость как для религии, так и для искусства, у Ницше в «Человеческом, слишком человеческом» следом за главой «Религиозная жизнь» идет глава «О внутреннем мире художников и писателей».
«Мощная эмоция» в религиозном чувстве и в искусстве — разумеется, нечто необыкновенное, это интенсивность, напряжение и вместе с тем раскованность, а также раскрепощение творческих сил, эйфория удачи, вливание и излияние сил, приподнятое состояние, но в этом — такова холодная ницшеанская антитеза — нет высшей истины. Нельзя понимать приподнятое религиозное и художественное состояние так, как понимают самих себя религиозные и художественные экстатики: как посредников скрытых великих истин.
Но так — как высшее познание — понимал искусство молодой Ницше еще до своей работы о Вагнере. В мыслях об искусстве в «Человеческом, слишком человеческом» становится особенно ясно, что имеет в виду Ницше, когда в предисловии называет свой эксперимент с Просвещением «святотатственным замахом и взглядом назад». До середины 70‑х годов Ницше называл искусство «собственно метафизической деятельностью», а теперь он вступает в его храм с форсированной волей к отрезвлению и неверию. Он подстерегает в засаде свой энтузиазм и подозревает его в том, что в нем могут скрываться поверхностная мысль, туманные чувства, слабости и мистификации всех видов. Откуда этот курс лечебного отрезвления? В предисловии к «Человеческому, слишком человеческому» Ницше дает ответ. Он хочет исключить для «ума опасность, что тот затеряется на своих путях, влюбившись в них, и, опьяненный, останется сидеть в каком-нибудь уголке».
Каким искусство предстает перед адептом, который подозрительно относится к собственному энтузиазму и который — как бывший алкоголик — защищает свою еще непрочную трезвость от возможных искушений?
«Проблема науки, — писал Ницше в „Рождении трагедии“, — не может быть познана на почве науки». Он хотел «взглянуть на науку под углом зрения художника, на искусство же — под углом зрения жизни». Теперь Ницше делает своей проблемой искусство, и для искусства оказывается верным то же, что относилось к науке: его проблема не может быть познана на почве искусства, в случае с ним, так же, как и в случае с наукой, следует избрать иную перспективу. Необходимо выйти из заколдованного круга искусства: лишь так можно избежать того, что окажешься жертвой его автомистификаций.
Художник изображает и творит, он создает новую действительность. Ученый познает действительность. Художник имеет дело с оформлением, ученый — с истиной. С точки зрения художника, Ницше открыл в науке скорее вытесненный там, не осознаваемый ею вымысел. Наука хочет истины, но в ней есть место и силе воображения — больше, чем она признает. Наука умеет находить истины, но она и изобретает их. Искусство тем временем живет, по его собственному признанию, силой воображения, оно творит мир иллюзий и ткет красивое одеяние, которое набрасывает на действительность; оно имеет дело с видимостью явления. Наука требует разоблачения, искусство любит облачение. Но поскольку искусство близко знакомо с изобретением, от него не остается укрыто, сколько изобретения и инстинкта формирования прячется и в науке. Но наука и знать об этом не желает. Это Ницше называет «проблемой науки», какой она видится из ракурса искусства.
А в чем состоит проблема искусства, если он смотрит, наоборот, на искусство из ракурса науки? Она состоит в его претензии на истину. Эта претензия в искусстве, как правило, действует так же неосознанно, как власть вымысла в науке. Искусство прячет в видимости свою неявную претензию на истину, а наука прячет в претензии на истину свой неявный фикционализм. Ницше нападает на искусство за то, что оно претендует на истину, которую не может дать. Ницше бескомпромиссно заявляет: в искусстве «мы не соприкасаемся с «сущностью мира самой по себе». Художественные догадки могут казаться восхитительными, волнующими, глубокомысленными — тогда как они не более чем «представления». Они формируют настроения, но те не обязаны поэтому соответствовать истине.
Ницше достаточно хорошо знает свои навязчивые идеи, чтобы оценить масштаб разочарования. Долгое метафизическое привыкание сопротивляется этому. Влюбленная в тайну метафизическая потребность хочет узнать, что скрепляет мир на самом его сокровенном уровне. Этот метафизический инстинкт, после того как он был изгнан из пределов строго регламентированной науки, нашел прибежище в искусстве. Насколько этот инстинкт силен «даже в свободном уме», Ницше иллюстрирует на примере воздействия Бетховена. Его музыка, пишет Ницше, «заставляет звучать в унисон даже умолкшую, давно порвавшуюся метафизическую струну», к примеру, когда в Девятой симфонии Бетховена чувствуешь себя «парящим над землею в каком-то звездном соборе, грезя в душе о бессмертии». Этими фразами Ницше ссылается на статью Вагнера о Бетховене, но он критикует и свою собственную формулировку искусства как «собственно метафизической деятельности» и теперь утверждает, что тот, кто хотел бы утолить в искусстве метафизическую потребность, не выдержал «проверку качества своего интеллекта». Метафизика в искусстве — это полученное хитростью наследство религии. Метафизически ложно понятое искусство накладывает на жизнь «пелену туманного мышления». Точное мышление и точное познание тщетно искать у искусства. Побуждения искусства, скорее, препятствуют нам в жесткой и горькой работе познания. Они затрудняют «омужествление человечества». Искусство — при благосклонном рассмотрении — расслабляющая регрессия. Временное освобождение от прилежания и от принципа реальности. В искусстве мы вправе снова стать детьми, «на мгновения вновь оживает старое чувство и сердце бьется на уже позабытый лад». Но тут рекомендуется осторожность, как бы не вышло слишком много регрессии, иначе ведь грозит «погружение человечества во младенчество». Если слишком часто использовать временное «облегчение жизни», то можно снять с себя обязанность «трудиться над реальным улучшением условий своей жизни». Невозможно было высказаться яснее против столь высоко ценимого Ницше «трагического настроя» и за полезность и практичность. Ницше набрасывает едкие эскизы социологии современных потребностей в искусстве. Кто жаждет искусства и чего от него требуют? Ведь есть образованные, которые, правда, больше не ощущают ладан как благовоние, однако еще недостаточно свободны, чтобы совсем отказаться от «утешений религии», и поэтому ценят искусство, расслышав в нем эхо отзвучавшей религии. Ведь есть нерешительные, которые, собственно, хотели бы вести другую жизнь, но не располагают силами для «перемены» и поэтому взыскуют другого состояния в искусстве; затем зазнавшиеся, которые страшатся «самоотверженной работы» и для которых искусство становится кушеткой; есть еще умные досужие женщины из хороших семей, жаждущие искусства, потому что у них нет круга обязанностей; врачи, коммерсанты, чиновники, исправно исполняющие свою работу, но выискивающие чего-то более высокого, потому что их гложет «червь в сердце».
Что означает для таких людей искусство? «Оно должно на несколько часов или мгновений отогнать от них недовольство и скуку, наполовину чистую совесть и насколько можно придать основному пороку их жизни и характера величественный смысл порочности мировых судеб». Здесь к искусству гонит не избыток благополучия и здоровья, а опыт их нехватки. Такие любители искусства — люди, которые не в ладу с собой. Не «самодовольство», а «недовольство собой» ведет в наши дни к искусству, утверждает Ницше. Недовольству собой у публики соответствует безоглядное самодовольство у некоторых художников. Они любят свои произведения временами столь безмерно, что призывают к «уничтожению всех условий», препятствующих их воздействию. Ницше не называет имен, но явно имеется в виду Рихард Вагнер, который ведь и впрямь стал политическим революционером — ради своего искусства.
Слухи и легенды, которые вьются вокруг больших художников и порой подпитываются ими самими, поднимают много шума про вдохновение и страдания за человечество. Для Ницше это относится к мистификациям искусства. В действительности в деле участвует меньше вдохновения, чем принято считать. «Все великие были великими тружениками». А что касается «страданий гения», то следует быть осторожными. Ведь некоторые делают вид, что пекутся не только о людях, но и о судьбе человечества, и что хотели не только создать произведение, но и обновить всю культуру, и при этом всюду натыкались на непонимание и ограниченность, и это было их самым великим страданием. Против этих мегаломанских самомнений некоторых художников — естественно, опять подразумевается Рихард Вагнер — Ницше рекомендует здоровое недоверие. Великие художники, объясняет Ницше, чувствуют себя обиженными, когда они заводят свою «дудку», а под нее никто не пляшет. Это может быть досадно для художников, но можно ли назвать это «трагическим»? Может быть, и так, злобно иронизирует Ницше, поскольку подчас страдания художника, который чувствует, что его неверно поняли, бывают «и впрямь неимоверны, но только оттого, что столь неимоверны его тщеславие и зависть».
Ницше очень строго обходится с искусством и со своей собственной страстью к нему. Он не щадит и свою любовь к музыке. Музыка для него была и есть язык чудовищного, дионисийской тайны мира. Она для него святая святых. Именно поэтому не надо чураться «святотатственного замаха» по отношению к ней. Он пишет с форсированной отвагой, которая не щадит сама себя: «Музыка как таковая никогда ни глубока, ни полна значимости, она не говорит ни о «воле», ни о «вещи самой по себе». Только философски образованный и, может быть, избалованный интеллект вкладывает в нее так называемое более глубокое значение. Мы лишь «подозреваем», что из музыки говорит чудовищное. Но на самом деле из нее говорит история символов, слуховых привычек, техник, проекций, чувств и недоразумений. Музыка — это «просто шум», который только через детские воспоминания, образные ассоциации, телесные ощущения постепенно нагружается смыслом. Она не есть «непосредственный язык чувства».
Эти замечания сформулированы исключительно злобно. Ницше хочет задеть все, что на вид и на слух кажется больше, чем есть на самом деле. Нетрудно представить себе негодование Рихарда Вагнера, когда он читал такие фразы. Козима Вагнер констатировала скромно и просто: «Я знаю, что здесь победило зло». Ницше прописывает себе курс лечения отрезвлением, потому что он хотел бы воспрепятствовать тому, чтобы «глубоко взволнованные чувства» поэтов, музыкантов, философов и религиозных энтузиастов «захлестнули» его. Поэтому следует отдать их во власть духа науки, «который в целом дает более холодную и скептическую установку, а в особенности остужает раскаленный поток веры в окончательные истины». Времена великих искупительных чувств в метафизике, религии и искусстве Ницше называет «тропической» эпохой, и теперь он видит, что надвигается «умеренный» культурный климат. Он хочет содействовать этой перемене погоды и ускорить ее. Однако не так уж ему хорошо при этом. Он знает, что охлаждение таит в себе и опасности. Они кроются в «обмелении и уплощении» жизни.
В «Человеческом, слишком человеческом» Ницше, как мы видели, поторапливает эксперимент остужения, однако, как герои на сцене временами говорят «в сторону», выдавая свои мысли у рампы, так и Ницше дает понять, что его размышления — это переход. Как далеко можно уйти с духом науки, чтобы не очутиться в пустыне — этот опасливый вопрос прозвучит неоднократно. Конечно, научное любопытство поначалу освежительно, живительно, освободительно. Однако истины, к которым мы привыкли, становятся все безрадостнее. «Если же наука доставляет все меньше радости, отнимая все больше удовольствия своими подозрениями в адрес утешительной метафизики, религии и искусства, то иссякает тот величайший источник наслаждения, которому человечество обязано чуть ли не всей свой человечностью».
В этой мысли Ницше уже близок к тому, чтобы снова сменить декорации: метафизическое волшебство искусства и дионисийски-трагическое мироощущение почти появляются вновь, но все-таки лишь «почти». Ницше не доводит смену декораций до конца, он останавливается, внезапно предлагая компромисс, которого от него — из-за культурно-технологической уравновешенности — нельзя было ожидать и который, может быть, поэтому так редко замечается. А именно Ницше выступил за своего рода двухкамерную систему культуры.
«Высшая культура должна дать человеку двойной головной мозг, как бы два мозговых желудочка, один для восприятия науки, а другой — для восприятия всего ненаучного: и пусть они лежат рядом, но не смешиваются друг с другом, пусть будут отдельными, изолированными; этого требует здоровье. В одной сфере помещается источник энергии, в другой — регулятор: в растопку пойдут иллюзии, однобокие мнения, страсти, а предотвращаться злокачественные и опасные последствия перегрева будут с помощью познающей науки».
В трудах Ницше идея двухкамерной системы вспыхивает то и дело и затем исчезает — в ущерб его философии. Закрепись он на ней, ему бы, возможно, удалось уберечься от некоторых безумств своих видений большой политики и присущей ей воли к власти.
Из книги Рюдигер Сафрански. Р. Ницше: биография его мысли. Пер. с нем. И. Эбаноидзе. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016