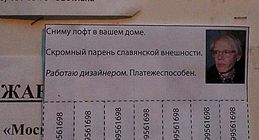Дискурс публикует интересный фрагмент из новой книги знаменитого историка Роберта Дарнтона «Цензоры за работой. Как государство формирует литературу», которая готовится к выходу в серии «Интеллектуальная история» издательства «Новое литературное обозрение». Рассматривая функционирование цензуры в роялистской Франции XVIII века, колониальной Индии XIX века и ГДР в 1980-е годы, Дарнтон прослеживает, как именно в разных обстоятельствах и в разные времена работала цензура, что сами цензоры думали о своей работе, каким образом они взаимодействовали с книжным рынком, и какой вклад цензура вносила не только в культурную, но и в экономическую и политическую жизнь общества.
В главе «Проблемные случаи», представленной ниже, ученый, опираясь на архивные документы, показывает, что типичный цензор времен Бурбонов был не сознательным душителем свобод, а скорее жертвой обстоятельств, зажатой между отношениями вельмож и вечно меняющейся политической конъюнктурой. Так, французских цензоров эпохи Просвещения мало интересовали философские, бунтарские и свободолюбивые идеи — куда большую опасность в их глазах представляли аллегории и неприкрытая религиозная пропаганда.
Проблемные случаи
Цензуру вполне возможно показать с хорошей стороны, отбирая из доказательств те, что показывают ее в выгодном свете. В предыдущем описании занятий цензоров я старался быть, насколько это возможно, непредвзятым. Но, сосредоточиваясь на обычной повседневной работе, я не уделил внимания выдающимся событиям, которые привлекают большинство историков, и не рассматривал случаи, когда цензоры занимались непосредственно идеологическими вопросами. Середина XVIII века была временем великого брожения. Тот срок, который Мальзерб занимал пост директора книжной торговли, почти совпадает с периодом, когда были изданы самые значимые труды эпохи Просвещения от «Энциклопедии» (ее проспект впервые вышел в 1750 году, а последние десять томов все вместе были напечатаны в 1765-м) до «Эмиля» и «Общественного договора» Руссо (обе работы вышли в 1762-м). Мальзерб был другом просветителей, и его действия на посту директора многие считают поворотной точкой в истории Просвещения и свободы слова в целом. Как это сказывалось на повседневной работе цензоров, служивших под его началом?
Внимательное изучение всех отчетов, писем и докладов цензоров с 1750 по 1763 год показывает отсутствие особого интереса к работам просветителей. Философия вообще не вызывала беспокойства. В отзыве на книгу, одобряющую метафизику Лейбница, цензор пренебрежительно отзывается о важности таких вопросов:
«Многие философы среди нас могут не соглашаться с истинностью этих принципов и утверждать, что выводы, к которым они приводят, могут плохо повлиять на религию. Но это просто споры о философии, и я не думаю, что есть какая-то существенная причина, почему нужно запрещать выход работы, которая к ним приводит».
Изредка цензоры выражали беспокойство распространяющимся деизмом вольтерианского духа. Но имя самого Вольтера почти не появляется в документах Direction de la librairie. Это и неудивительно, ведь, как было описано ранее, ни одна рукопись, которая открыто бросала вызов устоявшимся порядкам Старого режима, не отправлялась на получение апробации и королевской привилегии или хотя бы молчаливого согласия. Такие работы посылали к Марку-Мишелю Рею в Амстердам, Габриэлю Крамеру в Женеву и к другим издателям, действовавшим вне власти французского закона. Из тех книг, что попадали в руки цензоров, больше всего проблем вызывали религиозные — обсуждения нюансов теологии внутри католической церкви, протестантские догматы, и в первую очередь янсенизм, аскетическое августинианское религиозное направление, основывающееся на работах Корнелия Янсена и осужденное как ересь в нескольких папских буллах. Авторы и издатели таких работ отправляли их цензорам, веря, что они не противоречат ортодоксальному католицизму. Цензору приходилось решать, так ли это.
Большинство из тех, кто принимал такие решения, были профессорами теологии в Сорбонне. Они были довольно терпимы к протестантским работам неполемического характера вроде молитвенных книг, если те были поучительными, хотя протестанты и обращались к Богу на «ты», а не на «вы», как католики. Цензоры также давали молчаливое согласие на издание нерелигиозных работ протестантских авторов, несмотря на некоторые опасения по поводу отдельных ремарок о щекотливых вопросах вроде природы брака. Но они отказывались терпеть любую книгу с малейшим налетом янсенизма или касающуюся спорных вопросов вроде непреодолимой благодати, которые использовались в янсенистской полемике. Цензоры однажды отказались одобрять даже антиянсенистский памфлет — полностью ортодоксальную работу епископа Систерона — потому что, как заметил один из них, она не улучшала ситуацию, «только будоража умы».
Цензоры сталкивались с множеством трудов в защиту традиционных взглядов, но не спешили дать им ход, если те были недостаточно убедительны. Один из цензоров отказал фанатичному труду, опровергающему деизм, на основании его несостоятельности: «Приводить столь слабые аргументы в защиту религии, все равно что непреднамеренно обличать ее». Религиозные книги не просто должны были воздерживаться от ереси, им приходилось соответствовать высоким стандартам стиля и убедительности. Иначе они оказывали противоположное действие и не могли быть опубликованы. Та же логика применялась к политическим работам. Цензоров не беспокоили нападки на короля, ведь их никто и не присылал на одобрение. Вместо этого они беспокоились о трудах, которые недостаточно его прославляли. Либретто оперы могло быть опубликовано, по словам одного цензора, только при условии, что автор выкинет из него пролог, содержащий недостаточно хвалебную речь в адрес Людовика XV. «Политика» для цензоров, как и для многих других французов в XVIII веке, означала не борьбу за власть внутри правительства, которую нельзя было обсуждать открыто, а международные отношения. Жан-Пьер Терсьер, первый секретарь Министерства иностранных дел, следил, чтобы рукописи не отклонялись от текущего курса зарубежной политики . Оскорбительное замечание о Пруссии было приемлемо во время Семилетней войны (1756–1763), когда Фридрих II сражался против Франции, но не в ходе Войны за австрийское наследство (1740–1748), когда он был союзником. Точно так же некоторые проякобитские замечания в первых томах истории Ирландии казались цензору приемлемыми, когда Франция поддерживала претензии на трон «молодого претендента» (Чарльза Эдварда Стюарта, позже известного как Красавчик принц Чарли), но не тогда, когда на одобрение поступили следующие тома. К этому времени, после Войны за австрийское наследство, Франция оставила дело якобитов, и история Ирландии стала выглядеть иначе. Вопрос должен был решить министр иностранных дел. Военный министр отказывался разрешать публикацию любых трактатов о военном деле, даже технических описаний осадных орудий, во время Семилетней войны. Во время кризиса, связанного с попыткой ввести новую «двадцатину» в 1749 году, генеральный контролер финансов старался помешать публикации любых книг о налогообложении. Парламент Парижа постоянно сопротивлялся новому налогу и бросал вызов абсолютной власти короля, особенно в связи с преследованием янсенистов. Но цензоры редко имели дело с парламентскими дебатами, возможно, потому, что противоречивые работы никто не присылал на одобрение. Все, что касалось текущих событий, должно было быть заверено у вышестоящих сановников, но цензоры редко получали злободневные работы. Вместо этого они изучали огромное количество исторических текстов, которые поднимали разного рода идеологические вопросы. В таких случаях цензоры могли быть удивительно терпимы, как в случае с рапортом об истории Англии, написанной французским монахом:
«Можно было бы подумать, что это история Англии, написанная для англичан из самой безумной фракции вигов… Ярость, с которой автор критикует священников и монахов, доходит до такой степени, которой можно было бы ожидать от работ Вольтера. Он часто использует его интонации и выражения. Также в начале книги автор заявляет, что английский народ обладает властью выбирать себе короля, исходя из своих нужд, и использует это, чтобы показать, что Яков II был законно лишен престола. …Хотя я вычеркнул наиболее вызывающие абзацы… текст все еще пропитан английским духом, что делает невозможным получение автором привилегии на книгу. И все же, если г-н Мальзерб решит дать ему молчаливое согласие и автор представит книгу как изданную в Лондоне, читатели легко поверят ему и никогда не подумают, что книга написана французским монахом-бенедиктинцем.
Последней категорией, заслуживающей особого внимания, согласно мнению Мальзерба и других людей, отзывавшихся о книготорговле, была литература, наносящая урон принятым моральным устоям, — сейчас это обычно называют порнографией. В XVIII веке этого термина не существовало, но эротическая литература процветала, не привлекая особого внимания, если действующими лицами не становились монахи, монашки или официальные фаворитки. Такие книги были достаточно скандальными, чтобы хорошо продаваться из-под полы, но никогда не попадали в руки цензоров. Лишь несколько непристойных романов было отправлено на рассмотрение, и к ним, как правило, относились терпимо. Единственным случаем необычайно похабной книги, который я встретил в записях цензоров, стала «Mystères de l’hymen, ou la bergère de velours cramoisy» («Мистерии девственной плевы, или Крылатое кресло из алого вельвета»), которую цензор отверг как отвратительный плод помрачения ума.
После изучения сотен докладов цензоров сталкиваешься с непредвиденной проблемой: если цензоры в первую очередь думали не о вынюхивании безбожия и вольнодумства, за исключением особых случаев вроде янсенизма или международных отношений, в чем они видели опасность? Не там, где мы бы ожидали, не среди философов-просветителей. Нет, их больше беспокоил двор. Точнее, они опасались быть втянутыми в сети протекций и обязательств, бывших основными рычагами власти при Старом режиме. Хотя к 1750 году книжный рынок процветал и новые силы изменяли облик коммерции, королевские цензоры все еще принадлежали миру, созданному принцами эпохи Возрождения, где неверный шаг мог привести к катастрофе и судьба зависела от воли власть имущих (les grands).
Опасность, таким образом, исходила не от идей, а от людей — всех, обладающих влиянием, кого могло задеть неуважительное или неосторожное замечание. Один из цензоров вычеркнул из исторической книги упоминание о преступлении представителя могущественной династии Ноай, совершенном в XVI веке, и не потому, что оно не было совершено, а потому, что «дом [Ноай] может быть недоволен тем, что о нем вспомнили». Другой цензор отверг абсолютно точную работу по генеалогии на том основании, что она может содержать ошибки, оскорбляющие некоторые влиятельные семьи. Третий отказался одобрить описание отношений Франции с Оттоманской Портой, потому что в нем содержались «подробности, затрагивающие семьи, требующие уважения», и даже назвал имена: один аристократ сошел с ума, служа послом в Константинополе, а другой не смог получить должность посла из-за придворной вражды со своей эксцентричной тещей. Повсеместно цензоры содрогались при мысли пропустить завуалированное упоминание кого-то, обличенного властью. Потребовалось специальное расследование в Лионе, чтобы выпустить книгу, которая могла оскорбить местных нотаблей. Мальзерб, который и сам принадлежал к влиятельной династии, постоянно отправлял рукописи на проверку высокопоставленным людям, которые могли понять отсылки, недоступные цензорам более скромного происхождения. Вельможи ожидали такого рода услуг. Герцог Орлеанский, например, поблагодарил Мальзерба через посредника за то, что тот следит, чтобы «никакая информация о его отце не была опубликована до того, как об этом сообщат ему [нынешнему герцогу]».
Жанром, вызывавшим у цензоров наибольший ужас, был «роман с ключом». Его легко было не опознать, не обладая достаточным знанием le monde. Неискушенный аббат Жируа, к примеру, попросил Мальзерба назначить другого цензора для романа, который не просто высмеивал писателей (что было приемлемо), но мог метить в более значимые цели. «Я боюсь аллюзий. Они встречаются часто, и я не решаюсь взять на себя ответственность за них. Если бы я мог их понять, то, возможно, не волновался бы так, но я не могу сказать, кто имеется в виду». Та же опасность мерещилась другому несведущему цензору, который отказался одобрить рукопись, хотя нашел ее безупречной во всем, кроме одного: «Это может быть аллегория, скрытая с изяществом и точностью за священными именами, которую при дворе используют для злонамеренных намеков (applications malignes). Поэтому я нахожу работу опасной для публикации в этом королевстве, даже с молчаливого одобрения». Мальзерб с пониманием относился к опасениям людей, работающих под его началом. Они, в конце концов, не имели высокого положения (des gens assez considérables) и не могли уловить аллюзии, очевидные для любого человека из более светских кругов. Более того, они были боязливы. Цензоры скорее отказали бы рукописи, чем рискнули обратить на себя неудовольствие, одобрив ее. Отказ часто показывал страх applications — этот термин нередко упоминается в бумагах цензоров, а также полиции. Под ним подразумевались зашифрованные в книгах, песнях, эпиграммах и остротах намеки, обычно оскорбления или компрометирующая информация. Аpplications оставались не замеченными обычными читателями, но могли причинить большой ущерб представителям высшего общества. Это была форма власти, требующая контроля в обществе, где репутация и «лицо» (bella figura) были знаками политического влияния и потенциальной уязвимости, как три сотни лет назад при итальянских дворах.
Дарнтон Роберт. Цензоры за работой. Как государство формирует литературу. — М.: Новое литературное обозрение, 2017.