Книга Ильи Данишевского «Маннелиг в цепях» — сборник перемежающихся стихов и короткой прозы. Поскольку Данишевский известен в основном как прозаик (автор романа «Нежность к мертвым»), можно предположить, что и в поэтической книге он использует принцип деления на главы. Благодаря этому разрозненные на первый взгляд тексты объединяются в некий сюжет, напоминающий романы. В этой связи можно вспомнить о Прусте, который писал один большой роман о своей жизни.
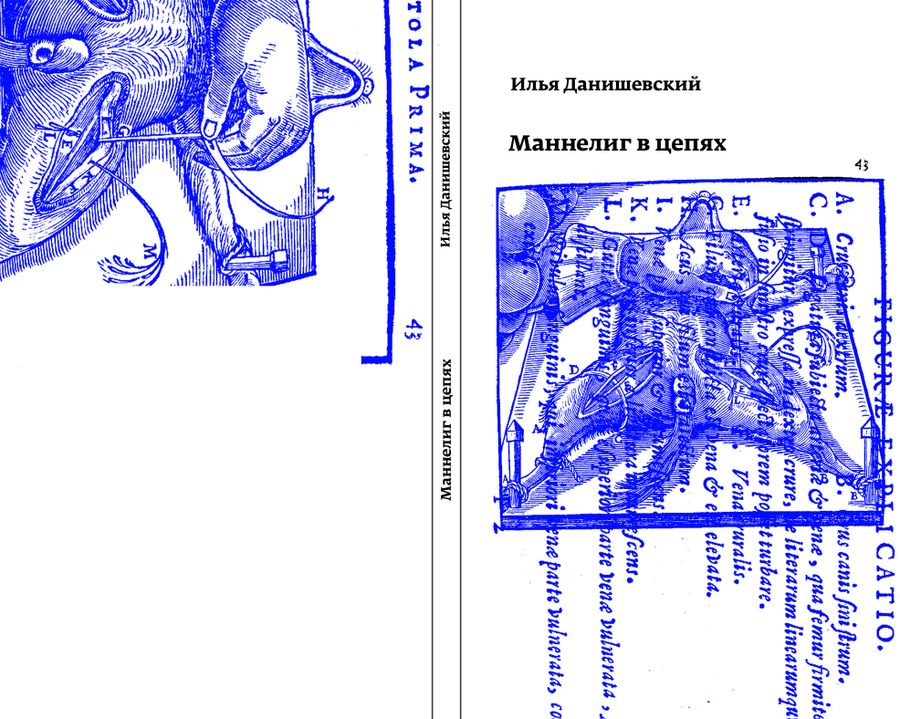
Что стоит знать не вовлеченному в современный литературный процесс человеку, который откроет эту книгу? В первую очередь, то, что он не найдет в ней «стихов» в привычном понимании. Но это уже не новость. Если читатель открыл эту рецензию, то скорее всего он знает, как далеко современный поэт может уходить от привычного понимания стихов. Интересно другое: в этой книге он увидит, чем прозаическая поэзия отличается от поэтической прозы; даже без глубокого погружения в тексты можно заметить основное отличие — это синтаксис, построение фраз. Если сложно устроенная проза Ильи остается, тем не менее, в рамках правил русской грамматики, то его поэтическое письмо с презрением отметает любые правила, которые на него пытается наложить взгляд читателя.
Для чего нам вообще нужны правила? Чтобы не видеть хаоса, который ужасает, чтобы точно знать, что нам сказано, чтобы узнавать в чужом свое и наоборот. Узнавание, которое чаще всего и приносит радость читающему стихи, требует особой системы правил, порядка. Поэтическое письмо Данишевского как будто не нуждается в понимании, в том, чтобы быть оцененным как хорошее или красивое. И в этом оно утверждает свою свободу; по крайней мере, от литературной действительности с его прошлым. Но, в то же время, это бескомпромиссное и недружелюбное письмо имеет свои источники ясности, свои «правила игры», которые становятся понятны при последовательном чтении текстов.
Для тех, кто знаком с миром компьютерных игр, будет понятно слово «сеттинг», обозначающее среду, в которой происходят действия. Для сравнения: сеттинг романа Достоевского «Бесы» — это провинциальный городок России XIX века, ничем не примечательный среди других таких же городков. Именно сеттинг задает масштаб будущих событий. Сеттинг оказывается очень важным понятием для литературных жанров фэнтези или научной фантастики (к слову, роман Данишевского «Нежность к мертвым» можно смело отнести к жанру дарк-фэнтези), ведь именно он задает изначальные «правила игры», внутри которых возможны те или иные действия, сюжетные повороты и т д. Если в крупной прозе можно задать сеттинг множеством разных способов, например, подробным описанием места действия или внешнего вида героев, то в коротких автобиографических зарисовках Ильи почти нет описаний внешности или пространства — эти истории рассказывают главным образом об истории отношений; небольшой фрагмент текста позволяет узнать о целой драме. Но все это могло быть только и остаться фрагментами мемуаров, если бы не стихи, в которых Илья не дает ни сюжетов, ни отношений — именно стихи дают нам сеттинг:
нержавеющая шведская сталь navuhodonosor в дорогом доме и первое столкновение с эпителиями и идущими волнами и копотью распущенных узлов деревянного перекрытия
наказание за незаконность рассказа этой истории
наказание за незаконность умалчивания этой истории
наказание за неэтичность рассказа об этой истории
наказание за неэтичность нужных слов в нужной последовательности временных контактов перепаянных схем и признание как натужный подвиг под действием паяльной лампы
а потом потерянность среди коммерческих натуралов в поисках поклонной горы
в поисках сустава дрожания камня эшенбаха и имен тех кто и тех кто обратное
всего за 300 р/час пытаясь наслаждаться весной запах нарастающего нарастающего
наискучнейший излом приморского горизонта утопленного в растрате драгоценного времени
рядом с более грамотно проводящими жизнь и играющими в песок и избыток событий
море похожее на ощущение неправильно расставленных приоритетов и долгих предрассудков
ad nauseam ожидания до комариного полдня а потом до самого вечера и потом опять
Важным правилом этих текстов оказывается скорость говорения, наблюдения, переживания. Скорость диктуется отсутствием знаков препинания и четких переходов от одного фантасмагорического образа к другому. Образы вроде «костистых сосудов расшитых белесым волокном золота из дамаска» нагромождаются с огромной скоростью и сбиваются в кучу, дезориентируя читателя. Они не дают себя разглядеть, убедительно представить — при этом они почти всегда выстроены в соответствии с логикой языка: «ширящийся список утрамбованных гекатомбой в фундамент». Композиционную невыразительность эти образы компенсируют своей эмоциональной яркостью; они могут оскорбить чувства верующих, чувства вежливых, чувства стеснительных. Данишевский позволяет воображению свободно парить на просторах отвратительного, ужасного, дикого, гротескного, он буквально наполняет свои тексты слизью, мочой, спермой, околоплодными водами и собачьей кровью. Но скорость их подачи стирает ожидаемую демонстративность: очень быстро читатель (если он, конечно, готов продираться сквозь антуражные потоки нечистот) привыкает к ним как к фактам, обрамляющим сложные отношения героев прозы. Постепенно сквозь театр ужасов обывателя проступает истинный смысл происходящего: нарочитое педалирование табуированного или отвратительного призвано отогнать, отпугнуть читателя, не дать ему проникнуть в уязвимое место, а вовсе не привлечь его пикантностью образов.
Больное или раненое животное, к которому пытаются применить меры (возможно, для него спасительные) часто может реагировать крайне агрессивно; некоторые животные выработали особые механизмы защиты. Например, ужи, при попытке поймать их, выделяют жидкость, которая имеет отвратительный запах и не смывается водой. Больная собака при недостаточно чутком уходе начинает метить или испражняться в неположенных ей местах с целью привлечь внимание нерадивых хозяев. Также всем известен американский скунс и другие примеры того, как животное может воздействовать на человека через отвратительное. Но и человек является частью царства животных, и его сигналы, хотя они гораздо сложнее, работают аналогично. Препарируемая собака, возникающая не только по ходу всего «сюжета» книги, но и на всех картинках, явно подтверждает гипотезу о защитной реакции, из которой проистекают самые изощренные химеры Данишевского.
В прозе Данишевского зашифрован ряд личных историй, которые не могут быть рассказаны напрямую по причине, вероятно, особой болезненности; одной из таких историй, композиционно выведенных в лейтмотив, является смерть собаки, пережитая ребенком (попробуйте проследить за ней сами!); не зря другим навязчивым лейтмотивом являются отсылки к творчеству Стивена Кинга (Лангольеры, Оно, Кладбище домашних животных и др.), который необычайно развил тему восприятия потери близких детской психикой:
Респектабельные дворы без борщевика, немного скучные, слишком декоративные), она прочитала мне не больше двух страниц — там, где в «Оно» тело мальчика плывет по канализации рядом с удушенным цыпленком, использованным презервативом, башмаком, такое же, как они, по трубам, которые будут скручиваться в спирали, а водопады грязной воды растащат мальчика, цыпленка, презерватив и башмак в стороны, а потом я больше никогда не верил в мутабор (даже в мутабор), — ни во что больше.
Любая вещь, даже если она написана на бумаге, находится в контексте, в «сеттинге»; изображая отвратительную реальность, художник может таким образом побудить зрителя искать прекрасное в том немногом, что осталось. И в книге «Маннелиг в цепях», как ни странно, много света, как правило в прозе — это воспоминания о любви и нежности, дружбе и преданности, внимании и заботе о ближнем:
Сидя на балконе, я читал ей вслух «Кладбище домашних животных» (на обложке русского издания — жилистые мужские руки, поднимающиеся из могилы, хотя ни один взрослый мужчина так и не стал живым мертвецом), играли в D& D, и «именем королевы эльфов» она спасала мир, а потом просила словесной порнографии. Мы подробно обсуждали, кто и куда трахает ее прекрасную воительницу, что она чувствует, что он чувствует, что она думает (и он), ее успокаивало, что этот воображаемый мужчина не имел никаких бесконтрольных ощущений, его слова, его мысли были проговорены и безопасны.
Ни стихи, ни рассказы, вошедшие в эту книгу, не создают впечатления столкновения с чем-то масштабным и выдающимся, и даже не пытаются создать это впечатление: сентиментальные, немного слезливые, последовательные и прозрачные истории об отношениях и давящий своей тавтологической монотонностью поток далеко не самых приятных (в том числе и автору) образов смерти, разложения, извращений, политических новостей, различного «сиюминутного хлама» вроде вкраплений английского сленга вне контекста — все это может показаться очередным эпатажным ходом, которым уже никого не заинтересуешь. Но, пожалуй, главной художественной чертой этой книги является ее многоуровневая композиция. Илья Данишевский — внимательный книжный архитектор, он выстраивает последовательность не только из текстов, но и из отдельных образов, которые кажутся абсолютно случайными в отрыве от контекста книги (сеттинга). На примере уже озвученной истории о собаке можно проследить глубокий архитектурный объем композиции книги, которая не обязательно должна была быть так искусно устроена, чтобы быть изданной.
Важно отметить, что, помимо удовлетворения творческой потребности, глубокая композиция книги дает возможность не только выразить образ, или одну-две идеи, а создать объемное художественное пространство, приближающееся к реальности по своим возможностям; это удается создать не всякому писателю, но Данишевский сознательно с этим работает, хотя, возможно, только подходит к своей большой книге. А «Маннелиг в цепях» оказывается тем случаем, когда глубина и масштаб произведения раскрываются только после ознакомления с большей частью книги; благо она не очень большая — всего 144 страницы, включая обложку, оглавление и картинки.
Современный мир, с присущими ему быстрыми и множественными связями во всех аспектах жизни, может быть черствым и бесчеловечным. Люди, которых мы считаем близкими, могут не замечать нашей боли, или игнорировать ее, или даже настаивать на том, что этой боли нет — причиняя еще большую боль. Существует множество защитных практик, которые позволяют людям справляться с ней. Одной из таких зарекомендованных временем практик было и остается искусство. Что значит «написать роман о боли»? Как читатель поймет, что это — боль, а не изощренное удовольствие? Для того, чтобы выразить это, художник может пойти на, возможно, жестокую меру — он воссоздает эту боль в произведении, принуждая зрителя к сопереживанию. Можно привести в пример Ларса фон Триера, Марину Абрамович, можно — Ярослава Могутина. Это различные художественные практики, и они, безусловно, манипулятивны — они специально создают условия для сопереживания боли; они насильно погружают зрителя в ситуацию. В этом смысле искусство способно нести послание при помощи насилия, и то, что разные художники прибегают к этому способу, говорит не столько об их испорченности, сколько о черствости самой публики, не способной сопереживать боли, показанной ей на пальцах. В этом смысле книга Ильи Данишевского «Маннелиг в цепях» является не столько «книгой поэзии\прозы», сколько современным искусством, выходящим за рамки текста.














