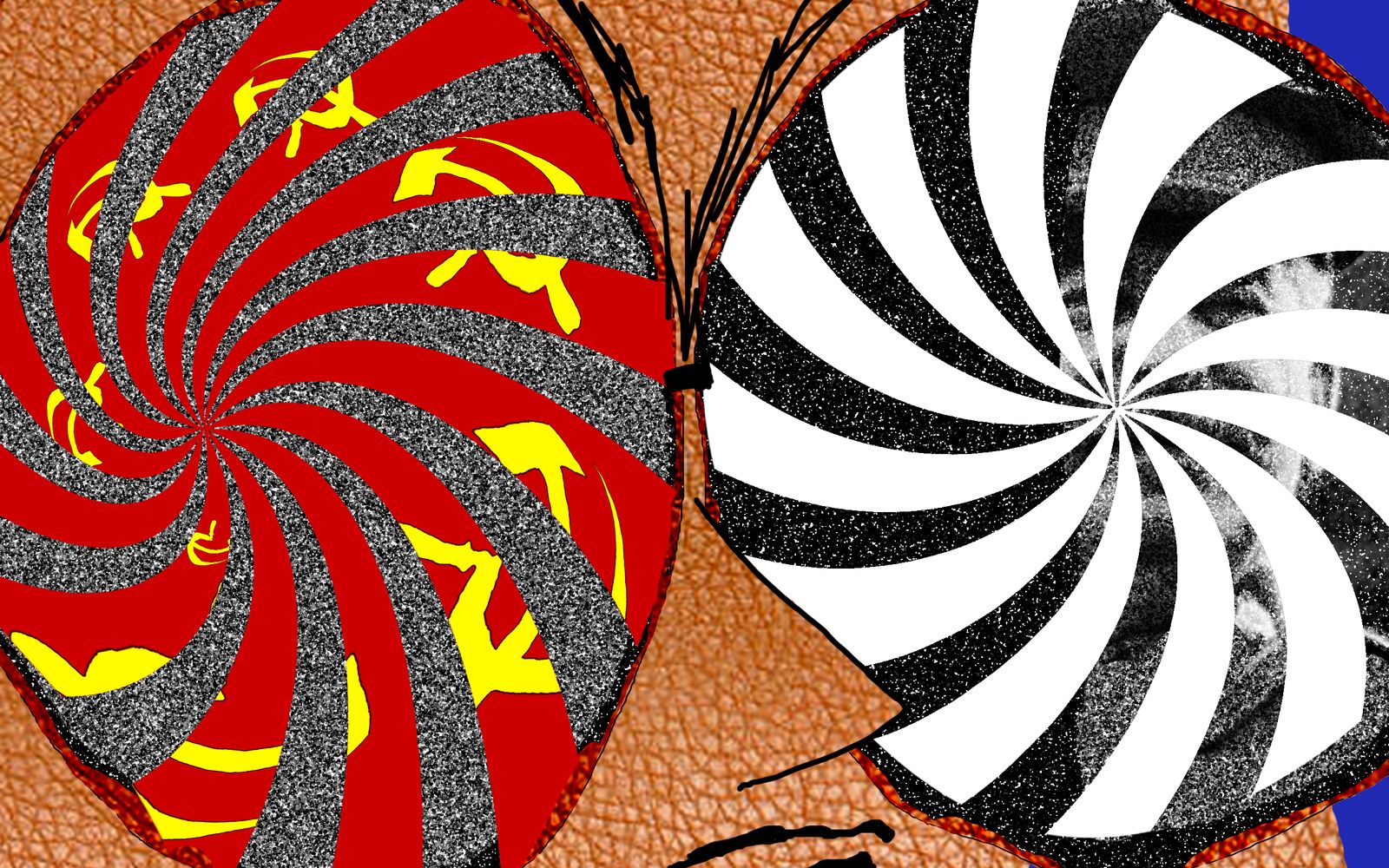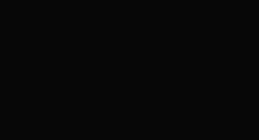Хроники военных лет до сих пор остаются территорией деликатных умалчиваний. Когда режиссерское виденье войны не совпадает с официальным «каноном», зрители обрушиваются на кинематографистов с обвинениями: по мнению критиков, «Братство» Павла Лунгина очерняет память «афганцев», а картина «На Париж» Сергея Саркисова, транспонирующая Священную Войну в плоскость комедийного мюзикла, якобы выставляет победителей нацизма «дегенератами».
Участь осуждения не обошла и фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник», взявший «Золотого Святого Георгия» на прошлогоднем Московском международном кинофестивале. Ленту жёстко критиковали за гиперреализм в соцсетях ещё задолго до выхода в прокат: трейлер называли жутким «зомби-трэшем», «вандализмом», «грязью и предательством», «распилом» денег Минкульта.
Кинокритик Сергей Чацкий проанализировал 30 главных фильмов о Блокаде, снятых с 1942 года до наших дней, чтобы понять, так ли кощунственен «Блокадный дневник», каким его малюют в сети, и разобрался, как советский и российский кинематограф репрезентирует трагедию Блокады, где стихает праведный гнев и начинается деконструкция, и в чём заключается феномен национальной травмы в отечественном кино.
«Я и в этот день не позабыла горьких лет гонения и зла». Обнажённая история в «Блокадном дневнике»
«Берлин — 1276 км, Ленинград — 20 км». На заснятый крупным планом дорожный знак, сооружённый немцами на подступах к Северной столице, накладывается поясняющий титр: «Все ситуации и персонажи реальны, они имели место быть и не являются художественным вымыслом». Одну склейку спустя рядовой боец Вермахта струёй мочи вырисовывает на сугробе свастику, пока молодой офицер готовит артиллерийскую батарею к обстрелу. Атаку будут проводить в строго назначенный час, так ещё и под музыку Моцарта, чтобы хоть немного разредить холодный февральский воздух.
Гаубицы смотрят на другой берег Невы. В сторону осаждённого Петербурга, где, мучаясь от голода и мороза, под аккомпанемент знаменитого блокадного метронома безутешно молятся сотни ленинградцев. Среди них затесалась девушка Оля. Электричество отключили с наступлением зимы, а из источников тепла в её квартирке осталась только печка-буржуйка. Оле очень страшно. От слабости клонит в сон, но девушка не даёт себе разрешения даже на мимолётную дрёму, ведь скоро она отправится в путь. Пойдёт навестить отца, слоняясь по опустошённому городу, вооружённая четырьмя кусочками хлеба, тремя кукурузными семечками и парой папирос. Специально отложила табачку — для папы. А ведь надо ещё как-то изловчиться, чтобы дотащить труп мужа до похоронной команды.
Прототипом Оли является пережившая осаду Ленинграда поэтесса Ольга Берггольц, чья повесть «Дневные звёзды» легла в основу сценария «Блокадного дневника». Среди вдохновителей фильма также числится писатель-фронтовик Даниил Гранин и множество других неназванных очевидцев страшных событий зимы 1941–1942 годов. Выдержки из литературного первоисточника, написанного женщиной и от лица женщины, зачитываются мужским голосом, что намеренно обезличивает нарратора. Ведь рассказанная в ленте история — одна из тысяч, если не десятков тысяч похожих сюжетов, что разворачивались на улицах обесточенного города, заваленного обледенелыми телами гражданских. Ранее режиссёр уже работал в жанре военной документалистики и потому решил внедрить хроникальный элемент в формат художественного кино. В экранное путешествие героини Берггольц вплетаются взаправдашние рассказы блокадников, которые постановщик собирал на стадии написания сценария.

Ленинград в картине Зайцева походит на замёрзший мифологический Коцит, где под проводами, согнувшимися из-за наледи, снуют закутанные в телогрейки живые мертвецы. Город превратился в Чистилище: оголодавшие люди жуют кожаные перчатки, подобно зомби тянутся к упавшим на снег буханкам чёрного хлеба и, заливаясь слезами, поливают матом небеса, откуда летят вражеские снаряды. Замахнувшись на гиперреализм, режиссёр не заметил, как ударился в постапокалиптику. Гнетущий монохром, инфернальные пейзажи и не поддающиеся ретуши ужасы войны, по идее, должны способствовать сочленению блокадных образов, почёрпнутых съёмочной группой в очерках и интервью. Однако здешняя иконография остаётся недетерминированной. Шок довлеет над прочими элементами повествования. Утрированная графичность занижает документальный эффект.
Впрочем, в данном случае преувеличение может сойти за эффективный художественный приём. Фильм Зайцева, военная драма на бумаге и хоррор по факту, вступает в диалог с блокадной прозой, вырисовывая пускай и далёкий от фотографической точности, но крайне выразительный угасающий мирок. Постановщик не оскверняет памяти, не сыпет соль на рану, а, скорее, расчёсывает зудящую кожу на месте комариного укуса. До крови. Автор переусердствовал с «чернухой» и вместо видеодокумента выдал видеонекролог, что вызвало неоднозначную реакцию публики, едва ли в Сеть выложили первый трейлер. Обыкновенная полемика: «Не застали, но осуждаем». А если дело доходит до сравнений, то в качестве аргументов приводят старые-добрые военные фильмы, державшие курс на мобилизацию патриотических чувств.
Так неужто в кинематографе Страны Советов не было места для альтернативных взглядов? И можно ли считать воспринятый в штыки «Блокадный дневник» прецедентом ранее невиданного святотатства? Не слишком ли рано мы начинаем рубить с плеча? Давайте выяснять.
«Родина моя в венце терновом, с темной радугой над головой». Великая Отечественная и советская кинематография
Передать блокадный опыт из рук замёрзших в руки трепещущие — такова была установка, данная режиссёрам и фронтовым операторам, работавшим в эпоху «малокартинья». Увидев осаждённый Ленинград в кинозале, зритель должен был преисполниться праведным гневом по отношению к врагу. Основные форматы — документалистика и полудокументалистика. Хорошим примером последней могут послужить «Непобедимые» (1942) Михаила Калатозова и Сергея Герасимова. Лента, изначально носившая название «Ленинградская осень», стала первым в истории полнометражным фильмом о Великой отечественной войне. Производство картины началось в 1941-м накануне блокады, а продолжилось в Алма-Ате, куда эвакуировали киностудию «Ленфильм». В России снимали хронику, в Казахстане — постановочные эпизоды. Симбиоз документального и игрового убеждал советского зрителя в том, что, даже находясь в окружении, ленинградские заводчане не вешают нос и продолжают корпеть за станками, дабы приблизить момент долгожданной победы. «С удесятерённой энергией работай для фронта!», — как писали на агитплакатах, развешанных на фабричных проходных по всему Союзу.
Блокадная орофэпия в кино того времени строилась на сплочении народных масс, на воспитании всенародного чувства дружеского локтя. «Два бойца» (1943) Леонида Лукова подарили советскому человеку осязаемые символы единения: знаменитую песню «Тёмная ночь» и звучные афоризмы, что доносятся из уст неунывающих бойцов Ленинградского фронта («Был у меня друг. Правда мы с ним в любви не объяснялись, но любили друг друга крепко»). Фильм «Жила-была девочка» (1944) Виктора Эйсымонта демонстрировал нелёгкую долю петербургских детей, вынужденных преждевременно повзрослеть, дабы выжить. Именно в этой картине присутствует эпизод, который наглядно демонстрирует, как кинематограф военной поры призывал людей к товарищеской «спайке». Наивная школьница, чья мать прикована к постели, без задней мысли доверяет продуктовые карточки знакомой тётеньке, не опасаясь, что та заберёт дефицитный хлеб себе и бросит ослабевшую женщину с её дочуркой на произвол судьбы. Никакого прагматизма — лишь призыв помочь ближнему своему и обрушить все моральные силы против врага.

С окончанием войны кинематограф СССР настроился на радикальный соцреализм. Никакой «серой морали», особенно в кино про боевые действия: немцы — зло, наши — добро. Точка. Советские герои экрана делятся не на плохих и хороших, а только на хороших и замечательных. ЦК подстраивает население под волну пропагандистской бравуры. Один из ярчайших примеров такого подхода — «Падение Берлина» (1949) Михаила Чиаурели. Картина о последних днях конфликта, которая завершается сценой, по меркам нынешнего зрителя чрезвычайно неувязанной. Товарищ Сталин в белоснежном мундире прилетает на самолёте в сложившую оружие столицу Германии, где вояки всех национальностей скандируют его имя и превозносят вождя СССР, как мессию.
Первые ревизии в советском военном кино пришлись на период «оттепели», когда Хрущёв покончил с «культом личности» Иосифа Виссарионовича и поднял вопрос о реабилитации репрессированных. Искусство открылось для новых, более интимных и сложных тем. Калатозов снимает «Летят журавли» (1957) о нелёгкой доле маленького человека, борющегося с кошмарами войны не в окопах, а в тылу. «Чистое небо» (1961) Григория Чухрая ведает об участи военнопленных, определённых в разряд предателей Родины на пустом месте. «Иваново детство» (1962) Андрея Тарковского фиксирует превращение ребёнка в хладнокровного убийцу, которому никогда не удастся обрести себя в мирное время. «Живые и мёртвые» (1964) Александра Столпера впервые за долгие годы смело заговорили о стратегических и нравственных просчётах, допускаемых ставкой командования на ранних этапах противостояния.
«Блокадный» кинематограф, наоборот, поддаваться деформациям не спешит. В кинотеатры продолжают поступать ленты о превозмогающих невзгоды петербуржцах, что констатируют победу духа и консервируют образ блокадника, уверенного в одном: Партия не бросит его на произвол судьбы («Ленинградская симфония» (1957) Захара Аграненко, «Зимнее утро» (1967) Николая Лебедева). Фильмы о жизни в оцеплении видоизменяют оптику восприятия трагедии неспешно, а императив национальной травмы отклоняется от заданного «оттепелью» курса под широким углом, то есть без рассеивания стандартов, укоренившихся в визуальном коде.
«Дневные звёзды» (1966) Игоря Таланкина преобразуют воспоминания упомянутой выше Ольги Берггольц в медицинскую карточку человека, страдающего тяжёлой формой ПТСР. Главная героиня шагает по Ленинграду, одержимая галлюциногенным наваждением: она лезет в чертоги разума и общается с детской версией себя, чтобы игнорировать голодные судороги и не сходить с ума от тишины, что воцарилась над полумёртвым городом. Вслух читая стихи и входя в ментальную конфронтацию с призраками прошлого, героиня кое-как достигает психического равновесия. «Есть на свете такие колодцы, в которых и днём отражаются звёзды», — антинаучный миф, озвученный героиней в бреду, трансформируется из обывательского поверья в душеподъёмный призыв, вселяющий надежду на лучшее завтра.

Схожим образом происходит обновление блокадных тезисов в «Пяти днях отдыха» (1969) Эдуарда Гаврилова. Это история о солдатах, ожидающих переформирования недобитой роты непосредственно в Ленинграде. С одной стороны, перед ними, вчерашним школьниками, многие из которых даже девушку никогда не обнимали, открывается обессиленный быт. Толпы людей в очереди за пайком, нескончаемые бомбёжки и безразличие на лицах немолодых мужчин, получивших по винтовке и посланных оборонять подходы к родным пенатам. С другой стороны, лента уверяет, что люди в Ленинграде никогда не забывали о силе смеха и невыносимой лёгкости спонтанной любви. Фильм достигает своей кульминации в момент, когда в чёрно-белый видеоряд вклиниваются цветные кадры, демонстрирующие новобранца, который вместе с красивой девушкой радуется хулиганской оперетте в зале Театра музыкальной комедии. Пускай на улице стоит лютый мороз, а танцовщицы падают в голодной обморок, едва добравшись до кулис, здесь и сейчас боль изнурённого человека ненадолго унимается.
Период «застоя» проходит практически вхолостую. Один из немногих ярких эпизодов той поры: премьера трёхсерийного эпика «Блокада» Михаила Ершова в 1973-м. Этот фильм переносит обильно замусоленную историю об освобождении Ленинграда в формат осовремененного пеплума: размашистого, громкого, прямолинейного. Однако значимые реформы приходят с наступлением «перестройки», когда в прокат пробиваются забракованные цензорами драмы Алексея Германа «Проверка на дорогах» (1971), «Двадцать дней без войны» (1976) и шокирует циничный «Иди и смотри» (1985) Элема Климова. В киновоплощениях Великой отечественной заговорили о судьбе коллаборационистов и беспринципных «гэбистах»: полицаев не стигматизируют и дают им шанс на искупление, но в то же время среди палачей, сжигающих деревни в белорусской глуши, громче всех смеются люди, говорящие на русском языке. Советское кино обнаружило разлом в мироощущении, научилось сгущать краски. Зритель не лицезреет одни только холод, голод и немецких пулемётчиков на правах антагонистов — теперь публику волнует незамыленный взгляд со стороны и плюрализм мнений.
Также в 80-е рождаются картины, посвящённые не блокадному подвигу, но блокадному тлену. Короткометражка «Соло» (1980) Константина Лопушанского смакует могильную тишину, что зависла над зимним Ленинградом в 1942-м. Она рисует Страшный суд путём, неподвластным генеральной линии партии. Из зала, где проводятся репетиции ленинградского симфонического оркестра, неспешно выплывает фигура валторниста Александра Михайловича. Ему удаётся выпросить у худрука отгул в преддверии важного радиоконцерта, чтобы дойти до брошенной квартиры и забрать оттуда мешочек с крупой.

Вокруг — натюрморт немого города, томики Достоевского, догорающие в костре, и равнодушные взгляды исхудалых зевак, ошивающихся на пустых улицах. Герой не найдёт вожделенной пищи, не углядит веры в глазах братьев по несчастью и не услышит доброго слова на обратном пути к филармонии. Однако он сможет чуть ли не на последнем издыхании исполнить своё соло на концерте — вполне возможно, последнем в его карьере и жизни.
«Умереть успеем. Давай пожить попробуем», — заключает главный герой «Пороха» (1985) Виктора Аристова. К этому выводу он шёл сквозь свист авиабомб, разрывы зенитных орудий, кронштадтскую грязь и оскалы контуженных. Поразительно, что именно в этом фильме, снятом без закадровой музыки с ручной камеры, всё-таки нашлось место для жизнеутверждающего высказывания ближе к концу. Непрерывные общие планы, запечатлевающие силуэты перепуганных матросов, что прячутся от авианалёта, оказывают неожиданно умиротворяющий эффект. Хотя должно быть ровным счётом наоборот, ведь враг стоит у ворот Ленинграда, а объектив камеры вылавливает в горячке боя десятки обезображенных трупов. Нет времени для «объективных причин» спать на дежурстве или держать злобу на сдавшие нервы коллег. Нечего шугаться вражеского фугаса, коли под ногами схоронен десяток ящиков с порохом, а в кармане мнётся бумажка с предписанием: добыть взрывчатые вещества и доставить на производство любой ценой. Забытый на загородном складе порох становится дороже жизни тех, кто эвакуирует его под обстрелом. Осада не разменивается по пустякам: «В городе орудия есть, гильзы и снаряды есть, а стрелять нечем».

«Порох» — переходный этап в истории «блокадного» кино, в котором, что символично, Ленинград не окутан снегом. Согласно финальному титру, нынче подходит к исходу лишь 20-й день окружения. Осенний Петербург, где по лужам снуют упряжи, пожарные расчёты и школьники в противогазах, подаёт голос только в те моменты, когда над спальными районами проносится сирена воздушной тревоги. В остальное время Ленинград в «Порохе» необычайно молчалив: подобное затишье, как известно, случается в преддверие бури. Закон военного времени уже начинает перевешивать законы общечеловеческие, а главный герой, уполномоченный наркомом спасти порох от наседающего врага, неохотно задумывается о своём самоубийственном задании. Дело нехитрое: провести сотню кило тротила через линию фронта, считай, на ладони у вражеских «юнкерсов». По возможности, оставшись в живых. Но нет, протагониста всё ещё волнуют семейные дрязги. Но долго ли это продлится? Блокада в «Порохе» выступает как вестник кончины: не физической — от голода или переизбытка шрапнели в туловище — а духовной смерти. В первую очередь враг истребляет не живую силу противника, а сводит на нет планы на спокойное будущее у тёплого домашнего очага, и это в самом деле пугает. Людям не по нраву, когда уходят старые порядки и рассыпается, как песочный замок, идеология.
«Я люблю тебя любовью новой, горькой, всепрощающей, живой». Обновлённое военное кино
СССР закончился. Кинематограф молодой Российской Федерации проходит через болезненные мутации и с горем пополам приспосабливается к новой реальности. Падение плановой экономики открывает дорогу для «кооперативного кино», артхаусной сцены и режиссёров, жаждущих смаковать то, что раньше находилось под запретом Госкино. Творческий андеграунд потихоньку высовывает головы из-под полы и разъезжается по зарубежным кинофестивалям, пока постановщики, работающие на государственные деньги, пытаются поддерживать национальную идентичность отечественного кинематографа.
В произведения о войне проникают новые имена, в них же находят своё отражение недавние конфликты: Приднестровье, Абхазия, Таджикистан, Чечня. Сергей Бодров-старший экстраполирует сюжет «Кавказского пленника» (1996) Льва Толстого на реалии Первой чеченской в одноимённом художественном фильме. Журналист Александр Невзоров почивает зрителя изображением мясорубки, произошедшей в Грозном в конце 1994-го в «Чистилище» (1997). Александр Рогожкин копит материал для создания трагикомедии «Блокпост» (1998) о каждодневной рутине федеральных войск на заставе в глубине Северного Кавказа.
Созревает зритель, вынужденный пройти через ваучеры, «чёрный вторник» и гуталин, намазанный на чёрствый хлеб. Вместе с ним созревает и кинематограф, свободный от ограничителей компартии. Что касается «блокадных» фильмов, то в нулевые они редко выбираются за пределы документального жанра. Ветеран Даниил Гранин ведёт авторскую программу «Блокада» (2003) на ТВ, а Сергей Лозница в 2005 году выпускает фильм с аналогичным названием, но иными средствами художественной выразительности.

Режиссёр, не привыкший вмешиваться в историческую хронику с помощью закадрового комментария и монтажных выкрутасов, отсмотрел архивные кадры, снятые оставшимися в заблокированном городе операторами «Ленфильма», и скомпоновал их в 50-минутную ленту. Лаконично и без сторонних манипуляций (команда Лозницы перезаписала лишь некоторые звуковые дорожки) постановщик передал «четыре сезона» блокадной поры. Осень, когда в воздух взмывают первые оборонительные аэростаты, а по всей длине Невского проспекта возникают зенитные орудия. Первую зиму без отопления и электричества, которая не пощадила ни покрытые инеем трамваи, ни стариков и детей, чьи обмотанные лохмотьями тела возят по улицам на салазках. Весну, когда на улице тает снег, и из-под него начинают выглядывать закостенелые трупы, а горожане разбирают завалы, засыпают песком зажигательные боеприпасы. Лето 1943-го — мгновение, когда советские войска, прорвавшие блокадное кольцо, начнут оттеснять немцев прочь из города. Пускай зритель и не услышит радиосводок об успехах красноармейцев на передовой, зато увидит один из фейерверков, пущенных над городом аккурат перед освобождением. Полунемое зарево салюта, чьи огни подсвечивают силуэты перекошенных зданий и церковные купола.
От подвига блокадных хроникёров, ходивших по умирающему городу с тяжелеными камерами вопреки инстинкту самосохранения, переходим к подвигу режиссёрскому. К сожалению, обделённому вниманием широкой публики. Василий Чигинский, выходец из «Леннаучфильма», снимает короткометражную ленту «Красный стрептоцид» (2001). Зрителю демонстрируют сутки из жизни блокадного Ленинграда в декабре 1941-го. Главврач полевого госпиталя мужественно отстаивает смену за сменой, мучаясь от усталости, пока её контуженный муж валяется с припадком на другом конце города. Раненые солдатики приглушают боль спиртом, невесть где найденным шматом сала и гармошкой, без конца «поющей» «Венгерский танец» Брамса. В то же время их здоровые коллеги ходят по домам и подсчитывают потери среди гражданского населения.

«Мёртв. 2 чел.», — напишут мелом на двери уже опустевшей квартирки сонные патрульные. Десятки мертвецов «оприходованы», столько же застыли в ожидании, пока военные их найдут и учтут в специальном журнале. На дворе ночь, и ленинградцам предстоит перетерпеть до прорыва блокады еще ни одну сотню подобных ночей. Время убывает медленно, словно тот самый кусочек мела, которым помечают «нехорошие» комнатушки.
В нашем же универсуме время течёт привычным ходом. Крепнет российская киноиндустрия, пухнут бюджеты военного кино, и куда чаще режиссёры откидывают документальность в угоду домыслов и зрелищности. Долгое время «блокадный» кинематограф находится в плену у телеформата. Балом правят хрестоматийные «документалки со второго канала», что крутят в послеобеденное время, и приуроченные к памятным датам бюджетные драмы для «маленького экрана». В 2007 году выходит сериал «Ленинград» — повесть о том, как чекист, милиционерша и британская журналистка ищут учёного-гидрографа, знающего о том, где можно проложить безопасный маршрут снабжения через Ладожское озеро. К «дороге жизни» возвращаются авторы многосерийной картины «Ладога» (2014), которая переплетает детективные похождения контрразведчика, борющегося с немецкими диверсантами, с рассказом о снабженцах, ежедневно пересекающих Ладогу под напором бомбардировщиков.
Героизация путает «блокадный» хронотоп. Всё чаще героями фильмов об осаждённом Ленинграде становятся наши современники, слушающие байки дедушек с бабушками, как в «Линии Марты» (2014) Олега Газе, или преисполненные пафосом воины, не знающие ни страха, ни упрёка, как в «Коридоре бессмертия» (2019) Фёдора Попова. Память очевидцев преображается в память приобретённую, так как в XXI веке почти не осталось кинопостановщиков, заставших военную пору. Отныне достоверность кинодокументов отходит на откуп историков и профильных специалистов, и, стало быть, в отечественном искусстве образовывается простор для отпутывания героического от стыдливого, иронии от скандала.

Старая этика оказывается подорвана по двум направлениям. Первое — усомнение в правоте советского госаппарата. В «Трёх днях до весны» (2017) Александра Касаткина злодейской аурой наделяют не только гитлеровские полки, но и сотрудников «компетентных органов», ставящих отлов неугодных государству людей выше судьбы города-миллионника. В картине «Спасти Ленинград» (2019) Алексея Козлова, рассказывающей о трагической судьбе эвакуационной баржи № 752, вражеские силы закрадываются в кадр в качестве статистов, предназначенных для ловли пуль, выпущенных из шустрого ППШ. Настоящей угрозой и безрассудным палачом тут предстаёт полковник НКВД — опытный следователь, чьё появление на спасательном судне оправдывается исключительно драматургической функцией. Чтобы не было у главных героев возможности расслабиться, пока с одной стороны по ним лупят асы «Люфтваффе», а с другой — мнительная контрразведка.
Постепенно традиционный советский пафос отбрасывается в сторону, а репрезентация осады становится гибридной. Теперь жертвой ленинградцев дозволено не только гордиться, но и рассматривать её в иносказательном ключе. Ярким примером подобной деконструкции, когда кино трансформируется из героического продукта в жанровый эксперимент, выступает трагикомедия «Праздник» (2019) Алексея Красовского. Эта лента была снята на частные средства и распространялась исключительно через Интернет, так как властная верхушка находила её оскорбительной по отношению к жертвам блокады. Некоторые из чиновников даже подавали на команду Красовского иск в полицию. Ни сам режиссёр, ни его противники не раскрывают содержания «дел уголовных», однако одного обстоятельство никто скрывать не собирался: фильму не дали прокатное удостоверение.

Проблематика «Праздника» выстраивается вокруг семьи микробиолога, чьи исследования столь важны для правительства, что его семью вывозят в пригород Петербурга, селят в просторном поместье и ставят на «спецпаёк». Там они и собираются встречать Новый 1942-й год. Ленинградцы перебиваются жалкими 200-ми граммами хлеба на одного рабочего и жадно давятся крошками, упавшими на расстеленную газетку, а действующие лица «Праздника» накрывают сытный стол с запечённой курицей и шампанским. До боя курантов остаётся всего лишь пара часов, и ничто не предвещает беды ровно до тех пор, пока на пороге дома привилегированной семьи не появляются незванные гости из числа «простых смертных». Разумеется, весь юмор выстраивается из тщетных попыток «номенклатурщиков» притворяться такими же как все, то бишь обделёнными продовольствием.
Камерная комедия, походящая на театральную постановку, не делает ставку на разоблачительство, хотя поначалу этот факт не кажется столь очевидным. Сам режиссёр заявляет, что блокадный Ленинград здесь является лишь декорацией, помогающей подчеркнуть препарируемую автором мысль: «Всегда есть те, кому повезло больше остальных». Идея не нова: кто-то живёт припеваючи, пока вся страна захлёбывается в крови, и это закономерно. Просто внимания сему факту уделяют не так много, а рупор пропаганды непрозрачно намекает на то, дескать, привилегированность отдельных слоёв населения — всего лишь раздутая спекуляция СМИ. Постановщик не осуждает советскую богему и не принижает страданий блокадников, а просто-напросто привлекает людей в инфополе к насущной проблеме самым верным и эффективным путём: через провокационную задумку. И между делом демонстрирует нестандартный взгляд на опостылевший жанр новогодней комедии для всей семьи, куда же без этого.
Война перестаёт появляться на экранах в рафинированном виде, всё реже и реже воспринимается киношниками как «страшилки» из школьных учебников по истории. Чем быстрее мы отдаляемся от Дня Победы, тем значительнее изменения, которые претерпевает механизм исторической памяти. Ушедшие годы, окутанные ворохом имён и дат, побуждают искать «второе дно» и укрепляют механизмы постпамяти, когда травматический опыт доходит до постановщиков исключительно через посредников: документы, искусство, рассказы очевидцев.
Блокада и её отголоски оборачиваются широким полем жанровых изворотов, когда мы осознаём, что историю можно не только почитать и изучать, но и примерять на неё настоящее. «Дылда» (2019) Кантемира Балагова, перспективного воспитанника Александра Сокурова, повествует о быте ленинградцев уже после окончания войны. Две подруги-фронтовички, контуженная медсестра Ия и её сожительница Маша трудятся не покладая рук. Они вносят посильный вклад в восстановление выстрадавшего блокаду города и мечтают вновь почувствовать дыхание мирной жизни. В те годы многие женщины из числа ветеранов прятали ордена и рвали листки об инвалидности, чтобы окружающие не усматривали в них неотёсанных «солдаток». Ию и Машу волнуют приземлённые ценности: дети, семья, любовь. Вот только окружающий социум настроен на совершенно другую волну.

В выражении «город-герой» Балагов обходит стороной и слово «город», и слово «герой». Мы не видим осады, но способны узреть её последствия: материальные и духовные. Отрешённый, далёкий от реальной советской декоративности визуал с преобладанием зелёного и красного цветов подчёркивает то, как глаза героинь фрагментируют окружающую действительность по принципу «свой-чужой». Персонажи в «Дылде», несмотря на боевые заслуги и ранения, оказываются отвергнуты и ощущают на себе вселенское презрение. Режиссёр лишний раз подчёркивает, что блокада, равно как и вся Великая отечественная, измеряется не только числом погибших, но и утратами, что вскрылись уже после того, как замолчали винтовки. Оговариваемые здесь аксиомы неутешительны: женщина-ветеран — нестабильное существо, окутанное бельмом из предрассудков, особенно, если живёт она «не как все»: вместе с подругой, подолгу не зная тепла мужского тела («Дылду» даже номинировали на «Квир-пальму» на Каннском кинофестивале, что несколько огорчило режиссёра). Ну, а Ленинград, как и любой другой населённый пункт, оглохший от бомбардировок и канонады мортир, улавливает эхо радостного смеха и звонкий марш Великой победы лишь частично, с некоторым запозданием.
«Я люблю Тебя — я не могу иначе, я и ты по-прежнему — одно». Искусство опровергать
«Либо мы через эти страдания возвысимся и всю ненужную шелуху с себя скинем, и станем человеком с большой буквы. Либо, если мы ничего не поймём и всё забудем, то мы исчезнем. Навеки. Как динозавры».
Эти слова, произнесённые в финальной части «Блокадного дневника», громко и чётко объявляют одну из главных мыслей фильма: «Лишения закаляют». Опыт, обретённый в крайней нужде, не пропадёт даром, если удастся донести его до будущих поколений. При том совсем необязательно облачать этот самый опыт в форму героического эпоса или односложной пропаганды. Нужно мыслить шире, товарищи.
Советский писатель Владимир Тендряков, ветеран, прошедший Великую отечественную от Сталинграда до Харькова, вернулся с фронта инвалидом 3-й группы. От многих современников его отличал остросоциальный характер прозы. В 1969 году он написал военный рассказ «Донна Анна», валявшийся «на полке» почти 20 лет. В нём есть одна занятная сцена, которая может послужить образцом того, что чуть выше мы обозначили словами «мыслить шире».
Молодой офицер, только-только окончивший училище, впервые попадает на поле брани. Одного залпа вражеских пушек хватает, чтобы он позабыл о наставлениях мудрых замполитов и начал судорожно орать: «Убейте его! Убейте того, кто ставил „Если завтра война“!» Воспитанный патриотическим кино боец познаёт катарсис, когда над его головой свистит свинец. Не столько трусость, сколько реновация мыслей — обязательный атрибут взросления как человека, так и отдельно взятого пласта искусства.

Кинематограф — наиболее универсальный в плане подачи медиум, а военное прошлое нашей страны — кладезь историй о мужестве, стойкости, трудностях и силе воли, необходимой для их преодоления. Эволюция и, как следствие, деформация взглядов о Великой Отечественной, особенно сегодня, спустя 75 лет со дня падения Рейхстага, неизбежна. Всякое изменение требует пересмотра зашоренной позиции и расширения горизонтов.
История «блокадного» кино доказывает, что люди Советского Союза, равно как и граждане новой России, нащупывают путь к трезвости взгляда. Они смотрят на трагические события минувших лет, словно на проекцию вызовов настоящего на задокументированную горечь прошлого. Возрастающая с годами смелость в этом подходе не может не вдохновлять. Правда, нередко наше общество готово становится цензором для самого себя, заваливая ещё не вышедшие в свет проекты негативными отзывами, и руководствуется предрассудками. Ведь писала пленница блокады Ольга Берггольц, чьи строки мы цитировали в подзаголовках данной статьи, о том, что не нужно мыслить однобоко и пенять на что-то «другое»:
«Я исхода не предрекаю,
Я не жалуюсь,
Не горжусь».