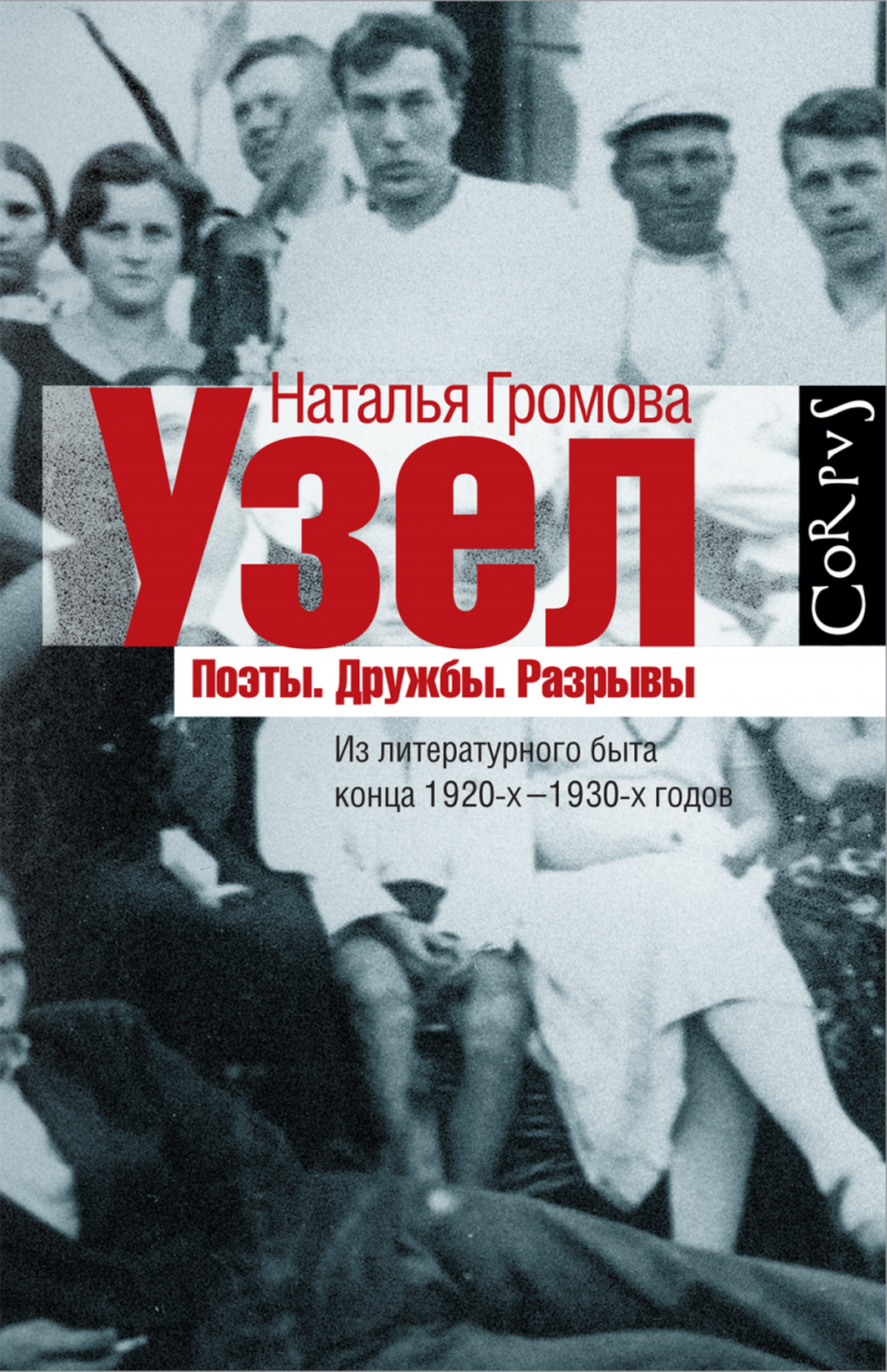В издательстве CORPUS вышла книга Натальи Громовой «Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца 20-х–30-х годов». Автор «Дискурса» рассказал, почему она обречена на успех и в узкой литературоведческой среде, и для читателя, не имеющего специального интереса к литературной жизни предвоенной Москвы.
Важность книги Натальи Громовой с точки зрения литературоведения безусловна. «Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца 20-х–30-х годов» — уже второе (за прошедшее десятилетие впитавшее опыт освоения новых источников) издание основательного труда, посвященного литературной жизни Москвы в переходный период. По определению самого автора, «„пропущенные“ времена — своего рода роковая точка, куда-то и дело возвращаешься, они снова и снова напоминают о себе». Однако удача книги не только в бесценном материале, собранном и обработанном, подключении ранее неизвестных архивных источников и смыслово насыщенных мемуарных публикаций, позволяющих детализировать ландшафт литературной жизни 30-х гг. — случайно и намеренно забытого времени, «которое потребовало от человека полного отречения от себя». Удача книги еще и в том, как не только на уровне фактов, но и на уровне композиции в ней проявлены характерные черты этого времени; как реализуется сложно устроенная система оппозиций, модель взаимоотношений между основными участниками событий тех лет: писателем и писателем, писателем и государством, личностью и временем.
Предисловие ко второму изданию начинается с указания на то, что за последнее десятилетие «тема советской литературной жизни и литературного быта перешла из маргинальной в центральную тему истории литературы». Сейчас кажется совершенно естественным внимание исследователей к этому периоду. Карл Аймермахер в своей книге «Политика и культура при Ленине и Сталине. 1917–1932» указывал на особую важность периода 1917–1932 гг., предшествовавшего «великому перелому», т. к. именно в этой фазе культурно-политического развития сформировались наиболее существенные характеристики образовавшейся затем «советской литературы»: «прошлое в форме личного и предметного наследия взаимодействовало, конкурируя, со всеми новыми институтами, образовавшимися после 1917 года, и по завершении которого возникла совершенно новая социальная пирамида». В этом основная особенность такого рода исследований, и книги Громовой в частности: разговор о литературе здесь невозможен без подключения социо-культурного и политического контекста.
Эта же идея лежит в основе работ другого авторитетного исследователя советской литературы Евгения Добренко («Формовка советского писателя» и «Формовка советского читателя»). Исследования советской литературы, по его мнению, часто сводятся к рассмотрению наиболее значительных текстов, созданных в то время, но «несоветских» по своей сути, не раскрывающих особенностей той уникальной литературной ситуации. Поэтому необходимо заниматься текстами второго и третьего рядов, реконструкцией деятельности культурных институций и литературных объединений, основываться не только на анализе «продукта» формирующейся новой культуры — конкретных художественных текстах, — но и «процессе производства», концентрируясь на социальных истоках и культурных задачах искусства. Это же касается изменения роли и позиции читателя: «Новая перспектива чтения, сформированная в советской культуре, не может быть осмыслена ни только с позиции литературы (здесь мы видим уже результат), ни только с позиции читателя (здесь мы видим только предпосылки), но лишь на пересечении их путей в проекции Третьего — власти и ее интенций».
Именно такое понятие пересечения путей лежит в основе структуры книги Громовой. С подключением не менее важного «личного» уровня: «В этом повествовании мы попытаемся пройти вслед за литераторами, искавшими разные пути в советской действительности. И теми, кто приспосабливался, и теми, кто прятался за переводы и писал „в стол“, и теми, кто сопротивлялся и погибал, и теми, кто сломался». Так, на переплетении строится рассказ о жизни Москвы в 20-е гг.: авторская речь подкрепляется чужим словом, мемуарами современников, ссылками на архивы. И тут же встраиваются стихотворения, что создает особенно интересный эффект. «Зима и осень в Москве — время галош и ботиков, которые надевались прямо на туфли с каблуками. Особенно модными были фетровые ботики. Приход весны в город в стихотворении В. Луговского знаменует стук каблуков по асфальту: Все женщины сняли галоши и боты. // Стучат каблуки. Продают тоску». Стихотворения Сельвинского, Луговского, Заболоцкого и других героев повествования гармонично заменяют в структуре текста документальные свидетельства, будто сами приобретают в контексте статус свидетельств. Однако воспринимать их лишь в этом качестве значило бы сильно ограничить не только их роль, но и собственное восприятие. Такое переплетение работает гораздо интереснее, наглядно демонстрируя двустороннюю связь: описания быта позволяют понять, что лежит в основе стихотворений, распознать явленные в слове «приметы времени», однако в то же время становится ясно, что сами стихотворения являются неотъемлемой частью этого быта, влияя на него и даже его формируя. Грань между бытом и поэзией в это время утончается, позволяя первому проникать и внедряться в произведения современников. Однако без обратного воздействия процесс нельзя считать полноценным. Распознавание таких взаимосвязей и взаимовлияний, пожалуй, увлекает даже больше, чем также представленная на страницах реконструкций взаимоотношений писателей.
Кроме того, композиция книги позволяет выявить важное для тех десятилетий соотношение «писатель–группа–государство». Хотя эта книга, как говорится в аннотации, «о судьбах поэтов в трагические 30-е годы на фоне жизни Москвы предвоенной поры», одна из двух частей посвящена двадцатым годам. Именно в эти послереволюционные годы начинает формироваться основа «новой культуры», поэтому два десятилетия связаны не менее тесно, чем быт и литература в это время, и рассматривать их в отдельности сложно. В приложениях представлен очень интересный документ, «Автобиография» Дмитрия Петровского: «Война и революция, вырвавшаяся из нее с силой выброшенного снаряда, силой общего движения влекла и лепила людей, заканчивая рисунком то, что в человеческих личностях таилось как набросок».Строки из нее — «Что в личностях таилось как набросок» — стали подзаголовком части, посвященной двадцатым. Подзаголовок имеется и в самом документе — «набросок биографии». Именно этот значимый для книги образ позволяет увидеть первую часть как целое.
Отдельные небольшие по объему главки вводят в повествование новых героев и нити их судеб: «Петровский. „Наследник традиции поэтического безумия“», «Хлебников и Петровский», «Пастернак и Петровский», «Луговской. Первородный грех происхождения», «Петровский и Луговской. „Поэты перешли на ‚ты‘“» — по названиям видно, как одна ниточка переплетается с другой, следующая цепляется за предыдущую, постепенно образуя цельное полотно. В этом чувствуется энергия, направленная на преодоление хаоса, стремление все же усмотреть определенный рисунок во множестве набросков, разрозненных частей. Осмыслению процесса «ломки» посвящена значительная часть книги: «Такой своеобразной эпитафией Ромм уже в 20-е годы определил отсутствие места для своего культурного слоя в новой литературной и исторической реальности», «И, похоже, что та беглянка писалась с Марины Цветаевой, с неслучившейся их любви в начале 20-х годов. Любви на фоне хаоса, ломки быта. Спекторский — неуверенный в себе интеллигент, вечно выбирающий между двумя женщинами, зажатый между прошлым и настоящим, не определившийся по отношению к власти», «поколение, разорванное на тех, кто здесь — в России и кто — вне ее». Основа полотна — хаос, разобщенность, основу задает время.
Таким образом, на этом этапе (1920-е), во многом сохранившим связи с традицией, Серебряным веком, еще работает вполне привычный подход, при котором фигура писателя становится исходной точкой в изучении истории литературы. В 30-е гг. ситуация значительно усложняется, что демонстрирует вторая часть книги. Напряжение между личностью и временем возрастает: тогда как значительная часть главок посвящена изменениям быта и социо-культурной ситуации («„Организовали РАПП, разогнали РАПП…“», «О бытовом разложении», «Поездка писателей на Беломорско-Балтийский канал», «Угадывание знаков власти» и т. д.), личностная перспектива восприятия этих изменений вынесена в Приложения с подзаголовком «Люди тридцатых годов. Письма, дневники, воспоминания». Такое разъединение, с одной стороны, отсылает нас к характерному для тех лет стремлению к документации («Документ должен был в каком-то смысле заменить литературу»), а с другой — акцентирует внимание на несколько иной природе раздора. Описание двадцатых годов показывает, что власть и культурные изменения, в том числе ею инициированные, — с одной стороны, писатель — с другой. И те условия, в которых он в конечном счете существует, формируются во взаимном влиянии этих двух сторон. Теперь же власть становится не только полноценным субъектом, но и создает условия, в которых существует культура и человек: «РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), которая в годы нэпа выполняла роль надсмотрщика за неблагонадежными писателями, вела и погоняла писателей-попутчиков, вдруг потеряла все свое влияние и была уничтожена постановлением о роспуске РАППа в апреле 1932 года. Власть, уничтожая ненавистную для многих писателей организацию и подготавливая почву для создания Союза советских писателей, вырывала с корнем и все другие кружки и частные организации», «Сталин решает объединить и связать писателей под общей крышей, не только профессионально — в Союзе писателей, но и в бытовой жизни». Писателю двадцатых годов показывали направление творчества, писателю тридцатых давали заказ — роль художника сводилась к минимуму.
При этом книга Натальи Громовой написана так, что, несмотря на довольно узкую тему, может быть интересна не только литературоведам, филологам и прочим специалистам. В круг рассматриваемых событий страница за страницей включаются все новые имена, названия объединений и литературных группировок, и многие из них, неизвестные читателю, оптика которого настроена на литературу первого ряда, вызывают желание найти и разобраться, погуглить, в конце концов. И каждое такое действие подключает еще одну область, связанную с этим конкретным именем, и так далее, переход от одной ссылки к другой — исследование рождает исследование. Можно сказать, что за десять лет не только изучение литературного быта было выведено из маргинальной области, но и выработались способы рассказывания о нем в рамках серьезного литературоведения, при этом с большим популяризаторским потенциалом. Хотя стоит признать, что и сам материал располагает к вниманию широкого читателя: переплетение событий и судеб зачастую не уступает в увлекательности сюжету хорошего детектива.