С Ольгой Осиповой первый раз мы встретились в антикафе в центре Москвы — у нас оказался общий знакомый. Ольга, увлеченная настольными играми и беседой с друзьями, показалась совершенно не похожей на человека с тяжелой судьбой.
Второй раз мы увиделись с Ольгой, чтобы записать историю ее жизни. В свои 35 лет девушка пережила серию пожаров, два теракта, столкнулась с болезнями близких и собственным диагнозом — раком.
Сегодня ее будни не меньше насыщены событиями, но уже позитивными — Ольга занимается йогой, планирует пробежать марафон и танцует сальсу. Девушка долго видела в своей жизни негатив для окружающих, потому что людям тяжело обсуждать такие вещи, но согласилась поделиться своей историей с Дискурсом, потому что её опыт может помочь другим.
Три пожара, слёзы и самообладание
Главным событием 1990-го года для меня стал не первый класс, не перестройка, а первый пожар в нашей квартире. Мне было всего шесть лет, и в этом возрасте я обожала коммуналку, где мы жили, и мечтала, что когда вырасту, тоже буду жить в коммуналке. Детство в ней было таким прекрасным временем.
Однажды мы с мамой и младшим братом вернулись в нашу квартиру на шестом этаже и почувствовали адский запах гари. Включили свет в коридоре и увидели сочащийся из комнаты соседей дым. Я помню, что мама в состоянии шока распахнула дверь и пламя пошло прямо на нас, огонь за секунды заполнил коридор. Мама судорожно пыталась найти телефон, чтобы вызвать пожарных. Я схватила своего четырёхлетнего брата, который уже успел снять обувь, и рванула на улицу. Мамы долго не было, и я очень переживала. Спустя какое-то время она вышла, изнеможенная и плачущая, но невредимая. Тогда я впервые увидела, как моя мама плачет, хотя ни до, ни после она ни на что не жаловалась и всегда с достоинством принимала происходящее. В тот день у нее тряслись руки, она только и могла, что повторять: «Мы горим, мы горим». Мы временно остались у соседей, потом ещё какое-то время кочевали.

Пожарники приехали быстро. Квартира уцелела, выгорела только комната, где жили соседи, и общий коридор. Две наши комнаты и имущество не сгорели, но пострадали от большого количества воды. Соседи после пожара получили новое жилье, а нам досталась трехкомнатная квартира целиком.
Когда мне было 9 лет, произошёл еще один пожар. Мы с братом и соседским мальчиком играли дома, когда дым стал сочиться через входную дверь. Мне сразу вспомнилась картина из прошлого, и я побежала ко входу в квартиру — там была пелена дыма. Он начал заполнять квартиру: сочился из коридора, из углов и щелей, из ванны и туалета. Мы не могли выйти. Единственным спасением был балкон. Там мы и спрятались. С другого балкона объяснили, что загорелся лифт и нужно оставаться дома, пока не будет потушено возгорание.
Всё время, пока мы прятались, я искала пути отступления. У нас был выход на соседский балкон, но его давно заколотили. Я освободила его от лишних вещей и даже смогла открыть, так что у нас была возможность спуститься вниз.
С тех пор, заходя в любое помещение, я всегда сканирую пространство и ищу пути отступления. Если я вижу большое скопление людей, я стараюсь его обойти. Если я захожу в вагон метро и чувствую опасность, я выхожу и жду следующего поезда.
Третий пожар случился, когда я училась в старших классах. Мама просто зашла в мою комнату и сказала: «Мы опять горим». Она всегда умела говорить невозмутимо. Я тоже буднично переспросила ее: «Что, опять?». Мама ответила, что этажом ниже загорелся балкон. Её самообладание придало мне сил, поэтому третий пожар прошел достаточно безболезненно — мы быстро собрали нужные вещи, готовые в любой момент покинуть дом.
«Там умирали семьями»: теракт на улице Гурьянова
В 1999 году, накануне того, как к власти пришёл новый президент, я была ученицей 11 класса. 8 сентября мы отмечали день города, стояла очень теплая погода, всё казалось праздничным и радостным. Но ночью жизнь полностью изменилась. В ближайшем к нам доме, девятнадцатом, прогремел взрыв.
Я проснулась в полночь от пронзительного крика, полного боли, жуткого многоголосия человеческих стонов. Я сразу поняла, что случилось что-то страшное. Всё тело трясло, и ничего с этим нельзя было поделать. Меня подбросило в кровати, в доме билась посуда, из окон вылетали стекла. Казалось, что это сон. Я даже пыталась снова уснуть, игнорировать происходящее. Потом услышала маму, она сказала собраться. Мы молча сложили документы и некоторые вещи и вышли на улицу. Тут же я увидела папу, по его лицу и хладнокровной реакции мамы я убедилась, что происходит что-то очень серьёзное.
Первое, что бросалось в глаза — красный цвет. Красными были деревья, машины, асфальт, фонари словно светили красным. Первый этаж взорванного дома был построен из красного кирпича, который превратился в пыль. Она и покрыла все пространство. Вокруг бегали полуголые люди, кто-то плакал, все были грязными, испачканными в этой красной пыли, крови и грязи, в рваной одежде, с совершенно безумными глазами.
Когда мы вышли из подъезда, окна в домах светились, но на месте взрыва была абсолютная темнота. Я была уверена, что началась война. Мы побежали за потоком людей. Увидели соседей, таких же испуганных, как и мы. Вокруг что-то кричали про скопление газа, говорили, что к реке нельзя, потому что она находится в низине. Вместе с толпой мы побежали вверх, к станции.
Там умирали семьями. Погибло больше ста человек. Школа опустела — в девятнадцатом доме жили многие ученики, в том числе мои одноклассники. У меня до сих пор хранятся старые газетные вырезки — рука не поднимается выбросить. Я общалась с Сашей Михайлиным, который жил на втором этаже. Мы с ним учились в параллельных классах. Я общалась с его старшей сестрой. Знала его маму и папу. Они всей семьей оказались погребенными в завалах.
Я тогда узнала, что можно лечь спать и не проснуться, и никогда не понять, почему так случилось.
Через какое-то время в районе теракта проводили взрывные работы, чтобы уничтожить остатки разрушенных домов. В соседних домах окна заклеивали крест-накрест, чтобы спасти стекла. Это тоже напоминало войну, очень страшная картина.
В нашей семье не было принято обсуждать эмоции, все события мы воспринимали как должное и не обсуждали. Главное — мы вчетвером, с родителями и братом, остались в живых. Дальше снова пошла жизнь.
«Я захотела быть живой»: три дня «Норд-Оста»
Я успешно окончила школу, с медалью. Поступила в технический вуз на химика. Финансовой помощи ждать не приходилось, и на втором курсе, в январе 2002 года, я нашла себе подработку в Театральном центре на Дубровке. Это было прекраснейшее место, я лучшего не могла придумать, тем более для своих лет. Я работала там буфетчицей до начала спектакля и в антракте, а после антракта мы собирали остатки еды, сдавали рабочее место и были свободны.
Это была великолепная, позитивная работа: люди приходили в театр с хорошим настроением на фантастический мюзикл «Норд-Ост», а мы все были одной большой семьей — режиссёры, постановщики, актеры… В главных ролях были Андрей Богданов и Катя Гусева, которую в то время ещё плохо знали, но её потенциал уже был виден.
В среду 23 октября 2002 года я, как обычно, пришла на смену. На улице было дождливо, и я как-то случайно надела почти всё чёрное: брюки, кофта, пальто и красная, даже алая рубашка. Мне достался бар на первом этаже, тем вечером я работала со своей близкой подругой Аней.
После антракта прозвенел третий звонок, мы стали заниматься своими делами: складывали продукты, гремели посудой, перекладывали «Фанту» и «Колу». Нам не хватило 5 минут.
Вдруг фойе второго этажа наполнилось звуками бьющегося стекла и хлопков. Я увидела людей в масках и тут же сказала: «[сотрудник буфета] Серега Стародубов опять прикол устраивает!». За пару дней до этого он разыграл нас: надел чёрную маску, что-то взял в виде оружия и инсценировал ограбление. Тогда, снова увидев людей в масках, я засмеялась.
Не прошло и минуты, как ко мне приставили оружие и положили на пол. К нам свели других людей, которые встретились на пути террористам. Нас повели в зал, открыли двери, там шло первое действие второго акта — мужская партия, где артисты в камуфляжной форме танцуют чечётку. Прекрасное выступление лётчиков. Когда вместе с нами в зал зашли люди в камуфляже, зрители спектакля засмеялись. Они восприняли это как экшн, часть спектакля.
В тот день мозг сопротивлялся, отказывался осознавать, что происходит. Состояние неверия вообще очень долго длилось, целые сутки. Оставалось только надеяться, что прямо сейчас всё закончится и мы все пойдем домой.
Нам дали тогда сделать несколько последних звонков, сообщить, что домой мы не вернёмся. Я позвонила папе и сказала:
«Пап, у нас тут непредвиденные обстоятельства, я не знаю, когда вернусь, но очень сильно вас люблю и хочу домой».
Папа принял это всё спокойно, только сказал, чтобы я скорее возвращалась —он ещё не понимал, что происходит. Он осознал это, только когда включил телевизор. Сразу стал звонить маме, но и она тоже не поверила — сказала, что папа просто хочет быстрее вернуть её с дня рождения тёти.
За эти три дня все умерли множество раз: представили, как тело разорвёт на куски от взрыва или как их застрелят, или просто лопнет аппендицит — так случилось с одним парнем в зале, он все три дня мучился от боли. Никто не мог предсказать, каким будет конец, но каждый знал, он настанет. Никто из террористов не выдвигал чётких требований и никто не пытался идти на контакт. Свободных выходов из здания почти не осталось — заминировано было всё, что вообще можно заминировать.
Через сутки мы начали понимать, что всё происходящее — реальность. Стало ясно, что даже если кто-то придёт нас спасать, спасением это не будет. В зале было столько тротила, что спасение означало смерть. Мы были готовы смириться с теми условиями, в которых находились. Мы не хотели, чтобы нас спасали, потому что не видели выхода из ситуации. Я видела только одно: 40 террористов и тысяча заложников. Всё остальное происходило уже в другом мире. Мы шли ко дну все вместе.
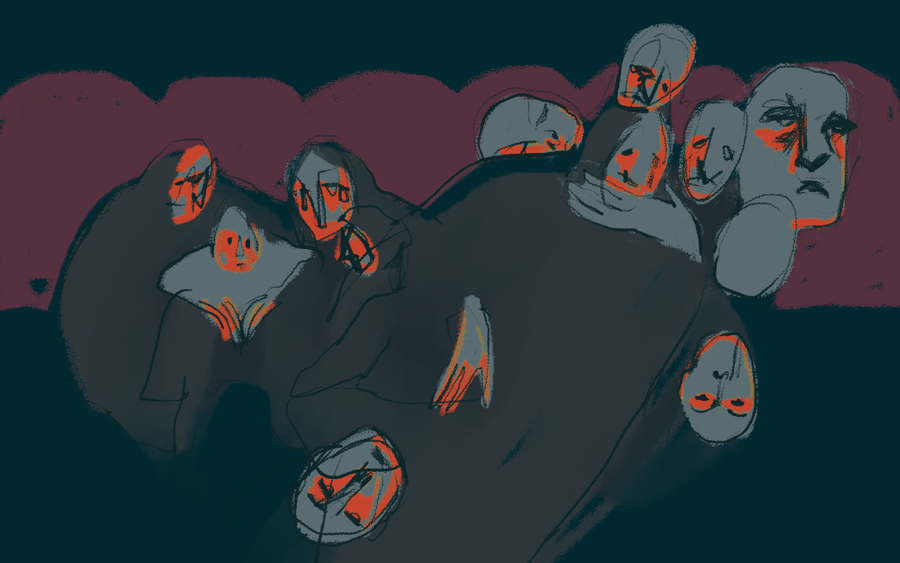
Три дня мы не ели и не пили. Мы старались сохранить бутылки, чтобы в случае нужды воспользоваться ими, но не идти в оркестровую яму — она превратилась в выгребную. Там накопилось много экскрементов, перемешанных с деньгами и личными вещами. Всё ценное, что террористы нашли, они демонстративно высыпали в эту яму. Я помню, как эти деньги прилипали к ногам. Всё в яме происходило под контролем террористов. После одного похода туда каждый старался сделать всё, чтобы больше не возвращаться — отказаться от еды и воды, терпеть вечно, вообще остановить процессы жизнедеятельности, лишь бы не идти снова в оркестровую яму. Когда нам предлагали передать гуманитарную помощь с едой, нам было смешно, потому что еда в целом была, но не она была так необходима.
Спасение пришло 26 октября — этот день я отмечаю как второй день рождения. Было очень холодно — случились первые заморозки. Когда пошёл газ, я проснулась от звуков перестрелки на сцене и увидела опускающийся туман. От газа руки и ноги становились ватными. Состояние было похоже на наркотическое опьянение, некая нирвана. Я пыталась сфокусироваться, трясла голову, но картинка исчезала почти мгновенно. Тогда думалось, что это прекрасная смерть. Но я всё равно сняла с себя белую рабочую майку — у меня не было времени её смочить, но удалось обмотать сухой тканью лицо. Те, кто смог намочить ткань, столкнулись лишь с минимальными провалами в памяти, избежав других негативных последствий. Я лично знаю людей, которые помнят все события того дня.
Эвакуация происходила очень быстро, людей выносили на улицу и складывали на парапеты. В тот момент мы особенно остро ощущали конец, мы были психологически истощены и готовы к любому исходу. Я очень благодарна человеку, который вынес меня оттуда, именно он дал мне шанс на жизнь. Когда он меня поднял, я первый раз с начала штурма пришла в себя. Он не бросил меня, донёс до автобуса, и благодаря ему я доехала до больницы. Я просила воды, но мне её не дали. Какая-то женщина стала бить меня по щекам и всё просила потерпеть ещё чуть-чуть. Говорить не получалось, и я снова потеряла сознание.
Потом — словно глоток свежего воздуха — меня доставили в тринадцатую больницу. В этом человеческом конвейере нас пытались максимально быстро распределить по отделениям. Я была в сознании, надо мной столпились врачи и очень долго задавали вопросы. Когда мне дали воды, началась рвота, которая продолжалась почти сутки. Меня обкалывали какими-то препаратами. Люди рядом лежали в неадеквате, с потерей памяти, кого-то увозили в реанимацию.
Мой личный ад начался уже после больницы, когда я узнала, что не у всех сложилось всё так же хорошо, как у меня. Родители долго скрывали имена моих погибших друзей. Когда я узнала об их смертях, всех моих близких успели похоронить. Я корила себя, что не искала друзей по больницам и так слепо верила, что всё сложилось счастливо.
Я потеряла 15 человек. Они были лучшие — люди, с которыми я была знакома лично, которых любила и уважала за талант, за жизненную позицию — оркестр, служба зала, бармены. Мы с Аней всегда были рядом и тогда, в октябре, тоже до последнего оставались вместе. Ей был 21 год, и её не доставили в больницу. Причина смерти — газ. Она потом снилась мне. Аня садилась в трамвай на остановке, а я кричала и пыталась схватить её за руки, отвести домой. Она жестко отталкивала меня и говорила, что ей и так хорошо. Потом это прекратилось.
Я поняла, почему осталась жива — не Аня, не другие мои друзья, они ведь тоже были достойны жизни: я выбрала жизнь, я захотела быть живой и выйти оттуда любой ценой. Все три дня я возвращала себя к этой мысли, напоминала себе о тех, кто меня ждёт.
Я не могла повлиять на ситуацию, но могла повлиять на свой внутренний выбор — решить остаться в живых и вернуться.
Аня все три дня очень сильно переживала, всё время плакала и прощалась, прощалась со всеми. В какой-то момент мы c Аней и ещё одной подругой, Машей, стали писать предсмертные записки. Маша была очень сдержанной, держалась молодцом и практически не плакала. Она быстро отказалась от этой затеи и выкинула салфетку. Я написала свою записку, но решила, что это абсолютно бессмысленная идея: если произойдет взрыв и от меня ничего не останется, то записка тоже не сохранится. Я порвала её и выкинула. Но записка Ани всё же попала в руки к адресатам. Это всё, что осталось родителям.
Оправиться после «Норд-Оста» было очень сложно. Моя психика всегда была достаточно устойчивой, поэтому удалось быстро акклиматизироваться, вернуться в институт, пересмотреть свои взгляды на жизнь. Правда, всё в какой-то мере потеряло смысл.
9/10 боли
Мама всегда была сильным и закрытым человеком, но события «Норд-Оста» глубоко её потрясли. По словам брата, в последние часы, когда всем казалось, что заложников уже не спасти, мама просто закрылась в своей комнате и не выходила. Когда я вернулась домой, радость родителей была невероятной, но длилось это недолго. Вскоре у мамы диагностировали рак груди. Она начала быстро худеть и легла в больницу. Тогда передо мной был другой человек.
Перед операцией в больнице в Сокольниках я увидела маму плачущей второй раз за всю жизнь. Её прооперировали, отняли грудь. Мама даже не подавала вида, что в нашей жизни что-то изменилось, не показывала, как ей сложно и дискомфортно.
Когда ты находишься в эпицентре событий — это лишь одна десятая боли. Вся остальная боль остро ощущается, когда ты не в силах помочь любимому человеку.
Потом всё восстановилось. Мы с мамой окрепли, наши отношения стали более глубокими. Она мотивировала своим примером, и вместе мы радовались каждому дню.
Затем моему брату диагностировали шизофрению. Это была точка невозврата — он стал совершенно другим человеком, его мозг будто перенёсся в другое измерение. Я не могла поверить, что лишилась брата.
Чтобы осознать происходящее, мне потребовалось два года. Он стал опасен для общества и самого себя, нужно было начинать его лечить. Но это лечение, конечно, больше напоминает убийство — мозг нужно полностью перезапустить, так что человек превращается в овощ.
Я теперь знаю практически всё о психиатрии в нашей стране и знаю, насколько в этой сфере всё печально. Насколько эти люди не нужны вообще никому. Оказалось, что это состояние никак не поддаётся корректировке. На примере других больных я видела, что шанса нет, мой брат всегда будет таким.
Это была не только боль, но и чувство вины. Я не понимала, почему он, а не я. Было совестно за то, что брат никому не нужен. У родителей, которые постоянно ухаживают за братом, осталось постоянное ожидание его внезапной смерти — это вполне может произойти в любую минуту, ведь он не принадлежит себе.
Болезнь — это подарок
Есть мнение, что рак вызывают эмоции, которые не прожиты — подавлены, но не забыты. В 2014 году мне было 30 лет, и, видимо, чувство вины продолжало сидеть во мне.
Мне диагностировали рак. Сказать, что это было громом среди ясного неба — ничего не сказать. Я в то время встретила любимого человека, у нас были грандиозные планы на жизнь, мы хотели детей. В момент самого бурного периода развития отношений моё здоровье стало ухудшаться, буквально за три месяца стало совсем плохо. Никто из врачей толком ничего не мог сказать.
Мой диагноз обнаружили случайно. Чтобы поддержать себя энергетически, я собиралась записаться к иглотерапевту. Позвонила — оказалось, что в ближайшее время принять меня он не сможет. Я поблагодарила его и непроизвольно кашлянула в трубку — кашель вообще был единственным симптомом, кроме слабости и температуры. Иглотерапевт вдруг сказал, что ему не нравится мой кашель, и порекомендовал сделать КТ средостения. Про себя я тогда подумала, что это совершенно непонятная рекомендация, к тому же обследование стоило в районе пяти тысяч рублей, и я решила отложить это на потом.
Он перезвонил через три часа: обзванивал все незнакомые номера и забыл, что мы уже разговаривали. Тогда иглотерапевт спросил, сделала ли я КТ, а потом сказал, что времени ждать бесплатный рентген у меня нет.
На часах было восемь вечера, я сорвалась в первую попавшуюся платную клинику, мне сделали КТ. В области грудной клетки было инородное тело. Не понимая, что с этим делать, они отправили меня в ближайший онкодиспансер.
На следующий день началась совсем другая жизнь. Районный врач сказал, что для традиционной схемы лечения нет времени, биопсия могла бы отнять слишком важные для меня дни. Мне дали направление в Сокольники, в ту же больницу, где была моя мама. Я сидела в коридоре, куда приходила несколько лет назад, и думала о жизни, которая опять привела меня в то же самое место.
Меня отказались госпитализировать в Сокольниках и отправили к хирургу, специализирующемуся на трансплантации легких. Я со всеми выписками пришла в приёмное отделение института Склифософского и сказала, что должна попасть внутрь. Скорая помощь не смогла от меня отказаться. Наконец я узнала точный диагноз — мелкоклеточный рак четвертой стадии.

Со мной были мои близкие люди, в том числе мой мужчина, который был рядом и прошёл весь путь вместе со мной. 5 сентября я уже получила первую дозу химиотерапии. Всего было 12 химий на протяжении трёх месяцев. Я медленно умирала, чтобы снова воскреснуть — уже без рака. Потом была лучевая терапия, потом двухлетнее восстановление.
В мире всё продумано до мелочей. Теперь я понимаю: онкология — это лучшее, что могло случиться в моей жизни. Это стало настоящим обновлением.
Я потеряла волосы, а вместе с ними всё то, что не имеет смысла. У меня появился шанс начать всё с чистого листа.
И если человек, оказавшись в подобной ситуации, сразу осознаёт, что болезнь — это подарок, вызов и возможность сделать себя ещё лучше, то он сможет идти по жизни без страха.
Я долгое время считала, что события моей жизни — источник негатива. Люди редко хотят обсуждать такие вещи. Но иногда я вижу, что мой опыт ценен, что я могу помочь, если поделюсь своей историей. Для добрых дел важна скорость и решительность. Если ты мешкаешь, раздумываешь, помогать или нет, то скорее всего пройдёшь мимо.
Сейчас мне 35 лет и я бегаю 35 километров, хочу пробежать 42 и обязательно сделаю это. Я окунаюсь в ледяную прорубь, танцую сальсу и наслаждаюсь жизнью во всех её проявлениях. Я вижу, насколько прекрасен этот мир, где все продумано до мелочей, даже самый сложный и страшный диагноз. Это не болезнь, просто вектор направления, показатель того, что я иду конкретной дорогой. Нельзя забывать, что каждое событие — это только часть дороги. Всю дорогу мы можно увидеть, только пройдя весь путь целиком.
Иллюстрации: Ванесса Гаврилова














