Самому молодому узнику концлагеря Маутхаузен на момент заключения было всего 15 лет. Сейчас Евгению Моисееву 92 года, но он до сих пор в деталях помнит, как во время второй оккупации Ростова-на-Дону в июле 1942 года он и его друзья были схвачены за помощь партизанам, как их вывезли на работы в Германию, а затем в лагерь уничтожения Штуттгоф и печально известный Маутхаузен.
В интервью Дискурсу он рассказал о том, почему представитель администрации концлагеря помогал русским, как пребывание в лагерях смерти подарило арестантам веру в братство народов, зачем польские заключенные учили «Калинку», как ему удалось выжить и чему он научился за годы, проведённые в лагерях.
Мы умели болеть всей душой
Я родился и вырос в Ростове-на-Дону. Мы, мальчишки, в советское время отличались тем, что были активными — имели живой интерес ко всему, занимались разными видами спорта: легкой атлетикой, борьбой, теннисом. Я входил в состав юношеской сборной команды общества «Динамо». Целыми днями пропадали на футбольном поле: наблюдали за игрой, сами играли.
Почему я это рассказываю? Перед объявлением войны мы с друзьями как раз были на стадионе: тренировались дольше обычного и задержались. Потом пошли домой после игры, смотрим — во дворе наших домов собрался народ. Все печальные какие-то, слезы вытирают. И мама моя там. Подходим, я спрашиваю: «Мама, что случилось?». Она меня обняла и ответила: «Сыночек, война».
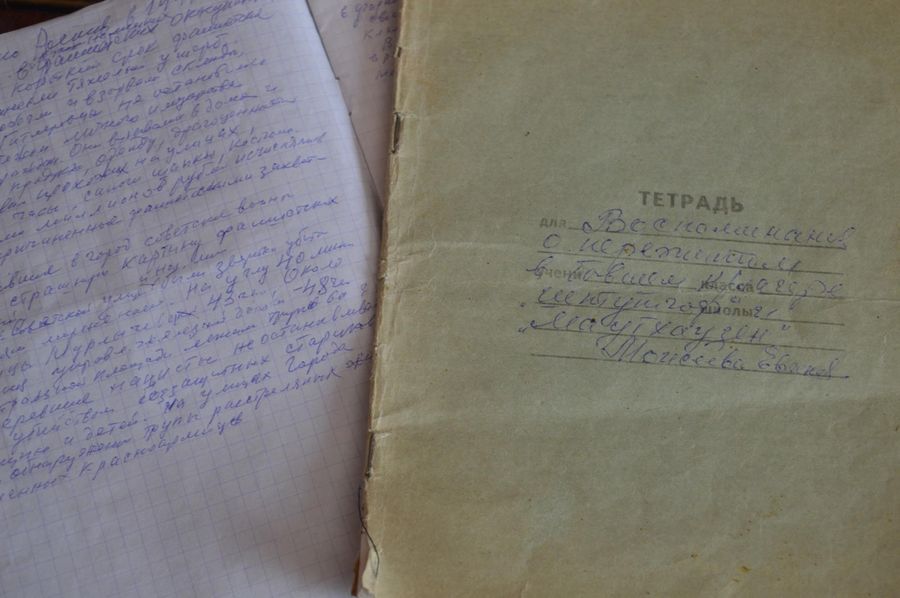
Это было 21 июня, 1941 год, мне было четырнадцать, два месяца не хватало до пятнадцати. И мы с друзьями сразу решили: «Бежим в школу!». А возле школы уже толпились люди. Народ возмущался: «Как? Война?». Мы, ребята, с удивлением смотрели на происходящее и, конечно, перенимали какое-то возбуждение. Думали: «Надо помогать!». В то время у нас страха никакого не было абсолютно. Мы умели болеть всей душой: за свою футбольную команду, за друзей. Всегда был дух соревнования, азарта какого-то ребяческого, бесстрашие. И также мы болели за свой город, за свою страну. Не могли молча наблюдать за всем, что происходило.
Учителя успокаивали школьников, говорили, что победа точно будет за нами. Молодежь — те, кто постарше нас — уже собрались в очередь записываться на фронт. В первые дни войны ушли воевать мой дядя, пятеро двоюродных братьев. Четверо из них погибли. Потом ушел воевать и мой отец. Он дважды принимал участие в освобождении Ростова, трижды был контужен, участвовал во многих боях. Мама и сестра остались дома.
Такое было по всей стране, молодые ребята и мужчины хотели воевать. Когда мы узнали о начале войны, началось время гражданской активности, разгорелось желание участвовать, помогать нашей Родине.
Группа дружных, проверенных ребят
Шанс послужить Родине представился в скоро времени и нам, школьникам: в сентябре 1941 была объявлена мобилизация на строительство оборонительных сооружений вокруг Ростова. Та часть населения города, которая не ушла на фронт — женщины и подростки — принимала в нем участие. Мы с товарищами работали наравне со взрослыми с первых дней. Несмотря на тяжелый труд с утра до вечера, мы осознавали его необходимость и чувствовали дух единства с народом своей страны.
В октябре мой хороший товарищ и сосед пригласил меня и еще восемь человек к себе домой. Ему было дано задание от райкома комсомола — организовать группу дружных, проверенных ребят, которые будут надежны в любом порученном деле.
Мы были полны ненависти к врагу, хотелось как-то принимать участие в защите Родины. Поэтому мы не задумываясь согласились выполнять любые поручения. Так была организована наша подпольная группа из девяти человек. До вступления немцевв Ростов мы, мальчишки, дежурили по вечерам, следили, чтобы в окнах домов ни у кого не горел свет — светомаскировка. На крыши домов затаскивали бочки, наполняли их водой, чтобы когда немцы бомбили город, сразу взять бомбу щипцами и окунуть в эту бочку. Помогали, выполняли посильные, небольшие задания. Незадолго до вступления немцев в Ростов мы помогали эвакуировать раненых бойцов из госпиталя. А когда неприятель все же вошел в город у нас была задача — узнавать где и в каких помещениях находятся немецкие штабы. Во время боев за Ростов мы с товарищами собирали тела убитых солдат, их оружие, и прятали в парке Революции. Во время одного из артиллерийских обстрелов я был контужен, навсегда оглох на одно ухо. Потом город был освобожден, мы с друзьями продолжили учебу в школе.
Но в июле 1942 года началась вторая оккупация города и мы снова начали помогать старшим товарищам. В начале октября, при выполнении очередного задания, мы с моими друзьями попали в облаву и были схвачены. Нас вместе с остальными людьми согнали в одно здание. Через пару дней стариков отпустили, а нас повели на железнодорожный вокзал. На станции уже стояли товарные вагоны, набитые людьми. Нас затолкали в один из них.
Мы поняли, что нас везут в Германию и теперь мы пленники. Всю дорогу мы сидели на полу в ужасной духоте и тесноте. Ехали несколько дней, редко останавливаясь для того, чтобы люди из всех вагонов, по очереди, вышли попить воды из крана и сходить в туалет. В качестве еды выдавалась маленькая буханка хлеба на пять человек. Я мысленно прощался с Родиной и всеми, кто там остался.
Смерть была везде
Через несколько дней мы прибыли в немецкий город Дессау, лагерь Капен. Там мы выносили из склада боеприпасы и грузили в вагоны. Иногда нам удавалось подсыпать песок в гильзы, тогда снаряд не получал искру и не мог выстрелить. Нас там подкармливали совсем скудно, лишь бы могли работать. С первых дней пребывания там мы вынашивали план побега, готовились как могли. Мы заметили, что у некоторых вагонов, в которые загружались боеприпасы, есть ступенька, на которую можно подняться и через окно забраться внутрь. Только после загрузки оно закрывалось на задвижку. Мы договорились, что тот, кто будет принимать груз, не закроет окно, чтобы мы могли залезть. Ночью подошли к проволоке — она там была не под напряжением — и вдруг увидели охранника. Удалось забежать в барак и успеть накрыться одеялами, чтобы он не заметил, что мы в одежде. Потом еще восемь ростовчан из соседнего барака присоединились и мы стали более тщательно продумывать план. Нас девять и они — всего семнадцать человек.
В назначенный день, дождавшись темноты, мы направились к вагонам и стали искать те, у которых есть ступенька. Проверяли палкой, где не закрыты окна. Залезли, сидели внутри, боясь дышать. На рассвете услышали лай собак, немецкую речь. Чтобы собака не взяла след, насыпали махорки по пути. Немцы осмотрели вагоны, но не заметили нас.
На четвертые сутки приехали в польский город Торунь. Здесь нас и обнаружили. Выгнали и, избивая палками, погнали в гестапо, а оттуда в тюрьму. Мы не знали, что нас ждет теперь. В томительном ожидании делились воспоминаниями, вполголоса пели знакомые с детства песни. Кто-то из нас впадал в отчаяние, были такие. Я понимал, что даже когда пропадает всякая надежда, нужно быть сильным, что нас судьба связала горькими испытаниями и надо поддерживать друг друга.
В гестапо Торуни один раз над нами сжалился жандарм. Когда нас затолкали в камеру, я через закрытую дверь стал на немецком просить у охранников дать воды. Все игнорировали просьбу, и только когда нас по одному стали вызывать в коридор для регистрации, он единственный разрешил попить из крана.
У вас только одно право — вылететь через дымовую трубу
Мы пробыли в здание гестапо 10 суток, после чего нас доставили под конвоем на вокзал. Там посадили на поезд и привезли в город Мальборк, а уже оттуда — в лагерь Штуттгоф. Это было 19 ноября 1942 года.
При встрече начальник сообщил нам: «Вы находитесь в государственном концентрационном лагере, а это значит, что вы не в трудовом лагере, а в лагере уничтожения. Каждое нарушение правил карается поркой и уменьшением пайка. Попытка к бегству — смертью. С этих пор вы — не люди, а номера. Все ваши права вы оставили за воротами. Здесь у вас только одно право — вылететь через дымовую трубу». Мне дали номер 17 322.
Первое время я работал в вальдкоманде (лесная команда), которая готовила территорию для постройки нового лагеря рядом со старым. Через какое-то время представитель администрации перевел меня и еще троих ростовчан на другую, более легкую работу. Весной 1943 года, когда я лежал, охваченный тифом, он узнал меня во время обхода бараков. Спросил: «Ты кто?», я ответил, что я русский. Тогда он положил мне оказавшуюся у него таблетку. Как я позже узнал, когда-то до войны тот человек жил в Ленинграде. В лагере он понемногу помогал русским.

Поднимались в пять утра, работали с семи утра до семи вечера, и так по кругу. Утром, обнаженные по пояс, все шли под холодный душ. За опоздания били, окатывали холодной водой. Затем всех выгоняли во двор на аппельплац (площадь для переклички). Каждое утро считали, сколько умерло за ночь. Стоять могли по два-три часа, вытянувшись неподвижно. Потом загоняли в блок и раздавали завтрак — черпак черного суррогатного кофе и небольшой кусочек хлеба. Потом была работа. В обед давали баланду из обрезков брюквы, моркови, капусты. После еды снова был аппельплац, свежий счет умерших, чтобы знать, сколько новой рабочей силы нужно завезти.
В любую погоду — а она зачастую была отнюдь не теплая — одежда была одна и та же: полосатые штаны и легкая курточка-маринарка. У меня она была с нашивкой в виде красного треугольника острым углом вниз и буквой R посередине — это означало, что я русский политзаключенный, оказывавший антифашистское сопротивление. На ногах было что-то вроде деревянных башмаков — клюмбы.
Места в бараках хватало не всем и не всегда. В Штуттгофе укладывались по несколько человек поперек коек. Там чистота и порядок соблюдались строго, хотя нам не выдавались средства гигиены, не было даже мыла. Почти все узники страдали от флегмоны — гнойных опухолей, возникающих на ногах и на теле. Ее распространение было вызвано тем, что лагерь был окружен с трех сторон болотом с токсичной водой. Эта зараза не миновала и меня. Раны увидел узник из Польши, медик по профессии, и после осмотра срезал ножом огромную темную опухоль. Было ужасно больно, но другого выхода не было. После стало легче, раны заживали.
Смерть была везде, смотришь — тут везут расстреливать, там бьют. Крематорий дымился беспрерывно, а новые люди все прибывали. Одиннадцать ростовчан, с которыми я бежал из лагеря Капен, были сожжены в печах крематория Штуттгоф.
Каждый вечер в барак врывались охранники, один из них тыкал в одежду, сложенную так, чтобы был виден номер, палкой и выкрикивал его. Тому заключенному, на чей номер указала палка, был подписан смертный приговор. Его уводили в умывальник и оттуда он уже не приходил обратно. Затем они возвращались за следующей жертвой. Ежедневно только в нашей комнате блока убивали не менее десяти человек. Однажды я лежал на втором ярусе нар, когда начался обход. Я накрылся одеялом с головой, затаив дыхание. Вдруг — удар по голове — «Raus!» (в переводе с нем. «вон»), и я оказался стащенным на пол. В голове пронеслось: «Это конец».
Я собрал всю свою ловкость и нырнул в щель под нижними нарами. Моего исчезновения не заметили, продолжили обход и потащили в умывальник другого узника. Под этими нарами я провел всю ночь. Миновать казни помогло мое худощавое телосложение, небольшой рост и спортивная сноровка.
Самым страшным было постоянное унижение человеческого достоинства. Смотреть, как убивают и не иметь возможности помочь, бессильно наблюдать смерть своих товарищей. Вид газовых камер, дым из труб крематориев, стоны истязаемых заключенных остались в памяти навсегда. Это помимо голода и болезней. Выживать было морально тяжело. Два с половиной года — почти три — прошло в заключении. Две тюрьмы, три концлагеря. Я сам удивляюсь, как мог вынести эту жестокую школу. Школу колючей проволоки, газовых камер и крематориев.
Привезли, чтобы уничтожить
В 1944 году был открыт второй фронт, наши освобождали европейские страны и подходили к Польше. В связи с этим ни одного узника не должно было остаться в живых. Тех, кого не успевали уничтожить разными способами, увозили в другую страну, другой лагерь. Так я оказался в Австрии, в концлагере Маутхаузен.
Всех выгнали из вагонов, в которых мы прибыли, и погнали по дороге. Пройдя гестапо, Штуттгоф, я думал: «Что может быть еще страшнее?». Оказывается, может: по своему режиму Маутхаузен относился к последней, третьей категории и являлся одним из самых жестоких концлагерей. Нас привезли сюда, чтобы уничтожить. Здесь на каждого заключенного заполняли специальную карточку и выдавали бирки с выбитыми на жестяной полоске номерами. Потеряешь бирку — смерть. Моим новым лагерным номером стал 75 949.
Маутхаузен отличался зверскими способами пыток и убийств. То, что мы увидели по прибытии туда, превзошло все ожидания. На территории лагеря находилась стена пыток — она еще называлась стеной плача — в которую были вделаны цепи, на которые узников подвешивали за руки, вывернутые за спиной. В таком состоянии их могли держать по двое суток. Цепей часто не хватало, и провинившиеся стояли и ждали своей очереди на наказание.

Расположение Маутхаузена было выбрано не случайно: возле лагеря, в глубоком ущелье, находилась каменоломня, идеально подходившая для каторжных работ. Одним из мест самого мучительного каторжного труда был каменный карьер с так называемой «лестницей смерти». Из глубокого котлована каменоломни узник должен был на плечах переносить камни под пятьдесят килограммов по крутой лестнице из ста восьмидесяти шести ступенек. Затем нужно было бегом спускаться вниз, брать новый камень, и так снова и снова. Ради забавы людей могли сбрасывать с крутой скалы в пропасть каменоломни.
После того, как я пробыл в Маутхаузене примерно неделю, 26 июня 1944 года меня перевели из центрального лагеря в его филиал, Гузен, находящийся в пяти километрах от Маутхаузена. Официально это называлось так: концентрационный лагерь Маутхаузен, команда Гузен-1.
В Гузене я пробыл около одиннадцати месяцев. Приходилось работать в мастерских за фрезерным станком, а потом выполнять слесарные работы. Изготавливал детали для винтовок и автоматов. Готовые детали нужно было приносить на контроль в другое отделение.
Однажды я в очередной раз принес готовую продукцию на проверку и познакомился с двумя поляками — адвокатом и профессором Варшавского университета. В лагерях привычно было слышать крики, оскорбления. А тут я увидел интеллигентных людей с добрыми лицами. Разговаривали спокойно, с интересом на меня поглядывая. Пока я им сдавал изготовленные детали, мы о многом говорили. Их интересовало кто я, как оказался здесь, почему у меня на форме красный треугольник политзаключенного. Я им все рассказал — что жил в Ростове-на-Дону, что мой отец на фронте. Что у меня есть любимая сестра Людмила, которой было три года, когда меня угнали в Германию. Им понравилось это имя. Они расспрашивали про жизнь в Советском Союзе. Я рассказывал им о стране, о родном Ростове, о том, как мы жили до всех этих событий. О том, как мы с друзьями совершили побег. Наши беседы продолжались каждый раз, когда я приносил продукцию на проверку.
Эти моменты были для меня отдушиной. Когда рядом не было надзирателей, я им потихоньку напевал свои любимые русские народные песни, песни советских композиторов. Им нравилось: я часто слышал, как потом они пели «Калинку». В свою очередь они шепотом пели мне польские песни, которые я помню до сих пор. В процессе общения с ними кое-как научился говорить по-польски. Это успокаивало, согревало лагерное существование. Выжить в концлагерях можно было только благодаря взаимопомощи, поддержке вне зависимости от национальной принадлежности.
Были еще три советских летчика из Москвы, Горького и Одессы. Они около двух месяцев работали в столярке, и мы за это время подружились. До конца их жизни оставались добрыми друзьями, переписывались, ходили на встречи узников, бывали в гостях друг у друга. Хоть и пришлось увидеть и испытать много горя, считаю, что мне повезло. Повезло на искренних, верных людей. Предателей не было.
Пребывание в тех местах дало людям веру в великую ценность братства народов. Там не было «я», там были «мы». В лагерях уничтожения были не только русские, поляки и голландцы. Были и немцы — те, кто был не согласен с немецким режимом, антифашисты. Сидели наравне со всеми. С этими людьми я общался в лагере и поддерживал связь после войны.
Был человек, который раньше работал в посольстве, и немцы иногда прибегали к его помощи, использовали в качестве переводчика. Очень часто он переводил неправильно, в пользу узников. Сотрудничества, по сути, не было, была просто помощь в коммуникации.
Второй день рождения
5 мая 1945 года на территорию Маутхаузена вошли два американских танка и американский солдат крикнул «Гитлер капут!». Это было последним днём Маутхаузена и Гузена. Этот день я считаю своим вторым днем рождения. После того, как мы узнали, что лагерь освобожден, все стали обнимать друг друга, распевать песни. Некоторые из заключенных, не дожидаясь команды на выход из лагеря, стали разбегаться, но вокруг еще оставались вооруженные эсэсовцы. Многие из этих беглецов были убиты. 7 мая в лагерь въехал грузовик с несколькими узниками. Они приветствовали нас, поздравляли с победой, освобождением. Нам было приказано построиться в колонны и выходить из лагеря. Кто не мог идти, оставался там, им оказывалась медицинская помощь, затем их вывозили в госпитали. Когда мы вышли за пределы лагеря я посмотрел еще раз на все, что видел ежедневно: бараки, закопченную трубу крематория. К горлу подступил комок из слез: «Я свободен, я остался в живых. Теперь у меня снова появились имя и фамилия, я человек, а не номер».
До конца не мог поверить, что это не сон, что мы свободны. Тогда разглядел красоту тех мест. Привыкшие к смраду крематория, мы, оказавшись вдали от него, не могли надышаться запахом свежей зелени. Дорога домой была долгой и утомительной, но мы понимали — это пустяки, по сравнению с тем, что мы пережили. До дома я добирался почти четыре месяца.
После лагерей

В августе 1945 года я прибыл в родной город. Обнаружил свой дом и дома стоящие рядом целыми, несмотря на то, что город обстреливали сильно. И родные остались целыми и невредимыми. Старался восстановить потерянное здоровье, чтобы снова жить полноценной жизнью. Долгое время не мог свыкнуться с мыслью, что весь этот ужас позади. Стал работать на электроремонтном заводе, пошел в вечернюю школу. Потом учился в Ростовском горно-спасательном техникуме, какое-то время работал в Московской области, затем вернулся в Ростов. После лагеря у меня осталось много знаний. Опыт работы в столярной и слесарной мастерской. По-польски научился говорить чисто, немецкому из-под палки волей-неволей пришлось научиться. Потом в институте преподаватель удивлялся: «Вы так чисто говорите и читаете хорошо!» Но я, конечно, умалчивал о процессе приобретения своих знаний.












