Природные и техногенные катастрофы, бунты и теракты, войны и эпидемии — испытания, через которые проходит современное общество, ежегодно уносят миллионы жизней и заставляют многих людей чувствовать беспомощность и одиночество. Но кто или что — причина всех бед? Людские ли ошибки прошлого, жажда власти и радикальные взгляды на мир? Нежелание мириться с мыслью, что наш вид совершенно случайно и временно несётся впереди эволюционной гонки? Или же всему виной добровольное отрешение людей от веры во всевидящую силу, контролирующую жизнь на планете?
Философ Анатолий Вайнштейн считает, что господство зла стало для человечества естественным фоном жизни, и люди испытывают дискомфорт от одной идеи обращения к Богу, потому что современная культура не позволяет им серьёзно относиться к религиозным традициям и обрядам, хотя вера могла бы предотвратить множественные преступления и встать на пути у других порочных действий. В трактате «Если вам интересно» писатель рассуждает, почему человеческое родство с природой постепенно перерастает в конфликт, что такое божественная справедливость и на каких людей она распространяется, в чём заключается универсальный путь к вере, подходящий даже критически настроенным сторонникам науки, и из-за чего поиски Бога превращаются для некоторых людей в такие невыносимые муки, что они предпочли бы вовсе не существовать.
Почему зародился антинатализм, считающий дальнейшее размножение людей неэтичным, и чем сторонники добровольного вымирания человечества аргументируют свою позицию? Что такое культурный каннибализм и по какой причине он является неотъемлемой частью нашего бытия? Как законы физики связаны с Божественным началом? Какие фрагменты Священного Писания приобретают новый смысл на фоне нынешних национальных и религиозных столкновений? Каковы аргументы против существования совершенного Бога и какие доводы разбивают их? И что не позволяет человечеству отпустить прегрешения прошлого и шагнуть наконец к просветлению?
когда объявил нам: «Бог умер».
Бог умереть не может, пока жив человек.
Бог милостив, Он позволяет мне не верить в него. Так до поры до времени я отшучивался, когда кто-то затрагивал вопрос об отношении к вере и религии. Но однажды пришло понимание, что эта наигранная двусмысленность — лишь малодушная попытка утаить от себя собственные страхи, или, говоря попросту, боязнь взглянуть правде в глаза. И захотелось, наконец, разобраться…
Однако у меня нет особых иллюзий насчет того, что всё изложенное на этих страницах способно кого-то увлечь всерьез или пусть ненадолго заинтересовать. Обычно круг заявленных здесь тем, по мере того как мы обретаем зрелость, создаем семью, втягиваемся в житейскую рутину, заметно сужается и иссякает сам собой — так что даже одно упоминание о некоторых «высоких материях» способно вызвать недоумение, а порой и чувство неловкости. Вдобавок мы живем в век узкой специализации, когда выше всего ценится конкретность и компетенция. Что толку, в самом деле, возбуждать эти невразумительные разговоры про то, к примеру, отчего люди не способны жить себе спокойно, как прочие одушевленные существа, не растравляя душу мыслями о неизбежном конце и не спрашивая многозначительно: «по ком звонит колокол»? И вообще, насколько наши представления о гуманности, о добре, о непреходящих ценностях согласуются с реальностью, и не входят ли они в острое противоречие с суровыми законами природы, порождением которой мы являемся; или пусть о том, как наше космическое одиночество и «великое молчание вселенной» делается всё более загадочным, если не предательским, и в этой связи, насколько важна для нас идея абсолютного Начала, или Бога, а если важна, то можем ли мы представлять для Бога какую-то ценность, если ежечасно столько всего ужасного и шокирующего творится в нашем подлунном мире.
Конечно, трудно надеяться услышать что-то новое в ответ, а тем более избежать в разговоре невольной патетики, градус которой обычно тем выше, чем неуместнее кажутся проблемы, вроде бы никак не связанные с прагматикой жизни. Не потому ли выглядит таким безнадежным штампом словосочетание «непреходящие ценности»?
Однако мне по-прежнему кажется, что человек, сколь бы он ни мнил себя умудренным и жизненным опытом и знаниями, никогда не перерастет эти темы, не без иронии когда-то названные «вечными вопросами». Мне даже представляется, что неустанно «вопрошать» и сталкивать в своем сознании самые разные и даже взаимоисключающие идеи — прямая человеческая обязанность, поскольку за этим стоит не какой-то неизжитый максимализм или интеллектуальная претенциозность, а, наоборот, заявляет о себе потенциал очень важной, нас изнутри распрямляющей пружины. Не зря, наверное, Книги «Иова», «Экклезиаста», «Псалмов Давида» с их экстатическим вопрошанием вошли в канонический текст «Священного Писания».
Впрочем, чтобы читателю не пришлось зря себя утруждать (вдруг покажется малоинтересным), попытаюсь вкратце обозначить направление мыслей, развиваемых дальше.
Начну с наиболее общего (и уж точно не имеющего никакого отношения к повседневным нуждам) с того вызывающего всё большее изумление обстоятельства, что между нами и природой, той самой, что поражает нас своим могуществом и, как принято думать, порождает нас, существует не только очевидная родственная связь, но и неослабевающий конфликт, истоки которого вряд ли постижимы до конца. Но по крайней мере, одно свидетельство такого рода антагонизма легко просматривается — оно в том, что совсем рядом, что непосредственно нас окружает и привычно именуется технологическим обществом или постиндустриальным миром, со всеми его удивительными достижениями и стремительной, буквально, взрывной динамикой распространения по всей планете. На первый взгляд, столь уверенное поступательное движение, наглядно демонстрирующее неотменимость прогресса, должно бы говорить об успешном нашем «сотрудничестве» с материальным миром, с той самой окружающей природой, или даже свидетельствовать о полной «совместимости» с ней нашего интеллекта — то, что иногда называют антропным принципом, из которого должно бы следовать, что мир устроен не менее разумно, чем мы сами. И почему бы не согласиться с этим вдохновляющим выводом!
Однако не может не смущать вот что: неужели и все те испытания, что за долгую историю выпадали на долю homo sapiens, «человека разумного», испытания, не прекращающиеся ни на один день, так же санкционированы неким Высшим разумом — все ужасы геологических катастроф, разрушительных наводнений и цунами, засухи, повального голода, эпидемий и жесточайшей борьбы за выживание? Неужели разумность, если она присуща бытию, никак не связана с нашими людскими представлениями о добре и зле? Почему-то именно сегодня, когда человеческий интеллект проник в тайны материи, замахнувшись даже на то, чтобы воссоздать «сценарий» рождения Вселенной, когда он сумел побороть голод, страшные болезни и обуздать (по крайней мере, в Европе) демонов хаоса и войны, еще навязчивее и острее это ощущение, что не какое-то разумное начало, а именно иррациональная слепая воля движет мирозданием.
Сегодня не может не закрасться подозрение, особенно если вглядеться в фотографии отдаленных участков Вселенной, что наше необычайно сложно устроенное общество, осуществившее гигантский технологический рывок и дерзнувшее нарушить заповедную целину космоса, должно было стать полным сюрпризом для той самой первозданной природы: со всей ее необузданностью, с безотчетной игрой космических стихий, с аморфными сгустками материи и скоплениями звездных масс, с клубящимися, будто в наркотическом бреду, туманностями и неряшливо разбросанными всюду галактиками, со всем этим, прямо скажем, бесцельно колобродящим веществом, с безумными в своем расточительстве пиротехническими шоу и, главное, с полным безразличием к стройному и осмысленному порядку, а уж тем более — к представлениям о том, что такое хорошо, и что такое плохо.
Поэтому нельзя не поражаться тому, что, вопреки ничтожнейшему положению, которое занимает в картине мира наша затерявшаяся в межзвездной пыли Земля, «человек разумный» сумел каким-то образом, укротив в себе первобытную дикость, создать на «отдельно взятой» планете и разумный порядок, и условия для поступательного развития, и культуру с её рефлексией о добре и зле, и в моменты вдохновения сотворить такие идеалы красоты, которые природа отродясь не знала. Более того, вглядываясь в звездное небо и не встретив оттуда никакого дружественного отклика, человек дерзнул бросить глухоте мира отчаянный вызов, провозгласив себя «мерилом всех вещей» и «венцом Творения».
Вот здесь и крылся самый коварный из подвохов. Полное ощущение, что природа, вовсе на такое не рассчитывавшая и поначалу только присматривавшаяся к странному своему детищу, словно дожидалась момента, когда человек, наконец, уткнется в последнюю точку, к которой он век от века двигался с необъяснимым упорством. Вожделенная точка эта — наше представление о том, что всякая человеческая жизнь не только абсолютно уникальна, но и заслуживает, чтобы провозгласить ее наивысшей ценностью. И вот, казалось бы, цель близка как никогда: сегодня эта максима не только декларируется, но она и законодательно закреплена в международных документах, сделавшись базовым принципом высокоразвитого общества. Что, с одной стороны, безусловно, справедливо, поскольку реально «работает»: именно раскрепощение творческого потенциала, заложенного в свободном индивидууме, преобразило нашу планету до неузнаваемости.
Однако чем дальше мы пытаемся продвигаться в этом направлении, тем тревожнее ощущение тупика от осознания, что ведь никакими законами природы такое доминирование человеческого разума не было предусмотрено — наш мозг, наша способность к мышлению, как и сама биологическая форма жизни, существуют в бескрайнем океане материи словно вопреки всему. Судя по недоуменному «молчанию вселенной» это совершенно не входило в планы Матери-природы, и в доказательство своего безраздельного господства она приготовила нам, «незаконнорожденным», мучительное испытание, которое должно окончательно убедить в том, что человеку не только бессмысленно претендовать на свою исключительность, но и весьма опрометчиво. Если бы Природа захотела это озвучить, она бы высказалась примерно таким образом: «Ты, человек, слишком неугомонен и задаешь много ненужных вопросов, чтобы я могла признать в тебе свое детище. Но коли ты продолжаешь настаивать, тогда знай, горделивое и заносчивое существо, тебе никуда от правды не уйти. Ты должен твердо усвоить, что рождение любого человека, будь он император, философ или последний босяк — событие одинаково ничтожное и не обязательное, поскольку к нему, как ты догадываешься, приводит стечение обстоятельств абсолютно случайных. Зато смерть каждого, кто осмелился родиться на свет, становится для него делом не только обязательным, но и неотвратимым. Поэтому и для тебя тоже всё закончится тем большим фиаско, чем упорнее ты будешь настаивать на своих мнимых привилегиях: запомни, самозванец, ни бегством твоим в поэтические фантазии, ни смешными вылазками в космос, ни тем паче заклинаниями по поводу сверх ценности всякой человеческой особи ты не уйдешь от того простого факта, что конец твоего жизненного пути будет неизбежно связан с возвратом в самое презренное и пошлое, самое безличное и позорное состояние — в состояние мертвенного праха, ничем не отличимого от обычной пыли и грязи, что налипает к твоим подошвам. Мало того, в отличие от всех живых тварей, ты будешь вечно мучиться этой мыслью и от нее сходить с ума».
Трудно было б с этим не согласиться: ничего более отрезвляющего для деклараций о непреходящих ценностях, чем горстка безжизненного праха, остающаяся после нас, чем облака пыли и пепла, миллионы лет гонимые ветром, невозможно себе представить. Но только почему-то не хочется соглашаться с такой плоской, хотя и очевидной для многих «правдой жизни». Жизнь слишком прекрасна, но и слишком ужасна, чтобы венчаться окончательной смертью. И если уж продолжать всерьез говорить об особой ценности человеческого существования, то со всем этим хорошо бы разобраться: неужели природа во всем права, и от нас, и от наших близких со всеми их дорогими и неповторимыми чертами, от нашей способности боготворить жизнь и восторгаться той же природой ничего больше не останется, кроме горстки безжизненного, аморфного вещества? Дело не в том даже, что нам предписано навсегда покинуть этот мир, а многим и в расцвете лет, невыносимо другое: в жерло какой-то безличной, вздорной и не осознающей себя силы безостановочно бросается то, что обладает самосознанием, индивидуальными чертами, способностью ощущать, творить, любить и взращивать новую жизнь. Вот что вызывающе бессмысленно и заставляет подозревать, что смерть не может обладать законной силой — не должна. Проблема, то есть не только в том, что бесчувственное вещество неведомым образом сумело «доиграться» до появления живых организмов, а в том как раз, что по слепой прихоти материи возникло сознание, силящееся найти смысл в этой тотальной бессмыслице.
Когда-то для древнего человека, связанного по большей части с культурой земледелия, такой «вердикт» Матери-природы не таил в себе ничего «незаконного» или катастрофического, поскольку сама земля, бескрайняя и плодородная, навсегда оставалась для него лоном жизни, и в каждом земледельце было это естественное убеждение, что и после смерти смешавшееся с землей бренное тело продолжит свое существование, причем в таком же внеличностном состоянии, в каком каждый ощущал себя внутри своей многочисленной общины. Однако для нас, рискнувших возвести собственную «штучность» в особое достоинство, противопоставивших себя вещественному миру с его приверженностью закону больших чисел, всё это уже не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся, поскольку создает болезненное напряжение между статусом бесспорных ценностей, откуда-то взявшихся в нашем сознании, и безапелляционной наглядностью опыта, гласящего: что из праха выходит, в прах возвращается; что осознавало себя личным, поглощается анонимным; всё сложносочиненное неизбежно рассыпается на части, а наполненное энергией «обнуляется», буквально заземляется, поскольку всему высокоразвитому и кичащемуся своей неповторимостью предписано, как и всему на свете, не отменимое и не обратимое: ветшание, старение, разрушение, фрустрация, деградация, деструкция, энтропия, распад, смерть.
Хотя, с другой стороны, если всё так до банальности очевидно, то откуда это упрямое желание возвращаться к столь безнадежной теме? И неужели вправду, кроме шумного потомства, кроме «личного вклада» в общие достижения и недолгой коллективной памяти, так ничего не остается после нас, в чем бы наша неповторимая сущность могла найти иное продолжение, не столь, прямо скажем, издевательское — или, в самом деле, только горстка праха?
Вот с этого пункта и начинается та развилка, что одних ведет «сдаваться» в божий храм, других повергает в хронический скепсис, третьих приводит в стан упертых атеистов с их безоглядной верой во всесилие прогресса, оставляющего за порогом всё «неконструктивное» — в том числе и проблему неоспоримых ценностей или бессмертия души.
Казалось бы, действительно, современная среда обитания, комфортная и надежная, по сути, ставшая для нас второй природой, должна бы сделать такого рода проблематику неуместной, поскольку на все самые сложные вызовы сегодня предписан эффективный технологический ответ: занесли в компьютер, присвоили номер, привезли, отвезли, подключили, откачали, зашили, накормили, поставили на ноги — а не вышло, сняли с баланса, списали и освободили место. Но постепенно обнаруживается, что вырвавшийся из безличного природного существования, создавший оптимальные условия для самореализации человек, оставивший было позади все неконструктивные, все «гамлетовские» вопросы, снова оказался под властью того же безличного начала — сложившегося нового стандарта жизни, урбанистической волной накрывшего все континенты. Теперь, куда ни глянешь, всюду однотипная разметка автобанов, всё та же примелькавшаяся реклама, всюду на одно лицо, как клоны, автозаправки, не отличимые друг от друга супермаркеты и кристаллические, достающие до облаков стеклянные соты офисов, банков, внутри которых, в стерильно холодном пространстве, у среднестатистического жителя мегаполиса уже редко когда возникает желание ощутить в себе свое неповторимое, свое лирическое «Я» и где, в окружении цифровой техники, кажутся особенно неуместными все «вечные вопросы» и сложная, сокровенная жизнь души. В такой атмосфере могут возникнуть самые эффектные идеи и прорывные технологии, но трудно представить себе то, что вкладывалось когда-то в понятие «романтической натуры», «возвышенной души» или «благородной личности», без которых нет ни большого стиля, ни художественного потрясения, ни проникновенной мелодии, надолго остающейся в культурной памяти.
Однако и назад пути нет: человек уже не в состоянии вернуться в те далекие, кажущиеся такими уютными города с их национальным колоритом, разве что в качестве туриста, ни тем более в «натуральное» состояние, где бы он в окружении дикой природы оставался в блаженном неведении своего истинного «Я». Вектор нашего исторического развития уже не повернуть. Что с одной стороны, безусловно, благо: мы во многом переросли наше далекое прошлое, в силу чего с позиции нынешних норм вся прошедшая история — со всеми ее привилегированными сословиями и художественными открытиями — справедливо предстает чередой насилия и бесправия. Сегодня изысканным манерам и рыцарской отваге предпочитают простую человечность, и это, несомненно, великое завоевание. Тем не менее, в одном мы нисколько не преуспели — нам всё еще нечего противопоставить вердикту, раз и навсегда вынесенному природой всему живому: горстка аморфного вещества в качестве неизбежного итога жизни.
Впрочем, если у нас не возникает принципиального несогласия с этой природной «нормой» и желания подать «апелляцию», то можно бы и поставить точку.
Но если в душе что-то противится, восстает против подобного «естественного» исхода, тогда просто нельзя не сделать следующего решительного шага, твердо осознав, что ответом на приговор и тотальное уничтожение будет — нет, не обнаружение нищенских крох органической жизни в метеоритах, и не встреча с инопланетными монстрами, а другое: вера в продолжение неповторимой человеческой личности где-то там, уже за порогом жизни, и этим продолжением может явиться только такое же осознающее себя личное начало, а никакая не индифферентная к представлениям о добре и зле субстанция или что-то вроде «фригидного» супер компьютера, куда некоторые фантазёры предлагают вложить параметры любого желающего, дабы обеспечить его виртуальное «бессмертие». И значит, если что-то в душе возмущается, тогда воистину никуда не деться: мы можем доверить свое единственное «Я» только другому «Я», столь же единственному, но при этом такому, с кем издавна связывалось представление о высшем и совершеннейшем Источнике всего на свете — то есть доверить свое существование Богу, видя в нем не только могущественную сверхличность, не только средоточие блага и абсолютного знания, но и то Начало в мире, которому каждая на земле душа не безразлична.
Быть может, сегодня мы нуждаемся в таком Боге сильнее, чем когда-либо, поскольку именно теперь приходит осознание, что человечество буквально зависло между двух бездн: между безразличным к нашим чаяниям естеством природы и рукотворным индустриальным миром, движимым прагматикой и, по сути, несущим в себе новую угрозу дегуманизации и закрепощения личности. Причем бездны эти уже не раз смыкались над головой: когда хаос вырывался наружу в виде радикальных протестов, мега терактов или обретал характер техногенных катастроф — в любом случае урбанистическое пространство превращает нас, тотально зависимых от супер технологий, в еще более легкую добычу разрушительных стихий, которые никуда не деваются, а лишь, затаившись до времени, ожидают очередных наших промахов. Но достаточно ли прочности в современном нашем обществе, чтобы ответить на подобные вызовы? Достаточно ли мы уверены в том, что надежно контролируем темные инстинкты, которые каждый из нас наследует от далеких предков? И вообще есть ли что-то в нашем безначальном мире, способное дать нам уверенность в том, что мы не остаёмся один на один со всеми безумными проблемами, растущими лавинообразно и готовыми накрыть с головой?
Не может не удивлять, что при попытке ответить на эти вопросы неожиданно обнаруживается следующее: если у нас и есть надежная опора, то она не в концептуальных выкладках, а в самом эфемерном, что только можно представить, в самом безосновательном с точки зрения придирчивого рассудка, но зато и в самом сильном и безоговорочном из всего, что движет нашими поступками — это всегдашняя потребность в любви, в совершенной красоте, в свободном выражении воли, потребность в постижении законов миропорядка, в обретении истины и собственного достоинства, в вере в свои силы и не в последнюю очередь — в счастливый жребий, будь то веселая игра или серьезный вызов, связанный с жизненными обстоятельствами. Причем одержимость, с которой мы следуем этим стимулам, и даже готовность приносить на этом пути максимальные жертвы, говорят о том, что здесь сказывается связь с самыми сущностными сторонами бытия и с какой-то неуничтожимой его основой, хотя теоретически осмыслить такую связь — по-прежнему одна из труднейшей задач философии. Сложно себе представить развитого человека, у кого совершенно отсутствует потребность в подобных безусловных и неуничтожимых ценностях, что, если разобраться, и есть подлинная основа религиозности. С ней, вероятнее всего, мы рождаемся, хотя редко о том догадываемся, полагая к тому же, что место пребывания Бога строго очерчено границами религиозных конфессий.
Поэтому современный человек испытывает немалый внутренний дискомфорт, когда пытается обратиться к идее Бога, поскольку сложившаяся к нашему времени культура, пройдя через Ренессанс, Просвещение и школу светского воспитания, не позволяет безоговорочно, не идя на определенные компромиссы, принимать традиционную обрядовую сторону религии — ту, без следования которой, впрочем, не сложились бы все известные верования, сохранившие и донесшие до нас образ Творца. А там, где возможны компромиссы, там трудно что-либо противопоставить бескомпромиссности зла, кроме упрямого, граничащего с фанатизмом слепого послушания, которому всё меньше места в нынешнем обществе. Ведь если прежде религиозная вера находилась под защитой догматов и ритуалов, и Бог в церковных стенах мог чувствовать себя в безопасности, (в силу того хотя бы, что на каждый вопрос был предусмотрен ответ у клириков), то сегодня, за пределами сакрального пространства своих храмов, Всемогущий рискует оказаться беззащитным — ему предстоит столкнуться с тем самым человеком, им же выпестованным, но теперь свободным и сильным своими познаниями и считающим себя вправе уязвлять Его всё теми же неподъемными вопросами, главный из которых продолжает звучать не менее радикально, чем тысячу лет назад: если Ты существуешь, если Ты всеблаг и всесилен, то откуда столько зла в нашем мире, и почему Ты, Всемогущий, не берешь под защиту хотя бы малых детей, когда они безвинно мучаются от болезней, нашей несправедливости и злобы?
При этом все больше начинает казаться, что бессмертный Бог, в ком единственном можно было бы искать спасения от тотального уничтожения, вряд ли теперь захочет вернуться в свой храм, даже если стены храма раздвинутся настолько, что в дружественном экуменическом пространстве все Его лики найдут свое отражение. Ему там всё равно и душно, и тесно. А возможно даже, храмов и верований должно быть много больше, если не столько же, сколько существует людей, ведь сказано в Писании: «не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу \….\ поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
Сегодня, на фоне новых национальных и религиозных конфликтов, эти слова обретают особый смысл, поскольку набирающий силу фундаментализм, воздействуя на огромные массы людей, снова силится встать между человеком и Богом: пытаясь подменить глубоко интимное чувство веры и «поклонение истине» коллективным ритуалом — по сути, разворачивая историю вспять, опрокидывая сознание в архаику.
Но, быть может, чтобы Творец больше не «множился», дробясь на Иегову, Христа, Ормузда, Аллаха, Тенгри, Шиву, а предстал бы для всех воистину Единым, таким Храмом для Бога, как ни покажется это странным, должен становиться каждый человек. И тогда следовало бы не ретироваться назад к «спасительным корням», уступая коллективным страхам и увязая в обрядовой архаике, а, наоборот, вопреки расхожим представлениям, упрямо продвигаться в прежнем направлении — быть может, до предельного обострения чувства особости каждой личности и в надежде открыть в себе самих глубоко интимное чувство Бога. Только такой путь, как представляется, вновь способен сделать идею Бога по-настоящему насущной, позволяя заодно взглянуть иначе и на многие противоречия, связанные с существованием в «божьем мире» зла во всех его ужасающих обличиях. Причем, особая личность — это не только Сократ, Тициан, Ньютон, Моцарт или Чехов, не только состоявшиеся и успешные, но и все те безымянные и отринутые, все обойденные милосердием и ввергнутые в беду, о которых никто никогда не вспомнит, но на которых тем более должно распространяться благо высшей справедливости, если оно уместно в нашем мире, а не является туманной иллюзией, с которой боязно распрощаться.
Итак, если сказанное вызывает интерес, то можно было бы предложить в развитие темы небольшой монолог, а затем полемическую часть — по типу платоновских диалогов.

Сетуя и местами поучая
Меня всегда это озадачивало. Когда из чьих-то уст слышишь горькое признание: «я разочарован в жизни, жизнь обманула мои ожидания», то поначалу возникает подозрение, что, наверное, я сам что-то в нашей жизни недопонял, поскольку никакого «обмана» заметить не успел. И все же задаю свой вопрос: а когда, скажите, вы сумели настолько «очароваться» жизнью, что перестали обращать внимание на всё то, мягко говоря, негативное, что неизменно сопутствует нашему существованию: на беды, случающиеся где-то рядом, на сообщения о кровавых, длящихся столетия конфликтах, коими переполнены мировые СМИ, на все шокирующие исторические свидетельства и, в конце концов, на невосполнимые утраты среди друзей и близких? Неужели вам не хватило воображения осознать однажды, на какой горькой закваске замешана человеческая жизнь?
Впрочем, стоит за вас порадоваться: вероятно, вы в какой-то момент были настолько оглушительно счастливы, что не расслышали с трудом сдерживаемый стон, стоящий над землей и, как могли бы догадаться, ни на минуту не прекращавшийся с той поры, как на нашей планете воцарилась жизнь и появились разумные существа. И вы были по-своему правы: стремление к счастью, к полноте жизненных ощущений — подлинное призвание, данное всем людям от рождения. Потому вы имели полное право радоваться без оглядки. И конечно, тем больнее ваше теперешнее «разочарование», чем упрямее вы верили, что счастье вам на роду написано. Хотя уже в самом слове счастье можно было бы заметить созвучие с участью, то есть с уделом, с судьбой. Наша счастливая доля — это, по сути, лишь колоссальная удача, персональный выигрыш в нескончаемой борьбе за жизнь, во что были вложены немалые усилия и всех предшествующих поколений. Но на то оно и счастье, что порой падает на нас без разбору, как и беда. Если вы однажды счастливо уцелели, вспоминая свое чудесное спасение, то оттого, что под снежной лавиной, сорвавшейся со склона, оказался кто-то другой, а не вы, за что вы и возблагодарили Бога в приливе чувств. Тут тоже вас можно понять — даже если, забыв о своем воинственном безбожии, вы начнете искать глазами ближайший храм, чтобы поставить благодарственную свечу, а может, и сделаться отныне верным прихожанином. По крайней мере, в ответ на сакраментальное: «неисповедимы пути Господни» — вам вряд ли будет чем возразить, кроме: «воистину».
И всё же, я вовсе не уверен, что единственный путь к Богу — покорное следование одной из тех религиозных традиций, что нам достались от предков. Мне кажется, что справедливость Творца должна предполагать и право сомневаться в его справедливости, как и право ставить в самый центр проблему добра и зла, взгляд на решение которой, кто знает, способен столь же одних приблизить к Богу, сколь других навсегда разлучить с Ним. В том-то и дело. Слово «прогресс» можно отнести к чему угодно — к области научного знания, к развитию социальных отношений, но только не к поиску ответа на этот, возможно, самый главный и неподъемный из «вечных» вопросов, коими озадачивались люди во все времена: почему судьба, небесные силы — назовем как угодно — бывают к человеку столь немилосердны, и что ими движет, когда одним, независимо от заслуг, они явно благоволят, а других обрекают на непереносимые испытания. При том что человеку ведь так много дано: казалось бы, сама природа вложила в его создание столько старания, что проявляемое ею безразличие к его судьбе выглядит невероятным расточительством, не говоря уж о том, что во всем обозримом мире человек — единственный, кто наделен способностью понимать всё с ним происходящее, в том числе и задаваться подобного рода вопросами.
Всё, однако, говорит о том, что в решении этого трагического парадокса человечество за все века не продвинулось ни на шаг. Наоборот, чем ощутимее прогресс во всех сферах жизни, тем болезненнее разрыв между привилегиями, данными человеку как единоличному хозяину на Земле и его незавидной участью: испытывать всё тот же атавистический страх перед неизбежной смертью, всё тот же ужас при мысли о потери близких, осознавать само глумление природы, со всей беспощадностью толкающей нас, независимо от добродетелей и заслуг, в смердящую бездну распада со всеми его отталкивающими подробностями. Складывается впечатление, что ум нам дан не только для того, чтобы понимать и осваивать окружающий мир, но и чтобы всё отчетливее осознавать, насколько мир этот бесчеловечен, античеловечен — именно с точки зрения тех ценностей, которые сами же люди шаг за шагом старательно культивировали, дабы не только внести разумный порядок в свою жизнь, но и постичь ее подлинный смысл, а то и отыскать в мире всеобщую гармонию.
Понятно, что в этом пункте мы неизбежно сталкиваемся с альтернативным мнением людей искренне верующих — то есть верящих в то, что, как бы то ни было, но миром правит всемогущий и справедливый Творец, и что где-то за порогом жизни непременно отыщутся ответы на все «трудные» вопросы, если, конечно, сподобимся, а пока должны смиряться, доверяя авторитету церковных канонов, радоваться погожим дням, проявлять благочестие и верить в мистическую сущность религиозных обрядов.
Можно принимать эту точку зрения или не принимать, но в принципе невозможно привести никаких неопровержимых доводов в пользу того или другого. Давно стало общим местом, что ни доказать рациональным образом, ни логически опровергнуть существование Бога невозможно. Бог, как и его отсутствие — вопрос веры. И, быть может, благоразумнее всего было бы, заручившись успехами научно-технического прогресса, распрощаться с этой величавой мечтой: найти разумные основания для существования за видимым «фасадом» Вселенной такого Начала, которому наше земное существование не безразлично.
Однако, вопреки тому, что вера в прогресс должна, по здравому размышлению, вытеснять веру в сверхъестественное куда-то на периферию сегодняшних интересов, мы, судя по всему, присутствуем при рождении «нового средневековья» — нового разворота сознания в сторону мистики и самых диких форм оккультизма, причем в кругах людей довольно образованных и вполне, казалось бы, состоявшихся. Конечно, нынешняя наука, поставляя нам сведения о черных дырах, о непознаваемой «темной материи» и рождении Вселенной из некой сингулярной точки, вряд ли способна по-прежнему служить мерилом здравого смысла. Но в повсеместном возрождении интереса к магии угадывается нечто новое: наука, потеснив идею единого Творца, (пусть и оставив ее суррогат в виде теории «большого взрыва», согласно которой мир «сотворён» буквально из ничего), не только не смогла предложить никакой новой опоры, но она, как оказалось, еще и расчистила дорогу, ведущую вспять, в глубокую архаику, к самому свирепому мракобесию, из-под власти которого мировые религии, и прежде всего монотеистические, сумели, казалось бы, вызволить человеческое сознание. В самом деле, парадокс: оказывается, старая, во многом наивная вера в единого Бога как всесильного и справедливого владыку, несмотря на все законные сомнения, возникающие вокруг религиозного мифотворчества, несмотря на мрачные страницы церковной истории (к чему причастны все конфессии), смогла стать на пути такого тотального зла, как магия заупокойных культов с их изуверскими ритуалами, человеческими жертвоприношениями и безраздельной властью колдунов и шаманов.
Почему же монотеизму, пусть и не свободному от серьезных противоречий, оказалось под силу уберечь сознание верующих от обрушения в пещерное прошлое со всей его хтонической жутью? И может ли тогда вера в единого Бога столь же благодатно воздействовать сегодня? — а тем более вне церковных ритуалов, суть которых все меньше понятна современному человеку, склонному видеть в них не столько сакральное, сколько театрализованное действие и дань особого уважения предкам и их обычаям. Можно ли сегодня сохранить веру в благое Начало мира, тем самым надежно защитив себя и от безбожного позитивизма науки, и, с другой стороны — от новых соблазнов погружаться в атмосферу мрачных языческих ритуалов и камланий? Но тогда нельзя не задаться и другим вопросом: что останется от идеи всемогущего Творца, если попытаться вынести ее за пределы церковных стен? И не лучше ли вообще обойтись без Бога, доверившись одному лишь разуму и естественному ходу вещей?
Но прежде, чем попытаться ответить на эти вопросы, следовало бы сказать о том, что побудило меня взяться за эту тему.
Поводом к подобным размышлениям послужило однажды испытанное чувство, в котором и себе самому не хочется признаваться. Но противиться ему было непросто: когда время от времени появляется известие, что кто-то из палачей, особо отличившихся в нацистских лагерях или в карательных органах НКВД, мирно почил в кругу семьи в весьма почтенном возрасте, при том, что его стараниями тысячи людей были когда-то зверски замучены и лишены жизни, во мне поднимается мутная волна — жажда возмездия, и душит злоба от своей беспомощности, от гримасы торжествующего зла и осознания, что даже если завтра мы проснемся в мире, где «перекуют мечи на орала» и людям станут неведомы прежние ужасы, выпавшие на долю невинно погибших, — не только в застенках, но возьмем шире: в кровавых междоусобицах, в религиозных и колониальных войнах, — а всё минувшее покажется неправдоподобным кошмаром, этот груз неизжитого прошлого, не осмысленного до конца и не отмщенного, будет и дальше угнетать сознание, не позволяя принять жизнь во всем ее богатстве, а тем более испытывать уважение к себе самим, несмотря на все успехи цивилизации, хитроумные девайсы, полную расшифровку генома и безвизовый режим по всей планете.
Но тогда, может, стоит понять, что наша человеческая жестокость — всего лишь малая часть мирового зла, что каждый из нас — скрытый за облаками вулкан, способный пробудиться, как только горячая магма ударит из-под земли, и все сетования тогда иссякнут сами собой? Или вообще не гневить судьбу неуместными вопросами и согласиться с тем, казалось бы, очевидным фактом, что, увы, всегда были и есть те, кому серьезно не повезло: погибшие в результате природных и техногенных катастроф, в автомобильных авариях или в шахтах, или те не отпетые, не упомянутые ни в каких списках, кто сгинули в безымянных могилах и в морской пучине, засыпаны вулканическим пеплом, заметены вьюгой, чья жизнь угасла в чумном бараке, загублена на лесоповале или разорвана в клочья снарядом во время боевых действий.
Разумеется, никто из нас, добропорядочных обывателей, ни в чем не виноват. Разве что в одном: мы редко отдаем себе отчет в том, что нам достаточно комфортно жить так в атмосфере оппортунистической терпимости в отношении мирового зла, которым, как гнилостными бактериями почва, пропитана человеческая жизнь. Мы к этому достаточно адаптировались и притерпелись, и, не разобравшись толком в том, что это за странный мир, который нам довелось «посетить в его минуты роковые», слепо и покорно следуем зову природы, создавая семейный очаг, рождая себе подобных и мало задумываясь о том, насколько мы рискуем новыми жизнями. Впрочем, уже оформилось целое движение (к нему еще вернусь) ратующее за добровольное вымирание — за отказ создавать потомство, дабы не растить новых мучеников.
Казалось бы, если мы сами продукт такого родительского «риска», в праве ли мы вообще подвергать сомнению то, что нам самим дало жизнь? С другой стороны, почему жизнь не застраховала себя от подобного рода срывов, не заблокировала саму возможность такой крамолы, а, наоборот, будто постоянно провоцирует на бунт, который ни к чему, в сущности, привести не может. Странно и то, что даже и в моей беспомощной досаде по поводу несостоявшегося возмездия тоже затаилось зло, причем в его особо изощренном виде: иллюзия, что справедливость в случае наказания истязателей и палачей могла бы восторжествовать. Выходит, это всё, на что мы способны? — око за око, жизнь за жизнь — последнее и единственное реальное средство, прибегнув к которому мы изо всех сил пытаемся убедить себя в том, что суд справедливости рано или поздно восстановит баланс сил добра и зла. Но ведь все равно повисают вопросы — не только о том, как примириться с тем фактом, что палач «навсегда» ушел от ответа, но куда важнее другое: а что с теми миллионами жертв, которых «всё равно не вернешь» — их что, время спишет со счетов как отбраковку, зачеркнет как черновик, который в лучшем случае послужит нам назиданием, чтобы на «неудачных примерах» учиться писать свою жизнь сразу «набело»?
Не мешает вспомнить, однако, что многим из числа этих «невезучих», кого жизнь начисто списала, мы в той или иной степени обязаны своим везением — и тем, что весьма умело используем их негативный опыт и что частенько живем в домах, построенных их руками, ходим по дорогам, ими когда-то мощенным под палящим солнцем, под взглядом надсмотрщиков. Ничьей тут вины, опять же, нет — так повелось, что мы, не слишком это осознавая, весьма плодотворно сотрудничаем со злом, конвертируя его в личное благо. Более того, каждый из нас потому и благоденствует сегодня, что наши предки сумели проявить в свое время не только острую смекалку, но и свирепую жестокость в отношении соплеменников. О животных, забитых на скотобойнях, замученных на работах в рудниках, загубленных на бесчисленных войнах или на забаву публики в корридах, и говорить не приходится. Отчаянные акции в защиту прав «братьев меньших» не могут в корне поменять дело — всё равно физиологическая зависимость наша от потребления животного белка вряд ли преодолима. Отсюда двойная мораль: мучить зверье плохо, но убивать в промышленных масштабах и носить кожаные сумочки — вполне даже. Так повелось. Но не осознавать этого и принимать как норму, как должное — одна из форм нравственной амнезии, если не сказать безумия. Мы всерьез увлечены идеей прогресса, возможностью продлевать свою угасающую жизнь путем замены износившихся органов; мы озабочены идеей колонизации соседних планет, но пытаемся при этом не замечать неподъемного груза так и не решенной проблемы: если в принципе с человеком можно сделать всё что угодно, и даже то, о чем и помыслить страшно, и это может происходить в каких-нибудь десяти шагах от места прогулки, за стенами ближайшего дома, и при этом будет меланхолически светить луна, плескаться волна и заливаться в роще соловей, и по-прежнему даже некому задать вопрос, не с кого спросить ни на земле, ни на небе, а любое недоумение по сему поводу будет выглядеть, по меньшей мере, чудачеством, то как с таким грузом, как вообще с такими «привходящими» условиями существования пытаться рассчитывать на благополучный транзит в будущее? Мы что, заберем всё это с собой?
А отпустит ли нас прошлое, позволит ли шагнуть в сияющие дали накопленный за века груз человеческих бедствий? — тяжесть, пригибающая к земле неумолимее, чем сила гравитации. Или религия уже взяла на себя этот труд — вести нас к благодати, осторожно и умело обходя все углы и слишком пристальные вопросы? Может, и стоило бы последовать за ней, не прибегай она к одному и тому же лукавому доводу: ответственным за всё зло в мире «назначается» сам же человек, которому до скончания веков предстоит нести повинность за свое мифическое грехопадение, чем безнадежно затемняется истина, хотя и успешнее поддерживается власть духовенства над людскими душами.
Однако человек с его краткой жизнью, в течение которой он порой не успевает увидеть ничего, кроме унижения и череды напастей, разве не достоин большего к себе уважения? — хотя бы потому, что он не устает размышлять о подобных вещах, надеясь рано или поздно на всё получить ответ: и не важно как — путем ли честных рассуждений, либо через откровение, либо даже предполагая, что ответ может содержаться в самом вопросе.
Итак, давайте отдадим себе отчет в том, что мы существуем в мире, где в силу законов природы — а где взять другие? — добро, при всем отважном его противостоянии злу, имеет несопоставимо меньше привилегий, нежели зло, которое обладает, по сути, абсолютной властью. Почему абсолютной? Понятно, что в отличие от весьма прихотливого в своих предпочтениях добра, зло демонстративно и неотвратимо — скажем прямо: раз смерть живого организма генетически предопределена, то это предполагает и его неминуемое разрушение, болезнь, страдания и унизительную беспомощность. И, по сути, всё в нас наиболее ценное и традиционно причисляемое к сфере добра, рано или поздно становится заложником этой враждебной силы, которой в наблюдаемом мире даны исключительные привилегии — ведь как ни изворачивайся, за болью и окончательным распадом остается последнее слово. При этом добрая архаическая вера в то, что мы продолжаемся в жизни будущих поколений, закономерно иссякает по мере того, как современный человек всё увереннее осознает себя не только звеном в воспроизведении рода, но и самоценной личностью, исчезновение которой с лица земли не восполняемо никаким многочисленным потомством. Тем более что и уничтожение потомства тоже вполне гарантировано: человечество, как обещает наука, неизбежно разделит судьбу нашей планеты, которой предстоит эффектно вписаться в череду космических катастроф. Значит, вдвойне бессмысленно оправдывать смерть индивида такой «высокой» целью, как совершенствование рода, даже если результатом научного прогресса станет создание «эликсира бессмертия». Итак, человек, уверовавший однажды в свою самоценность, вдруг обнаруживает, что нигде вера эта не находит ни оправдания, ни поддержки — ни на небе, ни на земле, ни в далеком космосе. И потому смерть — это навсегда.
Более того, даже если личная судьба складывается вполне счастливо, в глубине души не может не затаиться тревожная мысль, что все мы чуть ли не в долгу у смерти, и даже что в наблюдаемой реальности это зло способно не только разрушать, но и успешно созидать, сотрудничая с нами: мы как биологический вид и как общество в целом вынуждены жить в соответствии с правилами, по которым восполнять свои ресурсы приходится за счет других жизней, и не только благодаря гигантской индустрии убоя животных. Нам приходится обеспечивать свое существование буквально за счет вытеснения предыдущих поколений — всем же «тут» не уместиться! — при этом пользуясь плодами их трудов и на благо себе учитывая их трагические ошибки, отчего еще печальнее, неся в себе эту невольную и странную вину, наведываться в места, где упокоились ближайшие предки. Но такова именно стратегия, вложенная в нас: «перерабатывать» другие жизни, беря смерть себе на «временную» службу, прекрасно осознавая при этом, что «слуга» рано или поздно обернется «господином», и в результате каждому придется платить тем же — исчезновением полным и окончательным.
Нам не укрыться от этого саднящего душу диссонанса даже в культурной нише, поскольку, если говорить откровенно, потребление «духовной пищи» тоже в некотором роде является культурным каннибализмом — мы с наслаждением питаем себя тем великим, радостным и трагическим, что выношено и рождено другими людьми и стало свидетельством их порой драматического поединка с собственной судьбой. И даже язык, на котором мы говорим, как и очертания национальных границ — всё это исторический результат жесточайшего противоборства множества племен, этносов, народов, империй. Мы аранжируем зло, ритуализируем его в памятных стелах и монументах, и они составляют важную часть нашей среды обитания, торжественно и неусыпно напоминая, что мы всегда перед кем-то в долгу и что наше благоденствие оплачено жизнью других.
Итак, нам явочным порядком дарована жизнь, которая изначально обручена со смертью, окольцована с ней, раз уж смерть в разных своих обличиях просто жизненно необходима нам для самоподдержания — и на биологическом уровне, где мы представляем собой целую фабрику по переработке и «обмену веществ», и тем более на уровне социальном. По сути, смерть со всем ее зловещим реквизитом, глубоко встроена в технологию жизни. И уже ничего не изменить. Даже если генная инженерия снабдит нас кодом бессмертия, нам вряд ли будет уютно «коротать» вечность, так и не ответив на вопрос: с какой это стати, за какие особые заслуги мы удостоились привилегии бессмертия, обеспеченного трудами и невзгодами предшествующих поколений? Как бы то ни было, но смерть остается самым гнетущим воплощением зла, даже если она избавляет от другого зла — от мучительной болезни и немощи.
Удивительнее всего то, что мы со всем этим вполне примирились, хоть и не без печали, но говоря себе: не мы это придумали, и не нам судить. Наука тем временем выдает лишь новые подтверждения того, что жизнь и сознание возникли вполне случайно, хотя и без всякой науки понятно, что мы на этом свете в гостях у некой странной субстанции, называемой материей, где на законных основаниях верховодит энтропия, по-простому — та же смерть, подводящая черту подо всеми человеческими деяниями. Даже религия, если она, как христианская, обещает нам вечную жизнь, то опять же ставя непременным условием всеобщую погибель. Отсюда неизменный эсхатологический подтекст, звучащий всё настойчивее с приходом Новой эры: напряженное ожидание Конца времен как великого торжества справедливости — непременно, то есть с «карающей десницей» и казнями, совершаемыми с эпическим размахом.
Итак, чем больше комфорта, чем больше у нас досуга осмысливать свою жизнь, тем неизбежнее понимание, что мы, по сути, притерпелись к тотальному господству зла как к естественному фону. Латентное состояние нашей психики — вытесненное в глубокое подсознание (надсознание, околосознание) чувство беспомощности перед всевластием зла, что, впрочем, до определенного момента компенсируется витальной силой природных инстинктов и выплесками творческой энергии, а еще чаще обнаруживает себя в виде до странности обостренного интереса к криминальной хронике, к катастрофическим сюжетам; они-то и приносят основной доход киноиндустрии, плодящей триллеры и фильмы ужаса.
Неужели при достаточной очевидности сказанного, можно принимать жизнь «такой, какова она есть» — во всём ее естестве, величии и беспощадности? Нет, человек со всей своей проблематикой явно не вписывается «в натуральную картину» мира: то странное обстоятельство, что ему приходится столько всего испытывать в течение жизни, наблюдая при этом самого себя, настолько ненатурально, именно противоестественно, что временами кажется каким-то подвохом. Гармония, которую мы, озирая мир с высоты альпийских лугов, приписываем природе, никак не соответствует её сущности: предоставленная себе собой, природа это какое-то бесцельное клокотание вещества, бездумное томление протоплазмы и неутихающая вражда всех против всех, а в лучшем случае — совершенствование способов убийства и пожирания, так что если всё природой и исчерпывается, то все наши подвиги и метания — лишь куцые попытки огрызаться в ответ на её брутальность и провокации. Нет, если ничего больше за этим не стоит, то воспетое поэтами «лоно природы» никак не может приниматься за эталон гармонии; сочетающий в себе великую красоту и не менее великую беспощадность, такой образ природы, возведенный в идеал, становится скорее эталоном имморализма, если не аморальности.
И всё-таки что-то дает основание думать, что мрачная картина, здесь нарисованная, далека от истины, что это не окончательная правда, и так на самом деле быть не может — не должно. Мы это даже наверняка знаем: и в нас самих и в мире есть нечто такое, сверх важное и неуничтожимое, за что мы готовы отдать дарованную нам жизнь, и это не просто выработанные в процессе эволюции нормы морали — своего рода «приспособительные» механизмы выживания в условиях дарвинистского отбора, нет, их статус для нас настолько высок, что в наших глазах становится соизмерим с законами мироздания. Нужно только отыскать то, что можно было бы противопоставить естеству природы или даже поставить над ней, чтобы кардинально перевернуть всю картину, где зло и смерть лишились бы своих безграничных привилегий, где у блага появился бы шанс одолеть то непоправимое бедствие, которым так часто и так несправедливо оборачивается жизнь. Значит, что-то над-природное — сверхъестественное? Но тогда опять же: мировой Разум, Логос, Демиург, то есть именно Бог, а еще лучше — Бог исполненный совершенства, то есть самых благих намерений.
Казалось бы, причем здесь Бог, на что он нам сегодня, если мы и сами научились играть с нашим ДНК, словно это детский конструктор, или заглядывать в такие углы мирового пространства, куда и свет не долетает? Но отказаться слишком не просто. По сути, Бог, особенно в том понимании, которое с приходом монотеизма утвердилось много веков назад — это, если подумать, то лучшее в нас, что мы с удивительным упрямством пытаемся проецировать на бескрайнюю Вселенную. Каким-то образом так вышло, что однажды люди отдали Творцу на «вечное хранение» то наиболее ценное, что порой, вперемешку с чем-то демоническим и темным, обнаруживают в себе самих, словно не надеясь уберечь этот непонятно откуда взявшийся дар: и нашу свободную волю, и упорное стремление к истине, и страсть к творчеству, и потребность в любви, в справедливости, в совершенной красоте, а еще мужество, милосердие и способность к самопожертвованию. А Бог-де сумеет сберечь всё это, поскольку Он всесильный и всезнающий, ибо совершенен во всем — и потому не может быть несправедлив.
Однако Бог почему-то не торопится выказать свою праведную волю и своё заступничество, дабы засвидетельствовать, что Он действительно на стороне правды и добра. Более того, самый сильный аргумент против всесовершенного Бога состоит в том, что Вседержитель не выдерживает собственного совершенства, поскольку при вменяемом ему всесилии Он постоянно демонстрирует подозрительное непротивление злу, из-за чего создается впечатление, будто Его милосердие сильно преувеличено, или Он «недостаточно» всесильный и, значит, не совершенный, и вряд ли тогда милосердный, и, следовательно, вообще не тот самый Бог. От столь подозрительного альянса с мировым злом подвергается эрозии сама идея всемогущего и справедливого небесного Отца — наша психика попросту не справляется, впадая в биполярное расстройство, а интеллект буксует в досадных противоречиях. Например: если Бог абсолютно свободен в своем выборе, то, значит, он волен предпочесть и зло, если того пожелает. Разве «обязывая» Его быть на стороне добра мы тем самым не покушаемся на Его исключительные права, не связываем Его волю — абсолютную и непререкаемую?
Так мы и по сей день, как и тысячи лет назад, стоим перед выбором: что лежит в начале начал — Вечный Источник жизни или вещество, готовое сравнять любые проблески сознания с безжизненным прахом? Мы несем в себе не просто проблему — именно конфликт, в котором мир природы и мир Бога, если уж он Бог добра, противостоят друг другу столь радикально, что сосуществовать им на равных попросту невозможно: кто-то должен уступить свои притязания на доминирующее положение. Это в полном смысле слова вопрос жизни: либо в основе всего вечная жизнь и радость существования, а смерть — явление локальное, присущее лишь органической природе, либо первична неодушевленная субстанция, способная навсегда похоронить в себе упования наши на то, что мы кому-нибудь нужны в этом мире. Как ни парадоксально, но по мере того, как наука своими успехами узаконивает привилегированное положение разума в природной мастерской, всё безнадежнее выглядит картина сиротского положения человека во Вселенной. Непонятно, чего больше во всем этом, ехидства или назидания: мол, смотрите, чем развитее интеллект, тем больше свидетельств бесполезности какого-либо поиска за пределами отведенного вам пространства жизни. Похоже, впрочем, что и этого «знака внимания» сегодня неоткуда ждать. На что тогда надеяться?
Однако вот что обнадеживает: почему-то все попытки ниспровергнуть идею Бога, признав ее с рациональной точки зрения несостоятельной, неожиданно приводят к обратному результату — не только к поиску и приятию идеи Бога, не только к Его «оправданию», но и к потребности особой духовной близости с Ним. Пытаясь выставить нравственный счет Творцу и поняв, что из прежней затеи — сотворить Бога из всего лучшего, что в нас есть, ничего не выходит, что зло слишком отягощает нашу и Его вину, и потому лучше бы отказаться думать на эту тему, я вдруг обнаружил, что Бог не только не сдает свои позиции, не только не желает вытесняться из сферы мышления в область чистой веры, но даже многократно усиливает свое сопротивление — в том числе, возбуждая с новой силой полемику вокруг идеи вечных ценностей. Словно оживает легенда о праотце Якове, боровшимся с ангелом — посланником неба, который повредил тому бедро в доказательство своего могущества, но в результате и наградил, и возвысил, благословив весь его род. Похоже, что идею Бога тем труднее в себе победить, чем сильнее наш скептицизм и интеллектуальные усилия на этом пути. Мне даже кажется, что самый короткий путь к Богу — через попытку Его отрицания, причем не с позиции строгой науки, которой давно уже не до Него (ей бы самой разобраться со своими «чудесами»), а исходя из потребности прямо, не боясь «повредить бедро», вполне рационально взглянуть на некоторые острые проблемы.
Беда только в том, что покуда нашу пытливую мысль заклинило в подобных противоречиях, жизнь продолжает испытывать на прочность, и многие, к кому зло подступило вплотную, не выдерживают. Не так давно один тяжело больной индус подал в суд на своих родителей за то, что, подарив ему жизнь, они обрекли его на невыносимые муки. Возникло и такое явление, как антинатализм — движение за добровольное вымирание человечества путем отказа от семьи и рождения детей. Книга «Лучше никогда не быть» Девида Бенатара начинается с таких слов: «жизнь так ужасна, что было бы лучше вовсе не появляться на свет. Но кому же тогда повезло? Ни одному из сотен тысяч!».
Что можно было бы сказать в ответ на этот невеселый пассаж? Должно быть, что-то в таком роде: да, мы подвергаем опасности каждого появившегося на свет ребенка, но сегодня успехи науки и медицины намного снижают все риски, и потому не стоит себе отказывать в том, чтобы изведать родительское счастье. Так думает большинство людей, и, наверное, слава Богу. И всё же хорошо, что нам не дано предугадать будущее, иначе, боюсь, многие, увидев картину предстоящих бед, отказались бы от своего родительского призвания.
«Когда мы вышли из гетто и оказались в Черной Пуще, он сказал мне: ты хотела бы, Эстер, чтобы у нас было сейчас трое детей? И я честно ответила — нет». (Людмила Улицкая: «Даниэль Штайн, переводчик»). Кто-то сказал, что при рождении ребенка к его виску будто приставляют револьвер, где, как в русской рулетке, в барабане спрятан один боевой патрон.
Так что же ответить?
Итак, первое, что приходит в голову: те, кто, как представители движения наталистов, отказывается создавать семью, вряд ли люди верующие — религиозная вера, неважно языческая она или авраамическая, потому так мощно обосновалась на земле, что веками позволяла большинству людей переносить тяготы жизни, принимать ее со всеми бедами и радостями, проживая весь жизненный цикл — от рождения до смерти — как единую мистерию, не переча природе, не задавая лишних вопросов, на многие из которых ответов все равно не найти.
С другой стороны, им можно было бы ответить следующее: по сути, вы уже сделали шаг к религиозной вере, поскольку в основе вашего протеста — нравственное неприятие мира в том его обличии, в каком он зачастую предстает перед нами. Значит, в вас живет глубокое сочувствие и понимание ценности человеческой жизни. И если оно способно отвратить вас от радостей семейного очага и вынуждает призывать к милосердию неучастием во всеобщем пире зла, значит, в основании вашего протеста очень весомые мотивы. В вашем отрицании слышится великое милосердие, хотя, как мне кажется, вы останавливаетесь где-то на полпути.
Учитывая, однако, тот факт, что идея Бога помогла человечеству выжить, может, и нам стоит поискать в этом направлении? Для меня ведь тоже многое остается неясным. Не будучи атеистом, я в то же время не связываю свое представление о Боге ни с какой конфессией. Если у меня есть вера, то она строится на упрямом неверии в окончательность смерти, как и на неверии в то, что существует принципиальная разница между фамильным склепом и безымянной могилой, между крестом на надгробии или Звездой Давида, полумесяцем или диким ковылем, покрывшим поле боя. Но хотелось бы продвинуться дальше. Или вам авторитет науки не позволяет? Дело, опять же, обстоит таким образом, что чем грандиознее успехи науки, тем почему-то более проблематичным становится построение цельной, непротиворечивой картины физического мира, в чем всё чаще признаются ученые. Так что, судя по всему, путь к вере, к Богу открыт и для таких, как вы, настроенных достаточно критически. Не хотите ли попробовать вместе?
Какой смысл, спросите вы, если существование Бога — вопрос чистой веры или таинственного мистического опыта? И всё же я уверен, что здесь есть место и вполне рациональным аргументам, поскольку, как ни странно, между религиозной тайной и человеческим «Я», независимо от субъективного отношения к вере, существует настолько прочная связь, что наш интеллект не может ее не высветить, сколь бы тонкой она ни казалась.
Подобного рода воображаемый разговор с представителем упомянутого движения антинаталистов может иметь свое продолжение. И если читателю это интересно, тогда вот каким образом мог бы строиться наш дальнейший диалог.

Между абсурдом и преступлением
Я: — Надеюсь, вы понимаете, что наш разговор имеет смысл в том лишь случае, если для вас вопрос еще не закрыт, если вы не окончательно сказали «нет» и тема существования Бога вас всё еще волнует. Иначе все мои аргументы окажутся бессильны.
ОН: — Мне кажется, я здесь вполне определился. Впрочем, если хотите, давайте попробуем. Я надеюсь, у вас в запасе есть что-то более существенное, чем ссылки на извечные страхи перед неизведанным, перед природными стихиями и неизбежностью смерти — короче, всё то, на чем подлавливают нас заступники религии.
Я: — Вы правы, я не стану говорить и о том, что в окопах не бывает атеистов, и тем более сводить к избитому тезису: человеку, мол, непременно нужно верить во что-то светлое. Однако мне действительно хочется понять, что мешает нам, людям современным и вполне продвинутым, принять идею существования всемогущего Творца как средоточия всего, что мы называем благом. ОН: — Но, помилуйте, тогда о каком Боге пойдет речь, о том, который слывет у вас источником добра и света, но за которого в религиозных войнах были пролиты моря крови? Неужели можно предположить, что толпы головорезов и грабителей, участвовавших в нескончаемых Священных войнах, были движимы идеалами веры? Это для блаженных. А в основном-то истребляли друг друга ради одного: овладев всеми этими реликвиями — терновым венцом, плащаницей, наконечником копья, следом ступни — обладатели священных трофеев, как верило большинство, заручались поддержкой чудодейственной силы, что сулило успех во всех делах своему племени, своему королевству, государю, полководцу или султану. Заметьте, и до сих пор самые болезненные конфликты возникают вдоль границ религиозных конфессий — никто ни на йоту не хочет уступить право находиться вблизи небесного Престола, точнее — вблизи источника силы и могущества. А еще лучше навсегда бы присвоить себе Всевышнего — и тогда врагам точно несдобровать!
И вы хотите заманить меня туда, откуда я бегу как от наваждения? Вы только вникните — это какое-то непрерывное помрачение: то святые отцы стращают адом и вечными муками, то вовсе отменяют и ад и чистилище, но кликушествуют о конце света; то признают таинство причастия и исповеди, догмат о непорочном зачатии и обрезании Господнем, то отметают всё это начисто, объявляя сакральным лишь текст Священного писания. Да и в какую церковь предлагаете наведываться — к католикам с их инквизицией и кострами, к православным, истреблявшим единоверцев? Или в синагогу с ее этнической озабоченностью, в мечеть с проклятиями в адрес неверных, в дацан, где верхом желаний провозглашается отказ от всех желаний?
Я: — Именно: к католикам с их ажурными готическими сводами и органной мессой, к православным с их иконописным чином и величественными распевами, в синагогу с торжественным возжиганием свечей, в мечеть с головокружительной красотой резных сводов, в дацан с тихой и всепонимающей улыбкой Будды. У каждого есть потребность в храме, где освящается причастность человека к вечности, где, пусть ты сам и не верующий, но не можешь не проникнуться доверием и уважением к тем, кто искренне верует. Неужели вас никогда не озадачивал тот факт, что культовое искусство, церковное зодчество — во всех странах это самое впечатляющее проявление художественного гения?
ОН: — Ну да, узнаю эту культурную всеядность — вечный зуд и желание всюду поспеть, всем повосхищаться, обойти не только храмы и могилы знаменитостей, но заодно и модные галереи, да еще потискать все книжные новинки, лишь бы поскорее обменяться впечатлениями и, конечно, пофоткаться на каждом углу. А что касается именно культового искусства, то за ним, как вам известно, стоит такой дикий вандализм, что, если посчитать, то из всех уничтоженных фанатиками артефактов можно было бы создать не одну сотню музейных коллекций. А вы из культуры сделали заповедник добродетелей. В результате вы и детей своих, рожденных, как вы возомнили, им на радость, втягиваете в наш гибельный мир под видом «приобщения к прекрасному». Неужели вас нисколько не коробит от того, что всё искусство пропитано ядом меланхолии, миазмами чахоточной тоски, поэзией рухнувших надежд? Куда ни глянешь, всюду вздыхают о несчастной любви и упиваются темой безвременной смерти: от бедной Муму до истории Ромео и Джульетты, от «Тристана и Изольды» или «Вертера» до «Пира во время чумы» и «Унесенных ветром» — всюду смертная истома и приторный запах склепа. Хлебом не корми, дай пролить слезу над невинной жертвой!
Я: — Вы, мне кажется, преувеличиваете. Сколько в искусстве вдохновенных произведений, выражающих чувство восторга, самой непосредственной радости, нежности, озорства!
ОН: — А что над всем этим? Взгляните, какие самые помпезные здания в городах Европы: церкви и колокольни, увенчанные чудовищным орудием пытки — римским крестом, с которого сняли труп замученного человека. Вы с восхищением говорите о Колизее, где арена пропитана кровью рабов гладиаторов; вы восторгаетесь древним амфитеатром, где, забавляя грубую толпу, актер, игравший Эдипа, каждый день «выкалывал» себе глаза, восклицая: «О, лучше бы я не родился!»; а сколько повсюду этих Триумфальных арок в честь какого-нибудь маньяка полководца! Или тот же роскошный театр с шампанским в антракте и тонким дурманом духов — а на сцене восемь трупов, поскольку сегодня, видите ли, дают «Гамлета». Всюду соединение изысканного удовольствия и мучительства. И что, вы хотите вырваться из этих смертных объятий, пренебречь культурной традицией и, воспарив как ни в чем не бывало над религиозными барьерами, отыскать чистую благодать? А куда вы денете библейскую эсхатологию с ее Судным днем, Откровением Иоанна богослова и грёзами о Конце света? Вы хотите на этой основе синтезировать нечто светлое и духоподъемное? И что тогда вы отыщите, кроме всеобщего пути к погибели? Вы, конечно же, восхищаетесь, как и положено в культурных кругах, рафаэлевской Сикстинской Мадонной. Но неужели при виде этого шедевра вас никогда не охватывал страх — сколько смятения в глазах у молодой мамы, уже знающей о предназначенной казни сына, сколько недетской грусти в глазах ребенка, прижавшегося к ней!
Я: — Если говорить об искусстве, то я бы делал акцент не на тяге к трагической стороне жизни, а именно на таинственной способности искусства восстанавливать в душе гармонию, приводить к катарсису как средству очищения. Я надеюсь, мы еще подойдем к этой теме — и, поверьте, с самой неожиданной стороны. Но пока я бы хотел вернуться к главной мысли. Меня не покидает уверенность, что сама идея Бога выше и богаче тех специальных методов и средств, с помощью которых каждая из конфессий воспитывает свою паству. Есть нечто безусловно общее во всех религиях — живущая в людях глубокая догадка о том, что такие важные в нас качества, как чувство любви и гармонии, как милосердие, совестливость и стремление к истине каким-то образом соотносятся с вечностью и масштабами космоса — что где-то там есть запрос на них. Согласитесь, если бы у нас не было основания соизмерять себя с вечностью, мы вряд ли были бы наделены способностью столь упорно об этом размышлять. Это что-то врожденное в нас, тогда как клерикальные институты — уже вторичное, как теорема Пифагора первична по отношению к школьной дисциплине и к тем не всегда приятным преподавателям, которые посвящают детей в тайны науки. Поэтому, когда вас научили размышлять о Боге, научили дисциплине духа, правильнее всего отворить тяжелую дверь и сказать: отныне вы свободны — больше ничего не стоит на пути между вами и небом! Вот чего не хватает.
ОН: — Не помню от кого я впервые услышал эту фразу: «пусть существует множество религий, но Бог-то у всех один, и церковные перегородки с земли до неба не достают». Красиво — как раз в вашем духе. Но, скажите, если вы попытаетесь выйти из-за всех «перегородок» или приподняться над ними, что в результате останется? — нечто среднеарифметическое между Буддой, Яхве, Аллахом, Заратустрой, Иисусом, между Троицей и Инь-Янь, между приятием страданий у христиан и отказом от всех земных чувств у буддистов? Что общего между воинствующим духом Магомета и непротивлением злу в учении Христа, кроме стремления безраздельно властвовать над умами и желания свалить вину за все беды на самого человека? Да, сейчас пытаются наладить диалог, как будто бы множество верований это сплошной дискуссионный клуб, в котором хоть и говорят на разных языках, но при грамотном «переводе» все в результате смогли бы договориться. Но можно ли искать согласие там, где всем заправляет страх — не дай бог ослушаться, нарушить заповедь или даже не так подумать. «Не мудрствовать лукаво» — в этом смысле простой народ мудрее нас: наивная, доставшаяся от предков вера, с ее обрядами, песнопениями, заклинаниями и магическими символами, крестными ходами, целованием мощей и священных реликвий — во всем этом есть некое мрачное величие, позволяющее людям наполнить жизнь хоть каким-то смыслом, забывая о повседневных тяготах. Видите, мне настолько претит всякая эклектика, что я неожиданно для себя встал на защиту религиозной традиции. Но, может, и вправду главное в том, что веками складывавшая церковная культура была по-своему цельной и защищенной от сектантской безвкусицы, неизбежно возникающей на обломках традиционных верований. А вы хотите отнять у людей последнее прибежище — их сумеречные чувства, в которых они пытаются утопить опостылевшую реальность. Но зачем искать рациональное зерно там, где иррациональность — главное прибежище и достоинство? Или вы думаете, что вне вековых традиций можно отыскать для людей нечто утешительное?
Я: — Я бы охотно принял сравнение религиозных течений со множеством языков, выражающих общий смысл, в существовании которого я ничуть не сомневаюсь. Беда, однако, в том, что «переводы» с одного догматического языка на другой, как и признание условности самого священнодействия, невозможны, ибо каждая религия претендует на монопольное право владеть «магическим ключом» к истинному Богу, оградив себя от других, непосвященных, стеной отчуждения, если не враждебности. Когда кто-то из верующих, исповедующих широкие взгляды, убеждает нас, будто обрядовые особенности не столь существенны, и все виды вероисповедания — лишь разные пути, ведущие к общей вершине, к единому Богу, мне не верится, что это сказано вполне искренне. Ведь это означало бы, что каждый тогда вправе посещать любые храмы, свободно молясь в кирхе, в синагоге или в мечети, и самое главное — он не должен бояться в том признаться окружающим. Но ни одна религиозная конфессия с такой вольностью никогда не согласится и в лучшем случае, предав «отступника» анафеме, тут же выдворит его из общины: ведь все прекрасно осознают, что главное для прихожанина — верность, принадлежность к сообществу посвященных в сокровенное знание, герметически охраняемое системой обрядов. Поэтому я не думаю, что путь к обретению Бога, которого бы признали все, предполагает широту взглядов и взаимное согласие между богословами. Речь о другом — не об умозрительном синтезе различных схоластических систем, не об экуменическом сращивании, а о нахождении общего зерна или общего корня, из которого начало расти и ветвиться древо всех верований.
Неужели вы думаете, что ничего содержательного не останется при попытке двигаться к Богу напрямик, без суеверного страха, без спеси и фанатизма, без этих «профессиональных» посредников — «наместников на земле», жрецов, талмудистов и магов с их тайными знаниями, жертвенниками, воскурениями и причастиями, с их обрядовой символикой и почитанием святых мучеников? Шииты, сунниты, католики, лютеране, ортодоксы, старообрядцы, алавиты, хасиды, буддисты — неужели нельзя, не вникая в суть их застарелых конфликтов, напрямую пробиться к Богу? Само это желание подняться над всеми барьерами, взяв с собой лишь наиболее ценное — сегодня уже не прихоть. Мне кажется, исторически люди давно переросли обрядовую фазу. Если Творец существует и если Он однажды дал о себе знать, то, думается, для того как раз, чтобы постепенно, проводя нас через церковные штудии и системы послушания, потом, уже без пастыря и общей литургии, без соборности и трусливого конформизма, установить с каждым человеком глубоко личную связь — в обход всех храмов и молельных домов.
Первый шаг был сделан как раз в начале эры монотеизма. В ту пору Творец помог нашей душе высвободиться из теснот природной души-плаценты, где мы, человеческие особи, долго перед тем созревали в сумеречной тайне. Конечно же, природа сопротивлялась и ревниво пыталась нас удерживать в плену суеверий и родоплеменной архаики, для которой человек — лишь звено в цепи воспроизводства, статистическая единица, и потому навсегда обручен со смертью: вечное колесо Сансары должно было безостановочно крутиться, поставляя новые жертвы Молоху смерти. И обряды с обильными жертвоприношениями внушали каждому, кто в них участвовал: так будет всегда. Вот с чем не могло мириться всё более крепнущее в людях чувство особой, ни с чем не сопоставимой ценности человеческой жизни.
ОН: — Вы говорите о чувстве? Но, мне кажется, ваш метод, если вы с его помощью намерены выбраться из всех культовых «перегородок», никакому чувству не оставляет места. Речь у вас, похоже, идет о какой-то интеллектуальной вере, стерильной, очищенной от аффекта, а заодно — и от присущей всем верованиям обрядовости, без чего, согласитесь, невозможны ни яркие экстатические переживания, ни красочные литургии. А они, признаюсь, и меня когда-то привлекали — мне казалось, что они способны сообщать тот эмоциональный заряд, с помощью которого можно осилить реально испытываемое страдание. Боюсь, ваша умозрительная вера, наоборот, способна в конец обезоружить человека. Вы не можете предложить настоящую защиту тому, кто корчится от боли, и уж тем более беспомощному ребенку, попавшему в беду. А чего тогда стоят ваши поиски? Чем бы вы могли утешить несчастного — того, кто из-за навалившихся бед проклинает час своего рождения? Тут требовалось бы не что-то умозрительное, а действенное — как аптечка, которая всегда при себе: открыл, наложил на рану и полегчало. Кстати, почему ваш Отец небесный не расщедрился настолько, чтобы снабдить каждого при рождении такой аптечкой? Нет, ему бы только спрашивать с людей, стращать и растравлять раны! И вы надеетесь найти такому Богу оправдание?
Я: — Я вовсе не имею в виду осторожную и рассудочную веру-доверие, а именно упрямое, как инстинкт, знание, твердое и непреложное, но одновременно способное вызвать сильный эмоциональный отклик. Только оно и могло бы противостоять нашим аффектам, физической и душевной боли, напоминая заодно, что миром правит не какой-то вздорный начальник, а воистину благое Начало. Если в повседневных заботах можно доверять Творцу «по умолчанию», довольствуясь слабой надеждой, то в кризисные моменты, действительно, потребна именно такая знающая вера. Но она-то как раз находится в заложниках у религиозного ритуала, почему и требуется интеллектуальное усилие, чтобы аккуратно отделить зерно веры от атрибутов культа и всего, что мне представляется производным и ставящим личность в полную зависимость от традиции и коллективной психологии с ее способностью превращать в фетиш всё, что позволяет сбиться в однородную массу, фанатичную, исступленную, а если придется, то и погибнуть в давке на религиозном празднике, как бывало не раз. Я вовсе не собираюсь умалять огромное значение человеческой общности, святости кровных уз, но нельзя не понимать, что коллективное начало, будь оно под знаком племенной общности, соборности или державности, всегда ненасытно и готово жертвовать индивидуумом ради безраздельного своего доминирования, воспевая охотно подвиги, совершенные «во имя» и «во благо». Всё это восходит к глубокой архаике, где всему, что связано со смертью, отводилась едва ли не главенствующая роль.
Тогда могилы предков почитались как некие сокровищницы, хранительницы общих корней, причастность к которым позволяла каждому ощущать себя частью рода, то есть, определять свою идентичность опять же через связь с заупокойным миром. Для архаического сознания было лишено всякого смысла то, что мы вкладываем в представление об уникальности индивидуума, неповторимого и невосполнимого. Если статус личности кому-то и принадлежал, то исключительно главному жрецу или вождю племени, который как угодно мог распорядиться жизнями соплеменников. Понадобились века, чтобы человек отважился на бунт против всевластия рода, а тем самым и против всесилия смерти, ощутив мощный порыв к свободе и к тому, чтобы отыскать свой личный путь к вечно живому началу — к Богу. Хотя я прекрасно понимаю, что от срывов в доисторическое, пещерное состояние ума даже сегодня никто не застрахован.
ОН: — Меня, признаться, смущает ваша безоглядная уверенность, будто в наших, человеческих силах со всем этим разобраться и увенчать свои старания чем-то вроде акта примирения между землей и небом. Но неужели ваш личный опыт, да и трагические свидетельства, оставленные историей, не убеждают вас в отсутствии хоть каких-то признаков «всемирного» к нам сочувствия? К тому же, сдается мне, что вы, заявляя на словах о своем внутреннем протесте, на самом деле вполне смирились с так называемым «ходом вещей», раз готовы подыгрывать природе, согласившись с рождением себе подобных и подвергая детей, ни о чем не подозревающих, тяжелейшим испытаниям. Разве вы тем самым не присоединились к покорному большинству, тупо из века в век повинующемуся стадному чувству и инстинкту размножения?
Я: — Наоборот, именно неприятие того, что считается в порядке вещей, позволяет мне видеть в продолжении рода благо, а не власть инстинкта и потакание злу. Как раз глубоко личное несогласие с добродетелями покорности и конформизма — то именно, что прямее всего способно вести к Богу и к защите ценностей, без которых жизнь и вправду может показаться наваждением, а в некоторых случаях — предательской ловушкой. Даже не декартовское сомнение, а именно упрямое несогласие, отчаянный протест должны задавать направление поиска. В противном случае, большинство смиренных и «благочестивых» ответов на главный вопрос: зачем Бог с таким упорством попустительствует злу, — неизбежно разоблачают самих себя, демонстрируя удивительную нашу беспомощность. И чем больше в такого рода «подобающих» ответах желания отстоять любой ценой «честь» Творца, тем более они оскорбительны для Него и тем сильнее изобличают нашу обывательскую узость. Вот несколько характерных примеров.
«Мучения людям для того даны, чтобы воспитывать в них сострадание к другим»: выходит, можно мучить и убивать одних, с тем чтобы вызвать в других сочувствие и желание помогать тем, замученным и несчастным.
«Бог наделил нас свободной волей, а мы использовали свободу во зло — впали в первородный грех»: выходит, что всезнания Творца оказалось недостаточно, чтобы предвидеть последствия, и Он решил прикрыть свой промах, свалив всё на человека, а заодно устроив ему какой-нибудь потоп или землетрясение, тем самым отыгрываясь на потомках за грехи прародителей.
«Тебе дано Богом великое благо жить, а ты, неблагодарный, поносишь Творца и свою жизнь»: но неужели щедрый на добро Творец настолько жестокосерд, что ждет от солдата, умирающего в окопе от гангрены, еще и слов благодарности?
«Наши страдания — это карма, расплата за невыученные уроки в прошлой жизни»: выходит, что некая высшая справедливость требует награждать человека бедами за те проступки, о которых он не имеет ни малейшего представления. Трудно представить себе большее извращение, чем эта видимость справедливого воздаяния, санкционированная столь несправедливым миропорядком.
«Человек уходит из жизни только тогда, когда выполнит до конца свое жизненное задание»: получается, что все умершие в младенчестве (недавно они составляли большинство из всех родившихся) вполне успели справиться с «жизненным заданием».
«Мы не должны из сочувствия или страха примерять судьбу других на себя, поскольку у каждого свой индивидуальный договор с Всевышним»: но при этом нам вполне позволено не только «примирять на себя», но и использовать трагический опыт других людей себе на пользу.
«Каждому человеку даются только те испытания, которые ему по силам»: выходит, что именно по этой причине палачу, скрывшемуся от правосудия, отмерено было дожить на свободе до глубокой старости, а то ему оказалось бы «не по силам» отбывать пожизненный срок в тюрьме, тогда как его жертвам, наоборот, оказалось вполне «по силам» умереть под пытками или в газовой камере.
«Человек сам творит свою судьбу, поэтому он заслуживает всего того, что сознательно или бессознательно сам же и выбирает»: если даже не принимать во внимание всю несостоятельность этого тезиса в отношении детей, то одно уже фарисейское самодовольство, сквозящее в подтексте — мол, мною-то сделан правильный выбор, раз мне дано «со знанием дела» высказываться подобным образом — само себя разоблачает.
Вот так мы обречены, глядя отстраненно на жизненную драму и подгоняя под «правильный ответ», создавать оскорбительные для Творца версии и множить тем самым зло. Так даже вполне честные попытки найти хоть какое-то разумное оправдание злу и несправедливости приводят в итоге к еще большей несправедливости.
ОН: — Более всего меня коробит это самое: «испытания даются нам по силам». Подразумевается, видимо, что есть некая верховная «развесочная», где по справедливости каждому отпускается своя мера зла. Может, следует поблагодарить за подобную предусмотрительность — в первую очередь тем, кто от физической боли сходит с ума, а от душевной кончает самоубийством? Мне кажется, что за всем этим стоит глубоко упрятанный страх взглянуть правде в глаза — обнажить страшную панораму творимого природой и самим человеком зла, часто абсолютно бессмысленного, поскольку экстремальный опыт, из которого мы давно умеем извлекать выгоду, может даже не пригодиться, оказаться попросту зряшным. Сколько таких людей, никому не нужных, никем не оплаканных сгинули в полной безвестности, оставшись один на один со своей бедой! Понимаю, слишком уж страшно признаться, что есть страдания непереносимые и что ваш Создатель, при неограниченной своей мощи, вовсе не озабочен тем, чтобы не переставая творить благо.
Я: — Думаю, что мы здесь оказываемся перед великой тайной. Хотя я не верю, что главное скрыто от нас за завесой смерти. Сколько раз я слышал: «мы же не знаем точно, что происходит там, за этим порогом, откуда еще никто не возвращался — разве не стоит просто поверить и принять всей душой?». Мне всё же представляется, что не может быть справедливости отложенной на потом, какой-то потусторонней и трансцендентной — это не справедливо. Пусть трансцендентно в отношении рационального познания, но не по отношению к обнаженному чувству, требующему ответной реакции, немедленной обратной связи.
ОН: — По мне, разговоры о тайне — не больше чем уловка, помогающая увернуться от правдивого ответа. О какой такой тайне может идти разговор, когда попавшего в беду нужно спасать не красивыми байками или манипуляциями с церковным реквизитом, а явно: здесь и сейчас, когда больно, когда страшно! Только твердая уверенность, что Бог всё видит и тут же поможет тебе пережить боль и страх смерти, могла бы как-то противостоять страданию. А у истово верующих, видимо, подразумевается, что кто-то, погибший в автокатастрофе или от насилия, оказавшись на том свете, в какой-то момент оглядится вокруг и облегченно вздохнет: «слава Богу, весь кошмар позади, и вообще всё не так страшно — наоборот, сколько счастья вокруг, сколько родных сияющих лиц!». Но тогда неизбежен вопрос, наиболее принципиальный и болезненный из всех: а что, без такого издевательского сценария нельзя было обойтись? Ему-то, Богу вашему, это зачем? Что за чудовище правит миром? Неужели у него, такого всесильного и всезнающего, не было иного выбора, как только мучить и наводить страх, прежде чем в лучах славы выказывать высочайшее милосердие? Разве на свете существуют такие блага, которыми можно оплатить беды, выпадающие на долю человека! Или вы тоже посоветуете мне, как только я отработаю свою вахту на этом свете, ждать встречи со смертью, «как юноша ждет свою невесту», и тогда, глядишь, наградой мне станет вечная жизнь с приторным ангельским пением, от которого можно сойти с ума?
Нет, такие, как вы, никак не хотят взять в толк, что перспектива вечной жизни способна скорее пугать — и более всего тех, кто хотел бы забыться навсегда, только бы вновь не подвергаться пыткам, для кого отменить возможность уйти от боли и ужаса в окончательную смерть — наказание бессмертием, а ни какая не награда. Тем более, по поводу того, как там распределяются «призы», вы и сами не способны договориться между собой: то ваш Иисус обещает рай небесный последнему злодею, распятому с ним рядом, то Данте помещает в первый круг своего «Ада» не разбойников и серийных убийц, а тех, у кого, видите ли, грех гордыни. Кстати, не вызывает ли подозрение, что в его «Божественной комедии» сцены, рисующие ад, намного выразительнее райских — не потому ли, что и в жизни зло несопоставимо «разнообразнее» в своих проявлениях, нежели добро? И у мусульман не лучше: все их посмертные радости, райские сады и любовные утехи с гуриями отражают лишь земные вкусы пресыщенных халифов. Нет, вам явно не хватает истинного милосердия даже к тем несчастным, кто хотел бы совершить по медицинским показаниям эвтаназию, что с точки зрения многих вероучений — прямая дорога в геенну огненную. Посему для таких, как я, намного предпочтительнее избавиться от возможных мучений через твердую и честную атеистическую веру — веру в необратимость смерти, нежели утешать себя анекдотическими фантазиями и святочными грёзами о бессмертии.
Я: — Думаю, что в вас недостает жажды истинного бессмертия — не просто нескончаемого физического времени, а того спасительного, ставящего смерть в подчиненное положение, то есть в полную зависимость от вечного Источника жизни, способного установить свои незыблемые законы. Я как раз уверен в их существовании, и, поверьте, законы эти для мира не менее важны, чем какие-нибудь физические константы. Впрочем, нам трудно понять друг друга: для вас мертвое вещество заведомо первично, и потому в основе всего зло, а благо — это уж как кому повезет. Для меня же с самого начала, независимо от доводов науки, в основе всего жизнь как безусловная ценность, а наличие зла — да, здесь, конечно же, огромная проблема, требующая дальнейшего осмысления. Но это и создает то напряжение духовной жизни, которое заставляет искать путь к Богу в обход всех ловушек, расставляемых критическим разумом.
ОН: — Дело разве в доводах разума? Как вы не понимаете всю аморальность любого обращения к Творцу с мольбами, с благодарностью, прекрасно отдавая себе отчет в том, что при его же попустительстве были замучены или сожжены заживо, унесены потоками воды или просто сгинули в никуда миллионы и миллионы ни в чем не повинных людей. Как можно славить имя маньяка и раболепствовать перед ним — ведь он тут же становится за всё ответственным, как только вы признали его безраздельную монополию на власть!
Я: — Наоборот, и в этом как раз самое поразительное: по мне, обращение к Богу как к единственному Правителю во Вселенной есть акт высочайшего доверия и даже свидетельство того, что человек скорее предпочтет раскаиваться в собственных поступках, нежели потерять веру в Его абсолютную непричастность ко всему, что мы называем мировым злом, потерять надежду на то, что Богу всегда под силу доказать свое превосходство над силами ада. Проблема только в том, что нам неведомы Его пути. Но для верующего предпочтительнее смириться со своим неведением, нежели подозревать, что картина торжествующего зла, к которому якобы благоволит Всевышний, может оказаться достоверной. Хотя немало и таких среди «истово верующих», у кого недобрым светом загораются глаза при упоминании «карающей десницы». Потому у них всякая власть от бога — особенно деспотическая.
ОН: — Думаете, мне не хотелось бы однажды убедиться в том, что в основе миропорядка лежит добро и милосердие?
Я: — Именно, я так и думаю, что вы почему-то этого совершенно не хотите. Если бы в вас родилась потребность сопротивления и смелость, вопреки свидетельствам так называемого здравого смысла, сделать это допущение, что зло не может безраздельно доминировать в мире, вы бы не встретили непреодолимого препятствия и сами не заметили бы, как вошли в число поборников идеи Бога. Но, по-видимому, ваша картина мира невероятно искажена, и в ней заведомо приоритет отдан тому, что полностью игнорирует человеческое существование: вещество, пространство, время, энергия, масса, химические соединения и прочее — вам почему-то больше по душе искать предпосылки сознания в бесчувственной и в безответственной субстанции. Не удивительно поэтому, что и результат вы получаете убийственный — когда заведомо обесценено главное: живая жизнь с ее цветением, восторгами и болью. Теория эволюции ничего об этом не говорит, как не говорит устройство нашего мозга о том, почему такие удивительные чувства в нас вызывает поэтическая строка, лирическая мелодия или присутствие рядом любимого человека. Но, возможно, наука потому и не способна создать общую «теорию всего сущего» и свести концы с концами, что не догадалась включить в свои уравнения дополнительный «коэффициент» — ценностный, без которого картина мира не может быть полной.
ОН: — Вы как-то странно радуетесь тому, что наука, эта всегдашняя опора здравомыслия, сама сегодня очертила границы познания, объявив о преобладании в физической картине мира темной материи и энергии. Но вместо желания увидеть здесь очередное свидетельство того, что ваш Творец играет с нами, с человеческими существами, буквально «в темную», и уже категорически не согласиться на таких шулерских условиях подвергать риску будущее потомство, вы и честную науку пытаетесь приноровить к фокусам богоискательства. Нет, уж лучше окончательная смерть — без Бога, без посмертного суда, как природа и определила. Надеюсь, рано или поздно она закроет этот криминальный проект под названием «жизнь».
Я: — Вы напрасно полагаете, что природа тем самым предоставит вам надежное убежище — посмертное забвение всех проблем. Она явно не самодостаточна, что-то, безусловно, есть сверх нее. Люди издавна о том догадывались, хоть и смутно, но ощущая при этом, что человек шире естества природы, сколь бы бескрайней и могущественной она ни казалась, и что в нас самих есть нечто сверх того — именно сверхъестественное. Вы, например, сами это надприродное и утверждаете тем, что не желаете идти у природы на поводу, отказываясь послушно плодиться и размножаться. Но подумайте, как первозданную природу угораздило в вашем лице восстать против себя же самой, своего могущественного инстинкта? Зачем ей это — сбой программы?
ОН: — Да, тут явно какая-то аномалия. Странным образом в процессе эволюции человек сумел превзойти всех своей хитростью да еще узурпировал власть — сам себя короновал и провозгласил «венцом творения».
Я: — В пределах своей природной «мастерской» — в пределах вверенной ему планеты, человек действительно полноправный хозяин. Но если под природой понимать один вещественный мир, то нельзя не признать, что мы находимся, наравне со всей живностью, в тотальной зависимости от законов, согласно которым всем нам, в том числе и относящимся трепетно к словосочетанию «непреходящие ценности», заведомо, еще до рождения, вынесен смертный приговор. Так что правда, никакой не «венец природы».
ОН: — А меня вполне устраивало бы, что наш смертный, но изворотливый мозг явился продуктом долгой эволюции и жестокого отбора, обогнав в развитии куцые мозги черепахи или носорога. Однако те полтора килограмма серого вещества, что мы себе нарастили, явно не пошли нам впрок. К тем зверствам, что у животных обусловлены необходимостью выживания, мы добавили еще и способность издеваться над своей жертвой и даже оправдывать это богоугодными целями.
Я: — Но точно так же не понятно, как разница в какие-то полтора килограмма позволила нашему виду дерзко противопоставить себя природе, не только создав великую науку, но даже сделав предметом исследования собственный мозг. Тут прямо-таки фантастический скачок. Но, заметьте, по-прежнему непреодолимые трудности возникают там, где мы пытаемся понять, что такое само наше сознание. Ведь если в поисках его истоков вы взялись изучать органический мир или квантовую физику, то уже заведомо совершили подмену, заранее предрешив, что сознание для мозга что-то вроде желудочного сока для желудка. Многих даже не смущает, что сознание никак не определимо, поскольку само как субъект дает определения; потому и говорить о нем в третьем лице, как об объекте исследования, бессмысленно, и невозможно даже сформулировать, о чем речь. Тут всякая наука кончается, а может, и философия. Поэтому, как только в основу всего вы положите вещество, то заведомо обрекаете осознающую себя жизнь на бессмыслицу. Подлинная сущность сознания — это наша способность противостоять очевидности повседневного опыта, озадачивая мозг проблемами, на которые этот самый мозг с точки зрения эволюции вроде и не рассчитан. Но, как видите, именно этим мы с вами увлечены. Значит, тут дает о себе знать какая-то сверхзадача, если не программа, вложенная в нас.
Пусть даже выяснится, что где-то на квантовом уровне наше сознание сохраняется и после смерти — а такую гипотезу, в духе новейшей квазирелигии, выдвигают некоторые высокие умы — всё равно краеугольным остается вопрос: почему ради всех этих фокусов человеку нужно проходить столь бессмысленные и порой чудовищные испытания? Однако, чтобы увидеть хоть какой-то смысл в человеческом существовании, нужно поначалу прислушаться к своему внутреннему голосу и поверить ему, когда он негромко, но упрямо нам подсказывает, что жизнь несмотря ни на что обладает подлинной ценностью, что она дана людям на радость, сколь бы это ни шло вразрез с жесткой реальностью и ни заставляло докучать Творцу всякими «неудобными вопросами». В любом случае, за нас, за нашу душу, эту работу по отысканию базовых смыслов не сделает никакая наука, никакая религия. Как бы вам это объяснить…
ОН: — Честно говоря, меня это не слишком занимает. А вы, похоже, успешно дрейфуете в сторону религиозной веры, хоть и пытаетесь делать вид, что заняты исключительно поиском истины. Так что доброго пути!
Я: — Это не удивительно, поскольку во мне всё больше крепнет убеждение, что без Бога сама по себе жизнь предстает абсолютно необъяснимым преступлением природы, бездумно поставляющей своих детей алчной и ненасытной смерти, а наши все соблазны брать от этой жизни, сколько можно, еще и строя из себя добропорядочную публику, выглядят как коллаборантское соучастие в этом преступлении. Более того, хваленный наш здравый смысл, позволяющий принимать естественный порядок вещей за норму — настоящее предательство в отношении каждого, кому, в отличие от нас с вами, по какой-то причине не повезло и кто в последнюю минуту проклял час своего рождения. Если немного напрячь воображение, мы увидим, что таких «неудачливых» людей за все времена наберется столько, что Земля наша предстанет сплошной пыточной планетарного масштаба. Но, как ни странно, меня это приводит к совершенно иному выводу, нежели вас — к тому, что человеку с присущим ему нравственным чувством и особым даром самоосмысления просто-напросто тесно в природной мастерской.
Человек стал человеком в полном смысле, когда, нащупывая альтернативу своему природному состоянию, начал осознавать, что жизнь не может приниматься безоговорочно как данность: слепая вера в самодостаточность природы, существующей «по ту сторону» добра и зла, неизбежно обретает преступный подтекст, поскольку органическая жизнь включает насилие и восполнение ресурсов за счет других жизней в свой технологический цикл. Хотя, повторяю, никакой нашей вины здесь нет, а если есть, то вина, так сказать, первородная, точнее прирожденная, не взывающая к покаянию. Однако и это не должно приниматься как должное или как естественный фон существования, а вызывать обеспокоенность. Я бы, наоборот, видел в нашей душевной встревоженности, сколь бы бессмысленной она ни казалась, важную подсказку — в каком именно направлении искать Бога. Зачем? Затем что без Бога невозможно найти для наших ценностей иное надежное обоснование, позволяющее вырвать жало у смерти и принять жизнь не как наказание, а как величайшее благо. Иначе мы действительно не имеем права дарить такую двусмысленную штуку, как жизнь, нашим детям: допускать рождение всепонимающего сознания, оказывающегося в заложниках у бессмысленно колобродящего вещества с его криминальными повадками и полной безответственностью — воистину преступление. Здесь я вас могу понять. Но из принципа отказаться от рождения детей, вы думаете это самая радикальная форма сопротивления? Я, наверное, выскажу обидную для вас мысль, но мне кажется, что вас где-то в глубине души устраивает эта позиция: устраниться от всех проблем и спокойно доживать в своем углу.
ОН: — Я действительно не хочу брать на себя ответственность за то, как всё устроено на этом свете. Раз уж меня занесло в эту жизнь, то я предпочитаю создавать как можно меньше проблем себе и другим. Можно подумать, что вы способны предложить альтернативу?
Я: — Да, могу. И это не самурайское презрение к смерти или стоическая мораль римских аристократов — всё это бесполезно, когда вы находитесь не на арене Колизея или на рыцарском ристалище, а в крайне зависимом состоянии: когда та же болезнь или старческая немощь лишают вашу риторику всякой респектабельности. Нет, речь о другом.
Вы сами говорили о непознаваемой темной материи, количественно во много раз превосходящей ту, что доступна нашему эмпирическому опыту. Уже само по себе это «знание о незнании», этот неведомый «икс» является важнейшим достижением мысли и результатом попыток свести законы физики воедино. Но не тоже ли самое происходит в сфере нравственной — в вопросе о природе добра и зла? Мы не можем получить здесь полное и непротиворечивое знание, но, по крайней мере, ставя предельные задачи, на самом пике вопрошания, мы приходим к представлению о некоем таинственном, тёмном для познания, но необходимо присутствующем в мире светлом Начале, без учета которого жизненное «уравнение» нерешаемо. То есть идея Бога является тем искомым «иксом», без которого жизнь не только не полна, но и предстает полной нелепостью.
Однако, в отличие от физиков теоретиков, каждый человек вправе рассчитывать на то, чтобы непременно прояснить для себя это «неизвестное»: сначала в виде внутреннего отклика на свое вопрошание, потом — как предчувствие обновления и всё крепнущее желание открыть какую-то завесу, вырваться из потёмок, родиться сызнова, «вышибить дно и выйти вон», как царевич Гвидон из бочки — выйти, то есть, из тела матери-природы на свет божий. И подобно тому, как при своем рождении мы испытали стресс, необходимый для пробуждения жизненной активности, так же и в своем духовном рождении каждому отпущено изведать подобное: стресс, смятение от непомерности всего, что нам противостоит, шок от внезапного осознания нашей беззащитности перед испытаниями, подстерегающими на жизненном пути. Можете назвать это духовной инициацией, но только так — честно обозначив проблему — мы можем рассчитывать на получение искомого «икса», без которого не осилить тотальной силы зла. Однако, это еще не всё.
ОН: — Подождите, а какой тогда толк противиться тотальной силе зла и искать сомнительные «иксы», если уже был вынесен окончательный диагноз: мир лежит во зле, и точка. Так почему бы не принять эту истину как окончательный вердикт?
Я: — Наоборот, пусть для кого-то это «окончательно», но для меня здесь только начало пути. И для начала следует изменить обвинительный уклон: всё зло, мол, от человека. Неправда: ужасные землетрясения, бубонную чуму, наводнения, цунами, как и саму смерть, не человек выдумал. Однако, если это вздорность природы, для которой живые существа — лишь краткий эпизод в ее сумасбродных метаморфозах, то мы, дети ее, неожиданно оказались настолько смышлеными, что смогли прозреть и усомниться в незыблемости древнего, как мир, принципа, согласно которому то великое, что является источником жизни, вправе ставить ей предел, отнимая ее самым жестоким способом: без устали пожирая собственных детей, как Кронос или Кибела — я тебя породил, я тебя и убью.
Так людям открылось однажды — и я еще к этому подойду — совершенно иное знание, в соответствии с которым то великое и бессмертное, что порождает нас, хотя и ставит нам пределы, но дает нам жизнь исключительно как великое благо, а не как проклятие, поскольку в нас есть свидетельства прямой причастности к этому вечному и животворящему Началу. А оно не может желать нам зла. Нужно только сосредоточиться на этом знании.
ОН: — С меня достаточно, мне и так уже не по себе от вашей безумной альтернативы: без Бога жизнь преступна, но с вашим Богом, получается, она попросту абсурдна. Вы предлагаете выбирать между преступлением и абсурдом? А может, самый простой способ — отказаться от этой подозрительной идеи, от одиноко скучающего Бога, дабы не надрываться в когнитивном диссонансе, насилуя свое сознание пустой мечтой: о соединении милосердия и жестокости в одной божественной персоне.
Я: — Еще на заре христианства было сказано: «Верую, ибо абсурдно». Это Тертуллиан. И здесь есть своя правда. Похоже, мы в нашем диалоге подошли к наиболее трудному моменту, к тому важному положению, которое, в самом деле, с позиции утилитарного сознания иначе, чем средоточием абсурда, не назовешь. Тем не менее, я утверждаю: именно признав непомерность испытаний, превышающих наши физические и нравственные возможности, мы свидетельствуем о том, что мир человека много шире и сложнее наблюдаемой природы, и более того — это понимание вернее всего способно подвести к самой идее существования Бога, притом именно милосердного.
Вы удивлены? Для начала предлагаю подойти вот с какой стороны, более для вас понятной.
Как известно, в природе повсюду действует закон симметрии: частицы — античастицы, материя — антиматерия. Да и опыт свой мы упорядочиваем в категориях, представляющих собой бинарные и равноправные оппозиции: множество и единство, умножение и деление, конечное и бесконечное, и так далее. Точно так же и в отношении антропологии и культуры: народ и элита, красота и уродство, мир и война, любовь и ненависть. Однако, стоит лишь подняться на уровень дихотомии добро — зло или жизнь — смерть, как принцип симметрии и равноправия тут же отказывает, поскольку на нашем ценностном барометре такая фаза существования, как распад и гибель, получает абсолютные преимущества: если на смену ненависти может прийти любовь, а уродство преобразиться и обернуться красотой, то в соответствии с естественными законами смерть окончательна и необратима и потому предстает для нас абсолютным злом. Здесь уже не антагонизм, не контроверза, а или — или, что предполагает полное уничтожение или поглощение одной из сторон другой, составляющей оппозицию.
Уже само по себе осознание подобной асимметрии, никак не свойственной материальному миру, наводит на мысль о том, что вряд ли мы являемся существами исключительно природными, иначе, полагаю, человек был бы не в состоянии озадачиваться подобными вопросами. Но сам факт, что всё это нас тревожит и заставляет бесконечно рефлексировать на подобные темы, свидетельствует, что мы уже не находимся внутри оппозиции благо — зло, не вмещаемся в диапазон, предлагаемый нам естественными параметрами. Иначе, зачем природе такая избыточность? Что это вносит в пресловутый механизм отбора? Уже и сама наша парадоксальная способность познавать природу, надеясь отыскать в ней причину, порождающую саму способность познавать, говорит о том, что наше взбудораженное сознание не является продуктом исключительно природным. По крайней мере, интеллект наш, как и сам мозг, неизмеримо сложнее всего, что человеку удалось наблюдать и исследовать в окружающем мире.
Иными словами, имморализм природы настолько подозрителен, настолько вопиющ, что не может нас не подтолкнуть к важной догадке: начало, способное примирить в себе жизнь и смерть, должно находиться за пределами всякой бинарной логики и естественных природных границ — быть в полном смысле сверхъестественным. Вот здесь и рождается потребность в чем-то надприродном — в стремлении заглянуть за привычный горизонт в надежде заручиться поддержкой какой-то иной, более «надежной» реальности, не подвластной распаду и гибели. Это не значит, что нужно заняться поиском магического ключа к бессмертию или возведением громоздких спекулятивных конструкций. Наперед скажу, что это «примиряющее» начало, в прямом смысле сверхъестественное, присутствует в нас самих — некая глубоко в нас упрятанная узловая точка, где сосредоточено знание о том, что жизнь и смерть неразрывно связаны друг с другом. Но туда не подобраться с помощью строгих силлогизмов.
ОН: — Ну да, то самое «неизъяснимое», по поводу чего вы и пытаетесь изъясниться. Понимаю, к чему вы клоните: вас не покидает надежда приобщить меня к идее потустороннего, загробного мира, где самых достойных ждет отеческая улыбка Создателя. Но я уверен, что до появления ваших мировых авраамических культов с их тоской по нездешнему, религиозное сознание было намного адекватнее и, как ни странно, гуманнее: человеку предоставлялась возможность сгинуть бесследно, провалиться в тартарары и, по крайней мере, не нести моральную ответственность за все безобразия, творимые на земле. Так неужели вы всерьез хотите выставить вашего Господа средоточием блага, да еще и обосновать это каким-то образом?
Я: — Боюсь, нам пора договориться о том, что в подобного рода вопросах истины не добиться, если опираться на одни рациональные доводы. Да было бы и несправедливо, если б от хитроумной софистики и результатов философских баталий целиком зависело понимание основ существования. Это означало бы оставить за бортом «ковчега истины» большинство людей — всех, кто выброшен в океан жизни и готов хвататься за любую щепку и кому уж точно не до мудрствований. Рядом с болью и унижением становятся бессмысленны любые «системы взглядов», как и многомудрые наставления на путь истины и духовного просветления. У нас, то есть, должен быть иной источник знания, иные основания и аргументы — вполне для всех очевидные и во многом понятные людям с незапамятных времен.
ОН: — Но если они столь очевидны, то о чем мы тогда спорим? Достаточно их предъявить.
Я: — Видите ли, мы всё-таки понимаем, что наш разговор происходит в рамках умопостигаемого, ведь мы отсекли заведомо то, что принято называть эзотерикой, мистическим опытом, а он-то и определяющий для большинства, и, возможно, содержит ответы на все ключевые вопросы. Только это не наша тема — хотя бы потому, что она сопряжена со спецификой разного рода магических практик и теургических традиций, разделившихся на множество религиозных направлений, часто враждующих между собой. Мне же хочется отыскать в нашем разговоре то, что объединяет большинство людей.
ОН: — Так вы все же определитесь с вашим методом: то ли вы ищите разумные аргументы, то ли хотите отделаться одними иносказаниями. Сдается мне, вы все же боитесь честной и последовательной логики, боитесь предъявить хоть какие-то рациональные доводы в пользу вменяемости вашего «всемирного разума», раз уж вы допускаете факт его существования.
Я: — Как раз наоборот: поскольку молитвенное проникновение в истину мне недоступно, я всё же хочу подобраться к важнейшему для меня сокровенному знанию, оставаясь исключительно в рамках рациональных суждений. Вы думаете, это невозможно?
ОН: — Но тогда, если не пренебрегать логикой, вы должны, наконец, согласиться с тем, что ваш добролюбивый Бог, допуская существование зла, либо не является неиссякаемым источником блага, либо хронически не способен этому злу сопротивляться, а тогда он не всесилен, и, значит, никакой не Бог и не Создатель мира. А если и Создатель, то, скажем напрямую, он сам же и является источником и бенефициаром зла. Как вам такой ход мысли?
Я: — Этого я и ждал. Вы попали в точку, речь именно о многовековом споре, в который были вовлечены лучшие умы — о вечной попытке примирить идею Бога с наличием в мире зла, что получило название теодицея — буквально богооправдание. Вы правы: с формальной стороны этот парадокс не имеет решения. Но его и невозможно обойти стороной, и потому он издавна, с тех времен, как появился монотеизм, бередит умы и испытывает нас на прочность: верно, стоит лишь принять идею единого Бога, как возникает проблема ответственности за зло — раз единственный, значит и зло тоже от Него, от кого же еще! Итак: к единому Богу мы приходим как к единственному защитнику и гаранту наших ценностей. Но тут же возникает эта острейшая проблема: если признать за Всевышним полную монополию распоряжаться всем на свете, то неизбежно должны приписать Ему и то, что Он сам же является источником зла. Всё верно. Ну что, тогда отказаться от единобожия и вернуться на языческое капище?
Казалось бы, действительно, перед нами логическая ловушка, из которой никак не выбраться: Бог либо всеблаг, либо всесилен — по-другому не получается, если понятие зла для нас не пустой звук. Однако узел парадокса затянут еще туже: настолько стало невозможно отказаться от Бога, не только всесильного, но и непременно всеблагого, что человеку пришлось самому встать на Его защиту и, не без «подсказки» Священного Писания, взять вину за все безобразия в мире на себя самого: мол, прародители наши Адам и Ева неправильно распорядились дарованной им свободой и ввергли мир в грех своеволия. Казалось бы, нелепейший сюжет, но люди и до сих пор готовы взваливать на себя эту вину, принимая даже наказание смертью, лишь бы не дать в обиду своего Бога. Точно так же, вопреки здравому смыслу, человек способен отстаивать репутацию доброго Создателя в самые страшные минуты жизни: чудом выживший во время землетрясения или в авиакатастрофе благодарит Бога за спасение, хотя должен был бы в первую очередь пенять Ему за ужасное испытание. Вот поразительная картина, сложившаяся в нашем сознании и не претерпевшая значительных изменений за многие века.
Но еще больший курьез в том, что не только люди глубоко религиозные, но и вполне рационально мыслящие и образованные готовы отстаивать, вопреки печальным свидетельствам опыта, абсолютное добро в образе единого Творца. Что особенно впечатляет, даже неисправимые атеисты фактически принимают сторону Бога Всеблагого, поскольку их неприятие в большинстве случаев строится на типичном умозаключении: «где же он, ваш милостивый Бог, если столько повсюду бед и вопиющей несправедливости?». Выходит, и атеисты тоже не могут согласиться с тем, что Бог такой нехороший и потому предпочитают его разом отменить, становясь, по сути, ревностными поборниками нравственного совершенства Создателя. То есть и безбожники не мыслят Бога иначе, нежели в статусе непогрешимого ревнителя добра.
ОН: — Не понимаю, почему вы не хотите напрямую, отбросив вашу подозрительную риторику, ответить, наконец, на принципиальный вопрос: где она, неизбывная доброта вашего Бога, если и на самом деле столько повсюду страданий, ужасающей мерзости и насилия? Вы способны дать прямой ответ, не петляя и не увиливая в сторону?
Я: — Скажите, а если бы однажды были укрощены все стихии, несущие людям бедствия, отменены все войны, кровопролития и страшные болезни, разве в таком случае сделался бы Всевышний воплощением абсолютного блага? — ведь смерть, оставаясь по-прежнему не отменимой, точно так же представала бы в своем самом отталкивающем виде: всё то же надругательство над нами — тот же удушающий мрак, неминуемый распад, разложение, зловоние, тот же ужас потери близких и вина перед ними за то, что мы их не сумели от всего этого уберечь. Выходит, что желать от Бога абсолютного добра — все равно, что желать исчезновения всего живого на земле; и, значит, приход в мир абсолютного блага равносилен отмене самой жизни. Однако, даже понимая всю до конца цену своего существования, люди почему-то упорно ищут Создателя Всеблагого, словно желая найти в Нем противоядие от навязчивых кошмаров. И в этом весь парадокс.
Но я рискну пойти дальше. Итак, развилка: верующие выбирают безоглядную правоту Творца, заведомо принимая от Него всё — и поблажки и суровое наказание; атеисты категорически не принимают такого Бога, но опять же из соображений нравственных. Наш нравственный компас и в том и в другом случае упорно указывает направление, которое в принципе должно бы восприниматься как вызов здравому смыслу, как нечто аномальное и держащее нас в постоянном напряжении.
Однако в том-то и дело, что стоит лишь затронуть вопрос о существовании Бога, как обнаруживается, что во многих из нас уже есть некое представление о Боге — и не иначе, как об исключительно благом Начале. Бог будто сопротивляется в нас тому, чтобы мы могли приписать ему злонамеренность. Всё правильно, на то он и Бог, что сам способен защитить свою репутацию — не только карами небесными и хитроумной схоластикой, но и иным способом: Он явно противится в нас тому, чтобы его объявили источником зла. Казалось бы, Бог не познаваем, но многие при том искренне полагают, что в особые моменты ощущают его присутствие. Я им верю, но не думаю, что присутствие Бога следует непременно понимать в мистическом ключе. Если для нас Он трансцендентен, то лишь в смысле Его умопостигаемости, но при том Он остается имманентной частью нашего эмоционального мира, а не чем-то потусторонним. И для меня первый признак Его присутствия — то самое, однажды зародившееся в душе и, полагаю, знакомое вам чувство нравственного неприятия всего, что привычно называют «естественным ходом вещей».
ОН: — Стоило начинать разговор, чтобы закончить его так нелепо: «Бог во мне сопротивляется, следовательно, он во всех отношениях хороший». Сплошное воплощение добра! А если что не соответствует этой благостной картине, то у вас всегда есть на кого свалить: проделки Сатаны — Князя тьмы, которого Бог почему-то взял в подмастерья. Если помните, в «Фаусте» у Гёте слова, вложенные в уста Мефистофеля: «Я часть той силы, которая, всегда желая зла, творит благое». Довольно опрометчиво было давать последнему проходимцу эту реплику. Рассудите сами, если Бог и Мефистофель — антиподы, то Бог должен был бы сказать всё в точности наоборот: «Я та сила, которая, вечно желая блага, творит зло». Понимаю, каким для вас неприятным сюрпризом это прозвучало — ведь в результате придется отдать предпочтение Мефистофелю: пусть уж творит благое, что бы там ни было у него на уме, чем творит зло из благих побуждений.
Я: — Эффектная эквилибристика, не больше. Та же иллюзия всевластия симметрии. Но Бог и Мефистофель не парные понятия, поскольку ироничный Мефистофель, желающий зла, но якобы творящий добро — порождение того же единого Бога, держащего Сатану на коротком поводке. Хотя формально вы вроде бы правы. И вообще такое смятенное состояние ума, как у вас, неизбежно для современного сознания — именно в подходе к теме божественного. Однако, как ни странно, но это потому как раз, что мы все воспитаны в монотеистической культуре, построенной на предельном сближении и сведении всех смыслов к некой единой основе, что неизбежно должно разрывать сознание и приводить к антиномиям в духе Канта и к прочим парадоксам. Впрочем, парадоксальность в данном случае — признак того, что истина где-то рядом. И я постараюсь показать, что существует такая особая позиция, в соответствии с которой идея единого Творца, всесильного и потому ответственного за всё скверное в нашем мире, вовсе не противоречит тому, что Он же является единственным источником блага.
Однако первый шаг в этом направлении в том состоит, чтобы избежать ужасной ошибки, которую совершают буквально все, кто из последних сил пытается оправдывать Творца — это ложная попытка встать на точку зрения, согласно которой можно «минимизировать» силу зла до приемлемого уровня. Например, в трудах Августина или Лейбница зло понималось «лишь» как «умаление добра», будто несусветная боль может быть воспринята как недостаточность приятных ощущений, а вовсе не как зло безусловное, способное свести с ума и окончательно сломить. Будто бы можно на обрубок вернувшегося с войны человека взглянуть несколько «с другой стороны», откуда это предстанет не таким уж кошмаром, а в гибели ребенка от лейкемии на глазах у матери усмотреть нечто «возвышающее душу». Неужели так трудно понять, что зло не может, не должно в нашем восприятии быть чем-то «относительным», на что позволительно взирать с улыбкой просветленного гуру? В этом сквозит что-то бесчувственное и предательское. Нет, всё должно быть названо своим именем: зло — это всегда враг, с существованием которого никакое примирение недопустимо.
Кто-то из просвещенных умов (кажется, Дидро или Ньютон) предпочел менее бесстыдный вариант в духе деизма, в согласии с которым Творец никак не ответственен за мировое зло: с Него достаточно было и того, что Он создал мир, но, ставя превыше всего свободу, предоставил Творение самому себе, отстранившись от «ручного» управления — отсюда, мол, и все наши беды, к которым верховный Демиург уже не причастен.
ОН: — Что-то вроде высокооплачиваемого дирижера и автора музыки в одном лице: прилетел, точно мировая звезда на гастроли, помахал палочкой — и след простыл. Как ни скажи, всё абсурд. И заметьте, вся путаница опять же от вашего единобожия. Иное дело в культурах политеистических, где сферы добра и зла поделены между разными «ведомствами» — между рогатыми, козлоногими, пышнотелыми или худосочными духами, демонами, богами и божками. Потому, несмотря на все разборки между ними, всегда оставалась надежда, что в какой-то момент Фортуна или Мойра проявит к вам благосклонность — особенно, если самим не подкачать и вовремя принести требуемую жертву: пусть не собственного первенца, но ягненка или тельца, или же пожертвовать на храм, дав к тому же обет не стричь волосы, не есть, не пить и воздерживаться от брачных отношений.
А в случае с единственным на всех Творцом положение просто безвыходное, если не ужасающее. Согласитесь: с одной стороны, ваш Создатель по милосердию запретил жертвоприношения, а с другой — не только допустил насилие, но ради сомнительных своих целей еще и устраивает показательные казни, испепеляя целые города и сваливая всё на нашу пресловутую греховность. А сколько беспощадной ярости на страницах вашей Библии, не гнушающейся сценами детоубийства! Если не бояться всё называть своими именами, как вы предлагали, то по человеческим меркам такое поведение Отца небесного не иначе как преступным и подлым назвать невозможно, а реакция, подобная вашей, смахивает на стокгольмский синдром, когда жертва, долго оставаясь у насильника в заложниках, начинает его оправдывать и даже испытывать к нему симпатии. Но стоит приложить к Всевышнему им же установленные законы нравственности и попытаться мерить его тем, что известный всем бесноватый тип называл химерой совести, как получится, что в лице единого Бога миром правит довольно вздорный и аморальный субъект. Один набор общеизвестных исторических фактов способен вызвать дрожь и заставить навсегда испытывать стыд при упоминании «милосердного» Создателя: Помпея, Мессина, Верден, Освенцим, ГУЛАГ, Бабий яр, Хиросима, Беслан… Продолжить? Но неужели мы всё это и вправду заслужили? Нет, уж лучше доживать свой век без такого щедрого на доброту Бога. А еще правильнее: с Богом или без него — но вообще выйти из этой подозрительной игры, именуемой жизнь, и не рисковать рождением новых мучеников.
Я: — Если говорить о библейском Боге, то всегда существовал соблазн слишком буквального понимания Священного текста, изложенного большей частью языком иносказаний и адресованного соплеменникам с их пылким воображением, но с косным еще и табуированным сознанием. Поэтому Яхве предстает в Писании то гневным и жестоким, то тут же по-отцовски заботливым и милосердным, а некоторые эпизоды вообще имеют множество толкований, в каждом из которых находят основание для борьбы с «отступниками». И я как раз вижу здесь еще один аргумент, заставляющий искать единого Творца за пределами сакральных текстов — эту фазу люди, мне думается, давно переросли. Тем более, что и в Писании мы не найдем ответа на главный вопрос: почему так выходит, что при попытке осмыслить идею милосердного Бога у нас всякий раз вырисовывается образ монстра, действия которого нам приходится оправдывать «высшими» соображениями, типа: если бы Творец не поставил нас перед выбором между добром и злом, то как бы мы смогли тогда проявить свободу воли, им дарованную. Многие воспринимают этот софизм как последнюю истину, вместо того, чтобы, наоборот, первым делом защитить Творца от обвинения в подобных бесчестных и смертельных играх, в чем и состоит корень проблемы.
ОН: — Снять с него обвинение в злонравии? Сомневаюсь, что такое возможно.
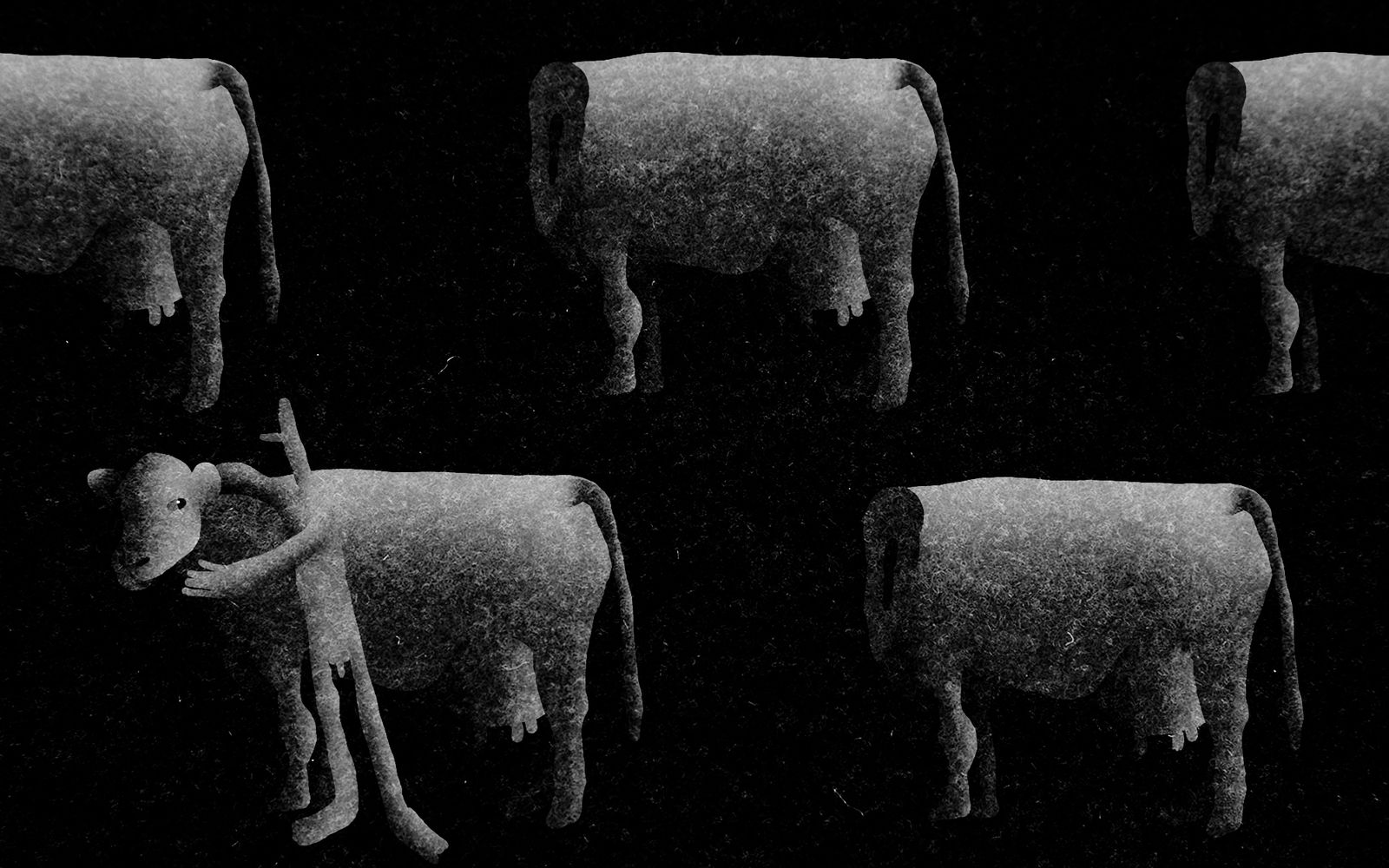
Лазейка для Бога
Я: — И всё же парадокс теодицеи вполне решаем, хотя и тоже путем парадоксальным; что делать, безумный мир требует для своего понимания столь же безумных идей, хотя, подчеркну еще раз, идей, подкрепленных вполне разумными аргументами. Абсурд — не конец, а только лишь начало размышлений. И что в данный момент особенно для меня важно, именно вы мне помогаете в этом разобраться.
ОН: — Но сначала ответьте мне на один вопрос: если Бог, по-вашему, един для всех, то тогда и на таких грешных, как я, ни на йоту не верящих в него, он бы тоже должен, пусть не изливать благодать, но оказывать воздействие — неужели только тем, что махнул на нас рукой и отказал в вечной жизни?
Я: — Не думаю, ведь ваш атеистический нигилизм, если разобраться, идет от глубокого сочувствия к людям и, кто знает, быть может, вам уже уготовано место в райских кущах — в актах милосердия, я полагаю, божественная природа раскрывает себя в наибольшей степени.
ОН: — Спасибо, вечной жизни я больше всего и страшусь. Забыться бы навсегда, а не бодрствовать неусыпно в раю, глядя оттуда на земные корчи. Но с какой стороны ни посмотри, получается, что Бог являет себя в актах милосердия в отношении тех несчастных, кого сам же обрёк на мучения. Так ведь? Но разве это не бред, не выверт! Защищая эдак идею единобожия, вы обрекаете себя на то, чтобы безвыходно брести по замкнутому кругу: всё та же Библия, тот же Иисус и Голгофа, всё то же благочинное смирение, умерщвление плоти, стигмы у охотников до мучений, блаженный лепет юродивых, «нищих духом», лузеров и двоечников, униженных и оскорбленных. Не обижайтесь, но отдает каким-то безнадежным убожеством!
Я: — Зависит от точки зрения. Вас это озадачивает, но в моем понимании богочеловеческая природа проявляет себя не столько во вдохновенных художественных опусах или в способности ходить по воде «аки посуху», сколько в нашем желании проникнуть в смысл того крайне унизительного положения, часто превосходящего границы человеческих возможностей, в котором может оказаться любой из нас. Однако именно упрямое желание до конца понять, что же с нами происходит, и есть та пропасть, что отделяет нас от животных, от которых мы без такого критического отношения к собственному существованию мало бы чем отличались. Насколько сомнительны и безвкусны попытки приписывать великим художникам или ученым способность «считывать информацию» откуда-то свыше, настолько факт осознания того, что на людей наваливаются испытания, безмерно превосходящие все мыслимые пределы, заставляет нас искать опору за пределами обозримого мира — ту самую поддержку свыше.
Конечно, ощущение подобного несоответствия, сводящего жизнь к абсурду, способно окончательно деморализовать и довести до помешательства. Но тогда, если всё равно деваться некуда, давайте не побоимся пойти навстречу абсурду и сделаем следующее предположение: а что, если выходящее за все мыслимые границы чувство бессмысленности происходящего, когда мы полностью унижены и беспомощны перед лицом неизбежного распада и гибели, и есть как раз свидетельство нашей причастности божественной природе? И более того, я бы сказал, что только нашей богоподобностью может объясняться то чувство сиротства и богооставленности, которое нас преследует время от времени и заставляет искать небесного Отца и Покровителя.
Потому, вопреки мнению, будто на нашу долю выпадают те лишь испытания, что нам по силам, скажу еще раз: как ни парадоксально, но именно признание непосильности, невместимости испытаний, наваливающихся на человека, может служить основанием считать Создателя не только всесильным, но, как я попытаюсь показать, и всеблагим. Иначе мы с вами ничего не поймем в религиозных чувствах, если будем отгораживаться от правды жизни рамками благочестия или схоластическими упражнениями, вместо того, чтобы пытаться обратить внимание «на малых сих», на всех вывалившихся из привычных норм изгоев, отринутых и беспомощных, не только проявив к ним должное сочувствие, но и увидев в них ключевую проблему человеческого существования, как ее увидел Будда, Екклезиаст или Иисус. Великие вопросы бытия не могут носить чисто умозрительный характер. Сколь бы грандиозной не представала греческая философия или та же «Афинская школа» — помните фреску Рафаэля? — проблематику жизни не поднять на должную высоту в чисто интеллектуальном диспуте, в спорах о космогонии или о природе прекрасного.
ОН: — Но у греков было, по крайней мере, великое умение видеть в человеческом теле отражение божественной гармонии, что они с совершенством воплощали в мраморе и глине. Однако вашему ревнивому Яхве ничего не помешало зарыть всё это в землю — упрятать с глаз долой на долгие века.
Я: — Очень прискорбно, что почти полторы тысячи лет были скрыты от людей эти сокровища. Но давайте вспомним, к чему пришли античные художники: «Лаокоон», «Умирающий воин», «Закалывающийся галл». Или возьмем тему неумолимого рока в греческой трагедии. В этом есть своя закономерность: универсальный ум людей античности не мог в поисках совершенства остановиться на одном пластическом его выражении. Стремление отыскать законы идеальной гармонии в природе, в космогонии, в человеческом существовании не могли не привести к осознанию ее неосуществимости в мире, где не только судьба Прометея, Орфея, Эдипа, но и самого Зевса или Юпитера полностью зависела от вздорности Фортуны или прихоти ревнивого Аида. Однако античность была слишком привязана ко всему телесному, осязаемому, чтобы найти решение этой коллизии.
И тогда, в противовес эллинистической концепции, радикально порывая с осязаемым миром посредством табу на изображение человека и Бога, всё заметнее начинает звучать древняя Тора, открывшая совершенно новое, альтернативное измерение — ценностное и, тем самым, новую «культуру вопрошания»: страстность, суровая простота, боль и прямые, обращенные к Творцу, лишенные философской респектабельности вопросы: «доколе?», «за что мне это?», «почему Ты оставил меня?». Человек больше не захотел оставаться игралищем судьбы. Он решил призвать Небо к прямому диалогу, обещая ему свою любовь и преданность. Вот когда от несогласия с данным казалось бы от века порядком вещей стало пробуждаться, почти на пределе отчаяния, новое понимание жизни как неистребимой ценности, и появилась традиция постановки своего рода экзистенциальных риторических вопросов, то есть уже содержащих в себе ответ в виде осознания своего исконного права на бунт, на слова протеста — причем в адрес «первого Лица».
ОН: — Что-то подозрительное есть в ваших рассуждениях. По-моему, вы говорите о страданиях как о великой привилегии. Уж сразу бы добавили: каждый должен нести свой крест — выражение, всякий раз приводящее меня в бешенство. Неужели у столь высокопоставленного «драматурга» не было в запасе другого сценария, без этих иезуитских вывертов? Вы хотя бы пояснили, зачем это нужно вашему небесному подзащитному. И вообще, если бы таковой существовал, то неужели бы он не попытался как-то по-человечески объясниться с людьми, а не вот так — «снисходить» до диалога или ждать ваших рассуждений, наблюдая, как вы петляете вокруг да около?
Я: — Мне понятно ваше раздражение. Но, с другой стороны, если бы я мог знать всё до конца, то соперничал бы с самим Создателем в могуществе, будучи, как и Он, всезнающими. Здесь есть, несомненно, своя тайна, когда уместнее молчание. Конечно, нам никто не запрещает строить предположения, но, наверное, вы правы, было бы лучше дать Ему самому за себя заступиться.
ОН: — Или представить бесспорные свидетельства — ну, пусть не в виде строгого доказательства теоремы «о существовании моего Всемогущества», но хотя бы явить однажды настоящее чудо, прямо у всех на глазах, а не прибегать к «откровениям» экзальтированных одиночек; хотя бы раз в истории прилюдно вывести из горящего дома детей — прямо за руку, представ «в белом венчике из роз» или в виде голубя, как угодно, но чтобы все, наконец, узрели, чтобы врезалось в людскую память на века! А как эффектно было бы обрушить каменный потолок на голову Сатаны, когда в личине известного рейхсфюрера он очутился под сводами Нотр Дама! Но о чем тут говорить, если сам Папа Римский симпатизировал нацистам и всячески их выгораживал.
Я: — Мне нечем вам возразить. И что касается чуда, то все аргументы и свидетельства, какие обычно выдвигают отцы церкви, мне тоже не по вкусу. Но вот про отсутствие строгого доказательства замечу: иначе и быть не должно. Бог не мог бы рассчитывать на то, что знание о Нем будет зависеть от умения доказывать Его существование и Его всесовершенство в искусной полемике. Такой вариант, наоборот, стал бы дискредитацией идеи Бога — ведь она оказалась бы доступна лишь узкому кругу праздных интеллектуалов, соперничающих в остроумии. Наоборот, только там, где интеллект наш обескуражен, внезапно натыкаясь на непреодолимое для себя препятствие, там и может обнаружиться лазейка для Бога. И Он, конечно же, не преминул ею воспользоваться, необходимо лишь понять, когда и каким образом.
ОН: — Я одного не пойму, почему ваш Вседержитель, мудро избегая всех этих рисков, не может распараллелиться и на равных соединить в себе и добро и зло, как, например, на востоке — в манихейской традиции или в зороастризме. Такого рода дуализм намного честнее, и не нужно выворачивать мозги наизнанку. Почему, в самом деле, единому Богу не быть одновременно и беспощадным, и вздорным, и любящим, и щедрым на помощь — как ему заблагорассудится? Кто с него спросит!
Я: — Так потому именно, что мы говорим здесь о монотеизме, а единственный Бог, как я и собираюсь показать, по самой сути своей не может быть источником зла, поскольку при таком Его статусе монополия зла абсолютно невозможна — и в мире, и в нашем сознании. Поэтом я предлагаю подойти теперь к данному моменту вплотную и сперва предложить, раз уж в нашем дискурсе религиозная тема центральная, обратиться непосредственно к тексту Библии. Не пугайтесь, я не собираюсь вторгаться на территорию богословия, но хочу только обратить внимание на один пассаж из Книги Бытия, столь же общеизвестный, сколь и по-прежнему совершенно загадочный: «сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему».
В самом деле, что имелось в виду? Конечно же, не физическое сходство, конечно же, не всемогущество. Творческая воля? Духовная природа? Но куда деть нашу бренную плоть, нашу физиологию и заодно весь вещественный мир, в котором мы укоренены сильнее, чем растения в земляном грунте? В чем же тогда состоит наше богоподобие? Вот несколько коротких рассуждений — надеюсь, они вас не утомят.
Вспомним выражение: «Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Замечу, что это первая из десяти библейских заповедей, основной императив монотеизма, в котором способность говорить от первого лица — от «Я» Бога — неразрывно связывается и с Его могуществом, со способностью повелевать, вызволять из рабства, но, главное, с тем утверждением, что кроме него другого Бога не существует — Он единственный. Как понимать эту взаимосвязь Его свободной воли и Его единственности? Но обратите внимание: наше деятельное начало — свободная воля, она ведь тоже непосредственно связана с тем, что и для каждого из нас абсолютно единственно на свете — с нашим «Я». Но что такое наше «Я» — это та единственная и неизменная опорная точка, благодаря которой, при всех бесконечных переменах вокруг или в нас самих — в мыслях, в чувствах, в воображении, мы сохраняем свое тождество и способность говорить от первого лица, употребляя местоимение «Я», для которого не существует формы множественного числа. Только «Я» бывает в единственном числе. Потому в «моем единственном Я» сосредоточено наиболее очевидное и ясное знание, но при этом, заметьте, и самое парадоксальное, поскольку, как мы понимаем, таких единственных «Я» существует столько же, сколько и людей. Однако извне, как некие другие «Я», мы их не способны воспринимать — разве только в прямом общении, в диалоге, убеждаясь в существовании другого единственного «Я» собеседника, но ощущая опять же только одну реальную и «единственную единственность», сосредоточенную в собственном «Я». Повторю еще раз: именно в точке «Я» сфокусировано столь же простое и самопонятное для каждого, сколь и непостижимое для ума знание, «распаковыванием» которого философия занята уже не одно столетие. Однако пойдем дальше.
Теперь обратите внимание, сразу вослед, уже во второй заповеди, звучит требование: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой…» — что, безусловно, должно указывать на нематериальную, невидимую, природу Творца, не сопоставимую ни с чем из того, что мы зрим в окружающем мире. Причем нигде в заповедях не говорится напрямую, что Бог есть дух святой или какая-то идеальная сила. Всё намного определеннее и радикальнее: Бог единственен и именно потому неосязаем. Вот что здесь принципиально — неосязаемость, то есть следует из Его единственности, и это, заметьте, в точности, как и у нас с вами: мы свое единственное «Я» не можем воспринимать извне, как один из объектов, в качестве «оно», поскольку в осязаемом нами материальном мире вообще ничего не существует в единственном числе. Разве что некая гипотетическая точка, сингулярная, из которой, если верить физикам, родился наш мир в результате Большого взрыва, (что по непостижимости своей ничуть, наверное, не уступает идее сотворения мира «из ничего»).
Итак, выходит, что уже в своих первых базовых определениях идея Бога представляет собой некую абсолютизацию человеческого «Я», как бы возведенного нашим сознанием в высшую степень. Значит, если человек сотворен по образу и подобию Творца, то главный признак подобия заключается как раз в том, что определено первыми же заповедями о единственности Бога, то есть выходит, что, наряду с человеком, таким «Я», единственным и неосязаемым, обладает только Бог. Не удивительно ли? Да и как это понять? Положим, что при всей несопоставимости человек и Бог — это как бы два противоположных состояния единственности: единственность Бога объемлет, или включает в себя, всё бесконечное многообразие мира, неустанно меняющегося и неповторимого в каждый момент, тогда как единственность человека — лишь нечто неповторимое среди множества людей и вещей — то есть единственное в своем роде. Для сравнения: Бог — как бы вся бесконечная сумма точек на плоскости или моментов времени; каждый же человек со своим «Я» единственен, как некая точка на плоскости или момент на оси времени.
ОН: — Ну, если я правильно понимаю, для вас единственность в человеке — это его индивидуальность, штучность, поскольку каждого отличает присущая только ему физиономия, как и отпечатки пальцев — своего рода материальный эквивалент единственности.
Я: — Верно, но это самовосприятие словно бы извне — подобно собственному отражению в зеркале. А «изнутри» нашего «Я» мы ощущаем свою единственность безотносительно к своей узнаваемой физиономии, и мы даже не в состоянии объективными методами установить связь собственной внешности со своим «Я», которое для стороннего наблюдателя — некое «оно» наравне со всеми остальными «они». Итак, индивидуальные черты, как и психологические особенности, у всех разные, но «Я» — нечто простейшее до невыразимости; и в то же время это центральная ось, «точка сборки», вокруг которой сосредоточена вся наша единственность. Точно так же мы и в Боге не можем выделить никаких конкретных черт и потому не можем дать Ему иного определения, кроме как: абсолютная единственность и неосязаемость. Мы не знаем, как соотносится Творец со своим Творением и с физической природой, но почему-то ясно, что корень всеединства может заключаться только в том, что абсолютно единственно. Так же и единственность нашего «Я» — она не физического свойства и не ментального, но каким-то образом объединяет в себе и то, и другое.
Таким образом, если пробовать дать определения нашему «Я» как понятию, то все они окажутся для человека и Бога в равной степени апофатическими, отрицательными: недоступно органам чувств, вне времени, вне пространства, не чисто духовное, не чисто физическое, ничем не детерминировано — свободно, то есть в изъявлении воли. Из чего следует, что «Я» Бога и «Я» человека одинаково невозможно сделать объектом рационального познания. Тогда почему бы не предположить, что если Бог столь же непознаваем, сколь и совпадает с нашим «Я» в способе определения, то Он столь же непостижимым образом и в реальности слит непосредственно с нашим «Я», как и наше «Я» слито с Его божественным «Я». Или по-другому: «Я» человека — это часть мирового, божественного «Я», соединенная с Ним в той самой точке, где в нас сосредоточено понимание своей единственности, что, по-видимому, и является нашим основным бытийным кодом. Но об этом несколько позже.
Итак, качество единственности — фактор, в котором божественное и человеческое оказались предельно сближены, в чем, замечу теперь, и состояло великое открытие монотеизма, а вовсе не в том, чтобы, как иные думают, поставить над человеком нечто устрашающе авторитарное, требующее слепой покорности и вечного покаяния. Другими словами, идея единого Бога никакая не выдумка жрецов, одержимых жаждой власти, а то, что вместе с привычным нашим «Я» буквально впечатано в нашу ментальность как знание столь же непостижимое, сколь и очевидное. Выходит, удивительная способность осознавать каждым из нас свою единственность есть настоящее таинство — таинство единственности, поскольку в «точечном» понятии «Я» природа божественного и человеческого интимно пересеклись друг с другом, что в некий исторический момент как раз и явилась той архимедовой точкой опоры, с помощью которой был перевернут мир. В самом деле, если в языческих культурах обитель богов располагалась в недоступных для человека сферах — на Олимпе или где-то в Асгарде, то с появлением Библии местом обретения Бога стала душа человека, поскольку абсолютное «Я» Бога и «Я» человека предельно совместились в общем фокусе единственности. Установление этой прежде не доступной истины стало кардинальным поворотом сознания, повлекшим за собой глобальные исторические перемены. Причем, совершилось это далеко не только из-за некой индоктринации со стороны жреческой касты: стоило провозгласить единственность всемогущего Яхве, как уже одно это позволило обогатить наше мировосприятие целой гаммой новых жизненно необходимых смыслов, о чем и пойдет речь. ОН: — Простите, но ваши рассуждения слишком отдают кабинетной философией и никак не смахивают на ту живую связь с Богом, которую вы декларируете и ставите превыше всего. На мой взгляд, если что-то и можно выстроить вокруг своего «Я», то лишь философию крайнего персонализма с его раздутым до нельзя эго или, прости господи, какого-нибудь солипсизма.
Я: — Не нужно путать свое «Я» со своенравным эго и со всем, что связано с личными потребностями и желаниями. В самом «Я» нет никаких желаний, никаких стремлений, кроме одного — всегда быть. Чтобы это уяснить, нужно раскрыть всю полноту смыслов, сосредоточенных в понятии единственности, к чему я сейчас и приступаю.
Итак, поговорим еще об одном сходстве между «Я» Творца и нашим «Я». Обратите внимание на то, что, вслед за императивом чтить одного только Яхве и запретом на его изображение, все остальные восемь заповедей библейского декалога относятся к нравственной сфере: не убивать, не красть, не лжесвидетельствовать, посвящать субботу праведным делам и т. д. Все они как будто вытекают из первых двух, и впечатление такое, что единственность неосязаемого Бога служит тем основанием, на котором зиждятся и нравственные законы. Но каким образом единственность могла бы сопрягаться с нравственным началом и с целой системой ценностей?
На первый взгляд, нет ничего сложного: если основополагающими в определении Бога становятся единственность и нематериальность, то уже этого достаточно, чтобы в качестве основы мироздания положить не какой-то первоначальный мрак — Эреб, как в греческой космогонии, или тот же предвечный Хаос или Океан, а разом заявить в качестве основы всего вечную жизнь, заведомо получающую в монотеизме безусловный приоритет над слепой стихией и самой смертью, низведенной теперь до частного момента — до земной формы жизни. Согласитесь, уже одно это говорит о том, что единственность в лице Бога содержит в себе важнейшее ценностное утверждение: жизнь в основе всего. Однако вы всё еще вправе полагать, что мы здесь не пересекли порог кабинетной философии. Но тогда обратимся к тому богатству смыслов, которые неизбежно возникают в сознании при слове единственный, и попытаемся со всей пристальностью вглядеться в это понятие, чтобы воссоздать всю гамму сопутствующих смыслов.
Прежде всего, как уже говорилось, свою единственность мы воспринимаем как нечто самочевидное, неотделимое от нашего «Я», а сказать «Я» — всё равно, что сказать «существую», и более того: «Я» это единственное из всего на свете, что не может не существовать. Ведь невозможно сказать всерьез: «Я не существую». Далее, единственность осознается на фоне множества, то есть предполагает бесконечное число разного рода вещей, осознается, то есть во взаимодействии с ними как некое связующее начало, не затронутое никакими переменами и остающееся тождественным себе. Так же единственность это синоним уникальности, или индивидуальности — того, чем определяется личность, всегда себя осознающая как нечто неповторимое. Однако воспринимать себя чем-то единственным и уникальным в бездне времени и пространства — значит, испытывать, наряду чувством восхищения от причастности к необозримому миру, и другое чувство, часто возникающее при созерцании звездного неба — обеспокоенность, тревогу, страх от своей несоизмеримости при встрече один на один с космическим безмолвием и потому ощущать присутствие великой тайны, означающей неспособность связать своё единственное «Я» с неисчерпаемым многообразием мира. Но единственное — это и то, без чего не возникает интереса к другому человеку, который своей неповторимостью резко выделяется среди всех остальных, особенно когда возникает чувство любви, недаром любимый всегда суженный — избранный судьбою, как и все те, кого мы любим: родители, дети, друзья; встреча с каждым из них, когда вероятность «разминуться» в бездне времени и пространства бесконечно велика, кажется невообразимым чудом. Тем сильнее отчаяние, знакомое каждому, кто теряет близкого человека, всегда единственного, и отчаяние это даже сильнее, чем страх потерять собственную жизнь. Но и собственная жизнь постепенно осознается как путь к последнему порогу, за которым непроницаемая завеса, внушающая мистический ужас: неужели я, такой единственный и неповторимый, могу бесследно кануть в небытие? Но тем еще больше всё единственное обретает для нас перед лицом смерти и бескрайней вселенной максимальную, именно бесконечную ценность. С единственным непосредственно связано и чувство судьбы, то есть присутствия могущественной силы, определяющей единственную для каждого линию жизни в результате игры противоборствующих сил, когда сталкиваются события закономерные и случайные, незыблемый порядок и наша свободная воля, а ведь ход любой игры всегда неповторим — опять же единственен. Но подобное взаимодействие предсказуемого и хаотического, правил и полной свободы, есть именно то, без чего невозможно творчество и само искусство, поскольку создание наиболее совершенных образцов не может описываться никаким алгоритмом. Всё по-настоящему ценное в искусстве — уникальное, невиданное прежде событие, воспринимаемое порой как откровение свыше.
Итак, одного только свойства единственности достаточно, чтобы стать тем интегральным фокусом, в котором самопонятным образом сходятся совершенно различные и во многом противоречащие друг другу смыслы: бытие, бесконечность, вечность, личность, единство, тождество, мистический страх, неопределимость, любовь, тревога, чувство отчаяния, тайна, свобода, порядок, безусловная ценность, вовлеченность в игру судьбоносных сил, творческая воля, откровение, гармония, совершенство. Таким образом, если все же пытаться дать исчерпывающее определение тому, что такое «Я» каждого из нас, то всё, что мы можем сказать: «Я» — это точка пересечения всех названных качеств, это полнота смыслов, представляющих собой много больше, чем сопутствующие значения или коннотации, поскольку всё богатство, весь спектр жизненной проблематики, словно притягивается к единственному как к смысловому центру — к некому аттрактору, фокусируясь тем самым в нашем «Я», кажущемся поначалу точечным, простейшим из понятий, не имеющим определений. То есть насколько «Я» логически не определимо, пусто, настолько же бесконечно содержательно по насыщенности базовыми смыслами, если рассматривать «Я» через призму определяющего свойства — единственности.
ОН: — Одного не могу понять: зачем нужно столько умственных затрат, чтобы докопаться до таких банальных вещей. И так все вполне осведомлены о том, что красота, свобода, любовь, порядок лучше, чем хаос, уродство или ненависть. И никакой Бог, сколь бы единственным он ни прикидывался, тут вообще ни при чем.
Я: — Верно, на бытовом уровне так и есть. Но вам нечем будет защитить эти простые человеческие радости перед лицом хаоса — и потому именно, что для вас они банальны: вы же не верите в существование надежных оснований для каких-либо ценностей. А я как раз хочу показать, что самопонятные истины — не значит расхожие. Наоборот, они свидетельствуют, что здесь порог какого-то важнейшего для нас знания. Нужно лишь сделать определенное усилие, чтобы в этом убедиться.
Итак, самое полное для нас знание самоочевидным образом сосредоточено в «точке сборки» нашей единственности — в «Я» каждого из нас. По сути, единственность — не только субстрат важнейших смыслов, но, как видно, и точка пересечения основных координат нашего существования. Притом единственность «Я» — это, быть может, самая великая из тайн, в которую, тем не менее, посвящен каждый. И это удивительно мудро устроено: мир слишком сложен, чтобы доверять истину одному лишь аналитическому рассудку. Вот почему, наверное, всё наиболее важное и при этом наиболее сложное для понимания сосредоточено в таких очевидных для нас категориях, как время, пространство, движение, число и так далее. Но еще в большей степени это относится к перечисленным выше простым до очевидности, но при этом мощнейшим, как инстинкты, ментальным стимулам, с которыми мы рождаемся на свет. В них и раскрывается таинство единственности, становясь откровением единственности.
ОН: — Вы, на мой взгляд, неоправданно преувеличиваете добродетели, коими наделяете вашу единственность, как будто не может быть единственного врага, смертельного недуга, единственного шанса выжить или погибнуть, единственного боевого патрона в барабане револьвера, когда вы решили сыграть с судьбой в русскую рулетку.
Я: — Вы оказались бы правы, если б не то спасительное открытие, которое когда-то сделал человек, осознав, что в своем высшем выражении — в личности Бога — единственность становится нашей защитой, поскольку она неотделима от бытия: Бог — это то, чего не может не быть, поскольку, как и в случае с нашим «Я», существование — его неотъемлемое свойство: «аз есмь»! А из этого следует, что все базовые ценности, связанные с личностью человека, с тайной нашего «Я», находятся под покровительством высшей силы, так как мы обнаруживаем, что в императиве: «Я единственный ваш Бог» сосредоточены многие из вышеназванных смысловых доминант, раскрываемых благодаря нашей человеческой единственности. Может, не зря в русском языке заблокировано множественное число для таких слов, как любовь, сознание, совесть, счастье, воля, гармония, истина, вера: язык словно удостоверяет близость этих важнейших понятий к личностной основе — к единственному «Я», семантически выявляя их особый онтологический статус.
Если говорить и о других смыслах, сосредоточенных в окрестности точки «Я», то внутреннее родство по «смысловому спектру» личности Бога, как мы ее воспринимаем, и важнейших интенций человека станет еще более показательным. А именно: Бог не является ничем из того, что мы можем воспринимать органами чувств, Он тождественен самому себе (бесконечно превосходя всё существующее во времени и в пространстве), Он есть свободная воля, законодательное начало, основа всеобщего единства и порядка, Он нематериален и неопределим, представляет собой совершенство, абсолютную личность, бесконечную ценность, Он источник любви, источник откровения и тайны, мистического страха и угрозы уничтожения, источник силы и неиссякаемой творческой воли; Бог есть средоточие высшей гармонии и, в то же время, побудитель свободной игры и противоборства космических сил, что воспринимается нами как высший промысел, или судьбоносное начало.
Как можно видеть, смысловое и ценностное наполнение единственности человека и Творца оказывается на удивление созвучным. Я даже думаю, что это произошло одновременно: вспыхнувшее, словно зарница, осознание единственности личности Творца и личности человека, одно не могло произойти без другого — возник эффект резонанса космогонического звучания, в корне изменивший смысловую основу жизни. Разве это не говорит о нашем полном праве рассчитывать на некую субстанциальную поддержку свыше?
Правда, неожиданно возникает и то, что способно вызвать недоумение: нам совершенно невыносимо вообразить себе Бога, предоставленного самому себе на просторах Вселенной и испытывающего, подобно человеку, гнетущее космическое одиночество — момент абсолютно шокирующий, но указывающий скорее на ограниченность наших познавательных возможностей, чем на реальную ситуацию. И, тем не менее, мы не способны воспринимать Бога иначе, нежели как Сверхличность, и значит, в силу своей единственности, в отличие от нас счастливчиков, бесконечно одинокую в бескрайности времени и пространства. Впрочем, на удивление, мы и здесь обнаруживаем глубокое родство с Творцом — в нашем всепланетном «коллективном одиночестве», которое с расширением научных знаний становится всё более очевидным и невыносимым: распахнувшаяся перед нами Вселенная полностью игнорирует жизнь на планете Земля, не говоря уже о существовании отдельного индивидуума. Однако наше космическое отчуждение только больше еще поднимает значимость фактора единственности, становящегося вызовом для нас и рождающего острую потребность преодолеть это сиротство самой причастностью человеческого «Я» к личности Творца.
ОН: — И вы всерьез рассчитываете на сочувствие такого бесконечно одинокого Бога к нам грешным? По-моему одиночество с ним ничем не лучше, чем без него. Вы еще скажите, что, сотворив человека, ваш Промыслитель спас себя самого от вселенской скуки. Может, он еще испытывает к людям особую за это благодарность?
Я: — Вы не далеки от истины, и я, как ни покажется странным, тоже хочу это обосновать. Хотя нам привычнее думать, что Бог способен только наказывать или миловать, я, тем не менее, убежден, что он, безусловно, способен еще и сопереживать, и да — испытывать благодарность.
ОН: — И к неверным тоже? И даже спасет тех, кто посещает «чужие» храмы? Вы, кажется, не понимаете, какую сеете смуту, отстаивая идею единого на всех Бога. Ведь каждая религия, а монотеистическая особенно, претендует на то, что именно ее концепция Бога, ее имя Бога единственно истинно. Иегова, Иисус, Аллах, Ормузд, Шива — кто из них? Или всё это разные воплощения одного и того же божества? Но тогда, чем это не такое же многобожие, веками расползающееся по земле, вопреки объявленной вами победе монотеизма? Если раньше у идолопоклонников каждый из почитаемых богов или тотемов заведовал своей природной стихией, то с зарождением идеи единоличного правления любой из небесных владык начинал мнить себя богом-монополистом и претендовать на вселенский престол, оттесняя других и стараясь подчинить себе земли, народы, страны, отгораживаясь от «неверных» догматами, ритуалами и свирепым фанатизмом. Кто истинный хозяин во Вселенной? Чьим именем вершатся судьбы мира? Каждое такого рода «уточнение» — это новый религиозный конфликт, новое смертоубийство, а вы еще наделяете Всевышнего эмпатией, чувством сопереживания!
Я: — Потому я и предлагаю вам ту единственную максиму, которая способна объединить все монотеистические религии: единый для всех Бог проявляет себя в том, что едино во всех людях — это именно таинство единственности нашего «Я», ощущаемое каждым из нас независимо от веры или неверия и свидетельствующее о том, что мы непосредственно «включены» в абсолютное «Я» Бога. Но, точно так же, общим для всех является противоположное — то есть всё, что угрожает этому знанию: страх распада и полного уничтожения личности — то есть нашей единственности. Вот на что должна опираться универсальная религия, свободная от догматов, обрядов, магии и фанатизма. Иными словами, единственность, если взять понятие во всей его полноте — это и есть истинный Бог как определяющая сверхценность, вокруг которой формируется весь спектр ценностно значимых категорий.
Итак, единственность — именно то, в чем «Я» Творца и «Я» человека неразрывно соединены — точнее, со-едины, образуя то, что можно назвать ценностным резонансом. И потому вся смысловая гамма, образующаяся вокруг понятия «Я»: любовь, свобода, чувство личности, чувство причастности к грандиозному замыслу, к самой вечности, и т. д. — показывает: таинство единственности и базовые ценности неотделимы друг от друга, и именно они в первую очередь, а не магические практики и обряды, заслуживают сакрализации в качестве основы общечеловеческой религии; это и есть истинный Завет между Богом и человеком, и другого таинства, основанного на магии, сколь бы «светлой» она ни представлялась, не существует.
Скажу вам больше: я вполне допускаю, что оккультные силы — реальное явление, и допускаю, что есть какие-то неизученные природные энергии, как и магические практики, овладев которыми, можно тем или иным способом воздействовать на психику и здоровье людей. Но я убежден, что воздействуют они лишь через коллективное поле — в том числе через наши фантомные страхи, фобии и табу, издавна обосновавшиеся в нашем атавистическом подполье и цепляющиеся, будто репейник: «тьфу чтоб не сглазить» и тут же постучать по дереву, шарахнуться от черной кошки, впасть в ступор перед цифрой 13, не общаться через порог, — суеверия эти внедряются в наше сознание с самого детства. Однако я так же уверен, что вполне добросердечного и ясно сознающего свою автономию человека никакая магия не проймет — вера в верховенство Блага, как и чувство личного достоинства, оберегает надежнее, чем амулет или какое-нибудь пришёптывание. Конечно, это в том случае, если вы, подобно впечатлительному Пушкину после посещения гадалки, всерьез не ввязались в поединок со своей Судьбой — тут и заяц, перебежавший дорогу, становится вестником Фортуны.
Казалось бы, для древнего человека с его магическим сознанием и влечением к заупокойным культам, не было никакой возможности высвободиться из этой западни. Вот здесь-то становится понятным, почему именно монотеизм сумел совершить решающий поворот в сознании: через единственность личности Творца человеку стала открываться неповторимая личность и в нем самом, что в свою очередь закрепило всю систему нравственных постулатов, впервые открывшихся Моисею на горе Синай. То есть появились они не в виде деклараций, а именно как прямое следствие Первой заповеди о единственности Творца, а тем самым и заповеди Второй, говорящей о Его вне-материальности, что позволило отделить идею Бога от мира чувственных, изображаемых вещей, в котором, повторяю, нет места ничему абсолютно единственному. Таким образом, пробудившееся в человеке чувство личности стало той точкой опоры, которая позволила в итоге одолеть коллективную магию и сформулировать новые нравственные постулаты. Разве не достойно удивления то, что именно опора на единственное, сфокусированное в нашем персональном «Я», позволила обосновать нормы нравственности, ставшие в результате общечеловеческими?
ОН: — Меня удивляет ваша непоследовательность: то народ у вас — средоточие темных инстинктов и суеверия, то он внезапно прозревает и превращается в сообщество благонравных субъектов. С какой стати затерявшееся в пустыне иудейское племя скотоводов кочевников стало заморачиваться на тему морали?
Я: — Не берусь судить об историческом контексте. Однако не зря же этот сложнейший процесс преображения человеческой натуры занял тысячелетия, пока закрепился в сознании народа как норма. Зато, при всех зигзагах истории, этот вектор уже нельзя было развернуть вспять, как и после изобретения керамики или появления письменности, тоже необратимо изменивших ход истории. То есть принятие концепции единственного Бога и Десяти заповедей стало результатом не только отвлеченных размышлений о началах бытия или потребности сплотить народ общеобязательными правилами, а явилось именно открытием — не меньшим, чем открытие новой планеты или законов гармонии в музыке.
Таким образом «Священное Писание», будь оно богооткровенным или неким обобщением жизненного опыта, утверждает, простите за невольный пафос, ценностную основу мироздания, сосредоточивая это знание в заповеди о единственном Боге. Для нас это означает, что Творец буквально капсулирован в нашем «Я», и потому можно сказать: чем личность развитее, тем труднее под натиском позитивного мышления или «здравомыслия» вытеснить из нее идею Бога, как и вытравить само нравственное чувство. По сути, единственность наша — единственный гарант того, что нравственное чувство нам врождено, а не является навязанным общественной моралью внутренним цензором, которого при первом же удобном случае можно отринуть. В исторической же перспективе открытие единственности оказалось решающим событием, позволившим реализовать весь потенциал, заложенный в самом проекте под названием «Человек». Это стало тем альтернативным полюсом идентичности, стремясь к которому мы смогли однажды пойти «в рост», преодолевая всё, что бессознательно привязывает нас к почве и к семейным узам. Так, шаг за шагом высвобождаясь из родоплеменной архаики, человек становился субъектом истории, центром всего, что мы привычно понимаем под западной культурой с ее представлением о рыцарской чести, о благородной личности, с ее установкой на гуманизм и социальную справедливость.
ОН: — Неужели? А разве двадцатый век с его невообразимыми ужасами, декадансом, релятивизмом и «восстанием масс» не стал для вас примером краха гуманизма и полным развенчанием культа той самой «благородной личности»? Да и с какой стати человек должен нести это бремя высокого достоинства, если ему и опереться не на что, кроме как на сомнительную идею Бога, которого меньше всего можно заподозрить в благородстве, учитывая еще, что он, как всякий деспот, требует от своих верноподданных постоянных знаков любви. Разве не так?
Впрочем, доводы мои, по-видимому, нисколько вас не шокирует, иначе бы вы отказались от этих странных умственных экзерсисов, явно отдаляющих нас от намеченной цели. Ведь мы так и не сдвинулись с мертвой точки — с неизбежности вывода о том, что Творец, будучи единоличным правителем, слывет не только источником благ, но и несет полную ответственность за допускаемые им бедствия и катаклизмы, за все войны, злодейства и погромы, с которыми столкнулось человечество. Поэтому хитрая уловка объявить себя единственным самодержцем в мире — невероятный промах, непоправимо усугубляющий его вину. Разве не так? Это настолько очевидно, что я совершенно не понимаю, с какой стати вы решили приписать Ему пресловутую «всеблагость». Разве не наоборот, разве Он не остается по всем показателям верховным злодеем, не ведающим стыда?
Я: — Действительно, страшный опыт двадцатого века не оставил милосердному Богу никаких шансов предстать в парадных одеждах и «в славе», как Его любили изображать художники барокко. И мне понятно ваше нетерпение загнать меня в угол. Но не торопитесь, я теперь постараюсь вас убедить в том, что и всеблагость тоже следует из Его единственности — более того, что это логически не противоречит наличию в мире зла. Но для начала нужно теперь не выгораживать Его, чего вы ждете от меня, а как раз пойти на предельный риск: именно не побояться судить о Боге по абсолютному нравственному критерию, а не как принято — раболепствовать перед Его именем или, наоборот, подобно вам, дерзить или вовсе отказывать Ему в существовании. Нужно осознать главное: если Бог действительно является средоточием блага, то для него человек, наделенный свободой, развитым интеллектом, совестью, творческим воображением и любящим сердцем, никак не может служить «подручным» средством для осуществления каких-то потусторонних замыслов. Вот где притаилось зло: все мы, судящие только по себе — заложники обывательского сознания, заведомо лишающего Творца абсолютного нравственного совершенства!
От подобной позиции не свободны даже самые возвышенные умы, считавшие, что Бог, исполненный всех совершенств, вполне способен ради каких-то особых целей сделать человека подопытным существом, в прямом смысле «рабом божьим» и «мучеником за вечность». Если мы так думаем, то, отказывая Богу в человечности, заведомо отказываем Ему и в подлинном могуществе. Я уверен, что только поиски выхода из этого этического тупика способны вывести из тупика логического и открыть путь к решению парадокса теодицеи. Если Бог — некая сверхличность, то это не означает, что он тем самым выше всякой морали и Ему вообще не до нас, Он вроде как «по ту сторону» от наших насущных проблем. Скорее, наоборот, в Нем как раз с предельной остротой отзывается всё то, что происходит со всеми людьми. Необходимо понять, что Бог это не какой-то сверх начальник, взирающий на «людишек» из своего небесного офиса, а Первоначало, пронизывающее собою всё — в том числе и каждого из нас. Уже одни рассуждения о вечном, которые, я уверен, существовали во всех культурах, говорят о том, что мы каким-то образом причастны к вечности, несем ее в себе и потому не можем быть ею отторгнуты или безвозвратно «проглочены». Это значит, что в той мере, в какой в нас есть частица, искра Божия, в той же мере каждый причастен к Его божественной природе и неразрывно с Ним самим связан.
ОН: — Вы опять напускаете туману и уходите от ответа: так кому принадлежит авторство в создании всех видов зла, которым так щедро уснащено наше бытие?
Я: — Вот здесь я подхожу к главному, к тому, что поначалу и меня смущало, но чем дальше, тем больше я убеждался в правоте своих догадок. Итак, попытаюсь пройти по самому тонкому льду.
Давайте, наконец, не прячась от очевидности, примем тот факт, что зло, враждебное всему живому, действительно санкционировано самим Творцом. От этого никуда не деться, как в равной степени невозможно отказаться видеть в Нем источник абсолютного блага. Тогда мы вправе выдвинуть следующий тезис: Бог не желает зла, а лишь допускает его возможность, поскольку знает заведомо и наверняка, что зло будет одолено, отыграно и побеждено в итоге. А тогда единственный вывод, вытекающий из этой контроверзы, следующий: попустительствуя злу и по всеведению Своему понимая, насколько для человека мучительны его проявления, Творец тем самым и себе самому с какой-то целью осознанно наносит вред. Иначе Он оставался бы в полном неведении насчет того, что есть зло — ведь невозможно его распознать, если не испытать на себе.
Пусть о причинах остается строить осторожные предположения, и я их, разумеется, выскажу, но главное, что такое допущение во всех отношениях правомерно: если Он всесильный, то может себе «позволить» и такое — испытать себя самого, хотя бы раз воплотившись в человеке, отобразившись в человеке, недаром «по образу и подобию», и тогда мы вправе предположить, что всё, происходящее с нами, происходит и с Ним, наши радости — его радости, наши беды и страдания — его беды и страдания. Более того, я только в том случае допускаю существование Бога, если уверен, что Ему не только ведомо всё, происходящее с каждым из нас, но если Он и сам в полной мере это испытывает на себе. Иначе Его существование невозможно, немыслимо, поскольку во всех отношениях аморально.
ОН: — Не понимаю, что это решает? Как вы собираетесь дальше строить линию защиты, если всё еще надеетесь на его оправдание?
Я: — Прежде всего, я хочу показать, что теодицея перестанет быть неразрешимым парадоксом, как только мы поймем, что причина возникшей коллизии не логического свойства, а ценностного, точнее даже этического. Проблема в том, что даже многие из тех, кто пытается оправдывать Творца, фактически поддерживают обвинительный уклон, когда судят о Боге «по своему образу и подобию», тем самым заведомо приписывая Ему ту обывательскую пошлость, которая, помноженная на Его масштаб, обретает воистину катастрофический размах. Нет большего оскорбления для Высшего разума, чем полагать, что раз Он недосягаем в своем могуществе, то, как любой владыка, вправе делать с нами всё, что заблагорассудится — типичный образ барина самодура в глазах холопа.
А ведь достаточно отказаться быть «рабами божьими» и со всем нравственным максимализмом поверить в полную Его нравственную вменяемость, в Его абсолютное милосердие, как теодицея становится разрешимой, поскольку решение тогда переносится не куда-то в посмертие, где будто бы вершится наша загробная судьба, а, наоборот, мы вправе уповать на то, что всё происходящее с нами обретает смысл здесь и сейчас, по эту сторону жизни, поскольку Бог соучаствует с нами во всем и в каждый момент времени. Вот какие выводы напрашиваются, если до конца вникнуть в заповедь о единственности Творца, как и в то, что мы сотворены по Его образу и подобию — в том смысле, что сотворены тоже единственными, а значит, несем в себе многие важнейшие свойства, присущие самому Создателю. Здесь не умозрительная игра или, чего хуже, непомерная гордыня, здесь именно максимализм, диктуемый нравственным чувством.
Еще раз: парадокс теодицеи разрешим, если мы не побоимся поверить в Его истинное милосердие и перестанем скверно думать о Творце, допуская по недомыслию, будто человек может служить для Него расходным материалом, безответной живой куклой, с которой в неизвестных целях, а еще безумнее — в каких-то назидательно-нравственных, проделываются жестокие манипуляции.
ОН: — Извините, исходя из ваших же слов, претендовать на честь быть «по образу и подобию» может в какой-то степени и каждая курица, каждая корова или простейшая инфузория — чем их удовольствия или мучения так уж менее значимы?
Я: — Не лишено основания, но в той лишь мере, в какой в них развито чувство своей особости, уникальности — на своем, разумеется, уровне развития. Думаю всё же, что каждое живое существо знает в себе эту «точку», где рвется причинно-следственная связь — то есть зарождается свобода и индивидуальное поведение. Вы поэтому не найдете даже двух одинаковых листьев на дереве. Что уж говорить о животных с их сложными реакциями, с их способностью откликаться на ласку или испытывать боль. Всё это не должно быть безразлично Тому, кто является олицетворением жизни. Однако человек, по-видимому, в высшей степени концентрирует в себе всё присуще живому — всё наиболее прекрасное и творческое, как соответственно и всё самое звериное и демоническое. В любом случае он — не раб, не подневольный слуга, а наиболее креативное, сложное и свободное существо из всех наблюдаемых в природе. Стоит это принять, как откроется возможность сделать еще один шаг в направлении к Богу.
ОН: — Вам не кажется, что если бы ваш креативный Творец был на самом деле одержим творчеством, то уберег тех хотя бы, кого лично наградил незаурядным талантом, или пусть бы их великие творения. Сколько художественных сокровищ бесследно исчезло в результате войн или природных катаклизмов! Я уж не говорю о тех корифеях культуры и науки, кого в расцвете лет свела в могилу чахотка или на дороге сбила машина. Впрочем, о чем говорить, если самые творчески одаренные существа — дети, и те не удостоились милости.
Я: — Но и для Бога, я уверен, это всегда становилось подлинной трагедией и должно было повергать в глубочайшую скорбь.
ОН: — Приехали! Мало того, что у вас всем верховодит настоящий деспот, но еще и слабохарактерный невротик. Может, его и страх смерти мучает, если он настолько возлюбил человека? Но откуда ему, бессмертному знать, каково быть человеком, если самому не пришлось испытать на себе, что такое агония на больничной койке с продавленным матрацем?
Я: — Верно, окончательная смерть ему неведома, раз Он вечный источник жизни. Но, тем не менее, ему должно быть ведомо всё, что способен испытывать человек — и в первую очередь этот ужас от близкого дыхания смерти.
ОН: — Удивительная бессмыслица! Ладно, пусть сам он забавляется, сколько хочет, но, по-вашему, как можно было оставить человека один на один с этим леденящим душу призраком смерти? Разве кто-то способен совладать с таким ужасом? Никто и никогда. Иначе откуда бы у нас эта всегдашняя беспомощность перед лицом столь тягостного, хотя и, согласитесь, самого важного после рождения события? Ведь куда ни глянешь, везде свои придумки: одни на похоронах стенают и рвут на себе одежду, у других принято весело приплясывать и петь; где-то тела торжественно сжигают, где-то спешно зарывают в землю, а спустя какое-то время выкапывают кости и отмывают добела, где-то бальзамируют и прячут в особых схронах. Но всегда почему-то боятся обидеть покойника, пытаются его умилостивить, чтобы не навлечь на себя беды. А всё равно, сколько люди ни приноравливаются, сколько ни готовятся, смерть застает врасплох. И наши «гражданские» обряды не лучше: эти патетические завывания похоронного оркестра и показной китч бумажных венков, шелестящих на ветру! Или, по-вашему, это тоже божеское дело — весь этот карнавал смерти, покосившиеся надгробья и могилы «склизкие, зевающие»? Речь-то даже не о суеверном страхе, а, извините, об отталкивающих подробностях распада и о глумлении над всем человеческим, на что человек так и не смог дать сколько-нибудь «приличный» ответ. Разве не так?
Я: — Ну тогда и не нужно отводить глаза, а всё это предъявить Ему и напрямую спросить: как Ты такое допустил, как ты терпишь такое в созданном Тобою мире? Только тогда можно рассчитывать на ответ. Да, лишь признав Бога источником всего, что оборачивается для нас злом, мы способны постичь меру Его величия и смысл мистерии, которая разворачивается во всемирной истории, в нашей душе и имя которой — жизнь. Однако необходимо прежде усвоить: если милосердный Бог способен сознательно допускать зло, то зло это не может не быть направлено против себя же Самого. С какой стати, спросите вы, как такое могло прийти мне в голову? Если вам интересно, я готов продолжить.
ОН: — Но я одного не могу понять: вы строите свои безумные обобщения вокруг представлений о добре и зле, будто и на каком-нибудь Сириусе это такое же добро и зло. Но разве это не чисто человеческие категории, привносимые нами и навсегда с нами же исчезающие? Какое дело солнцу: засуха на земле, от которой гибнет всё живое, или, наоборот, льют весенние дожди, орошая поля и виноградники.
Я: — «Что и говорить, если даже такое божество, как солнце, плодит червей, лаская лучами падаль…». Вот видите, вы не так далеко ушли от Шекспира. Однако можно посмотреть на всё иначе: если на Сириусе или в соседней галактике наши метания ничего не значат, разве это не поднимает до невероятности значимость всего, что с нами происходит здесь? Пусть даже это чисто земная аномалия, и просто «пробило» природу в некой точке посреди ничего не подозревающей Вселенной, разве этот «скандал на весь мир», который человек устроил, не придает особую ценность человеческому разуму, соизмеримому, по сути, с самим Творением?
ОН: — Не аномалия, а порча. Говорите прямо: человек — это неудавшееся животное. Почему-то животные в своем естестве всегда прекрасны, а человек в откровенно животных проявлениях — существо прямо скажем отталкивающее. Отсюда, видимо, все наши застарелые комплексы и нелепые представления о греховном, отсюда и ханжество, которым прикрывается распущенность, и всё наше неумение предаваться радостям жизни.
Я: — Думаю, всё сказанное, как и досадное осознание причастности нашей к мировому злу, проистекает не от изначальной «порченности», а от того как раз, что нам дана альтернатива — знание истинно высокого, рядом с чем наше животное начало в своем откровенном виде выглядит иной раз вызывающе. Но для того и требуется надежная система воспитания с четкой иерархией понятий, чтобы мы не рухнули в непотребство. Конечно, к крокодилу или зайцу не приложимы категории добра и зла. Как и к ангелу, очевидно. Однако вы правы: необъяснимым образом мы оказались слишком сложны для простых и естественных радостей.
ОН: — И значит благодарить за эту непостижимую и мучительную «аномалию сложности» следует всё того же Всевышнего, который тоже, судя по тому, что вы сказали, не в восторге от своей затеи, и даже временами от этого страдает не меньше нашего. Так? Но тогда всё хорошо: любое зло творится во благо…. и что, этот божественный абсурд вас ничуть не смущает?
Я: — Меня больше смущает непроходимый пессимизм, в который вы всё основательней погружаетесь. А это значит, что самое время вернуться к теме единственности и, наконец, представить себе, что между человеческим «Я» и «Я» Божественным существует реальное отношение соощущения, когда Он сам через нас и вместе с нами испытывает схожие аффекты: как и мы, тоже печалится, страдает или, наоборот, радуется и ликует, если эти чувства отвечают Его высоким запросам. И здесь уже не так важно, первородная ли греховность, свобода воли или роковое стечение обстоятельств — причина наших собственных бед, главное тогда, что зло — не просто шоковое средство, к которому в гневе прибегает зачем-то Всевышний, а, видимо, сознательно выбранный способ внесения в мир, именно через человека, определенного диссонанса. Мы можем только догадываться, с какой целью это делается, но, повторяю, в отношении неразрешимой поначалу антиномии сосуществования абсолютного блага рядом с абсолютным злом, неожиданно просматривается решение: зло с нравственной точки зрения может быть оправдано лишь при условии, если всё совершающееся в мире, в том числе и самое страшное, Творец причиняет самому же себе, страдая вместе с нами и в себе же каким-то образом это примиряя.
Почему оправдано? Потому что тогда может наполниться особым значением всё, что обычно представляется нам бессмысленной пыткой, когда мы остаемся один на один с нашими кошмарами. Другими словами, если быть сколько-нибудь уверенными, что всё с нами происходящее находит отклик где-то в высших сферах, тогда, какой бы драмой ни обернулась человеческая жизнь, она уже больше не дурной сон, не наваждение, потому что человек не может не быть услышан. Мне трудно подыскать слова для определения всего этого катастрофического «жанра»: трагедия, мистерия — не знаю, но, по крайней мере, не божья забава, не дьявольская игра, не безнадежно пошлый фарс. Тогда даже в минуту отчаяния может не покидать надежда, что в той мере, в какой в нас есть что-то от вечности, мы вправе верить, что каждый на земле является действующим субъектом мировой мистерии, а не только материалом в безжалостной игре мировых стихий. Я понимаю, насколько безумной вам представляется моя версия, но я убежден, что только так, когда мы осознанно принимаем идею причастности к божественной природе, а не только ищем знамений свыше или обращаемся к магии чисел, мы способны побороть в себе чувство богооставленности — причем независимо от того, как это могло бы выглядеть с точки зрения догмата о Троице или истории вознесения пророка Магомета на небеса.
Но ради этого мы просто обязаны квалифицировать зло без всяких лукавых оговорок, по полной правде — именно как безусловное зло, то есть зло, воспринимаемое таковым даже где-то на Сириусе; и если человек испытывает нестерпимые страдания, тут не может быть никаких релятивистских «поправок» типа того, что с другой стороны это лишь умаление добра или восстановление кармического порядка — ибо и для Творца это тоже зло, полномерное и им, безусловно, отвергаемое. И больше никаких бесстыдных разговоров о пользе страдания, никакого елея, никакого умиления при виде чьих-то мучений, что не может не наводить на подозрения о скрытой жестокости, а то и некрофилии.
Только так, когда осознается подлинный масштаб бедствия, в нас пробуждается жажда обрести альтернативу — полюс абсолютного добра, причем еще при жизни, а не где-то в загробном послесловии. Вот почему так необходимо называть всё своими именами. Зло нельзя редуцировать, особенно сводя его бесстыдно к неизбежным «издержкам» на пути социального прогресса, что безнравственно по отношению к несметным на этом пути жертвам и «зряшным», «неучтенным» жизням, а главное — оскорбительно для Творца, поскольку допускается, будто Он хочет и может разрешить себе любую степень жестокости — мол, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Если уж прощать зло, то дикой стихии, слепой разрушительной, либо человеку, который иной раз не знает, что творит, но нельзя прощать ни себе, ни тем более Богу, поскольку Он-то точно всё знает и ведает. Верить в Бога и прощать Ему зло — значит умалять Его мощь и унижать тем, что Он нравственно невменяем.
Поэтому всё то, что для нас является злом, должно и Богом восприниматься как зло, разве что с «поправкой» на Его бессмертие, к коему, впрочем, и мы также причастны, если находим в Нем свое продолжение — бессмертие далеко не гипотетическое, а реально ощущаемое во всем, что составляет для нас высшую ценность. Разве вам не знакомо это окрыляющее чувство, когда вы по-настоящему влюблены или наслаждаетесь искусством? В сущности, вера в единственного Бога — это, прежде всего, уверенность в том, что у всего, ощущаемого нами как великое благо, есть в нетленном мире абсолютный гарант и защитник.
ОН: — Должен вам сказать, что картина, которую вы сейчас нарисовали, пострашнее будет, чем макабрические фантазии Босха или фильмы ужасов Хичкока. Я уже не говорю о безнадежно пессимистических пассажах Шопенгауэра, сводивших с ума Толстого. Ваш Бог-монополист не способен решить ни одной проблемы. Он сам становится проблемой! Что это за шизоидного Творца вы изобразили? Он что, страдает раздвоением личности или приступами мазохизма?
Я: — Как вы догадываетесь, я ожидал этого вопроса, понимая, насколько вы будете шокированы всем сказанным. Только это еще не всё. Есть одно свидетельство, в историчность которого вы наверняка не верите, как в полной мере и я сам, хотя и верю, что как новое религиозное учение оно явилось одним из поразительных откровений в человеческой истории, став основой всемирной религии и, в конце концов, основой исторического прогресса. Именно откровение, а не заговор правителей и жрецов, желающих обуздать дикий народ, поскольку никакое нормальное воображение не может представить всесильного Владыку мира столь бессильным, столь поругаемым и не способным справиться с несколькими римскими легионерами, вершившими позорную и мучительную казнь на кресте. «Если ты Мессия, то почему не спасешь себя сам?» — злорадствовала толпа. Так вот, величайшим свидетельством того, что Творец способен не только нам сопереживать, но и полностью входить в наше положение, стало то, что по свидетельствам евангелистов свершилось на Голгофе. Думаю, в этом состоит смысл происходившего тогда: Бог показал, что Он не только слышит нас, но что Он и сам готов пройти через все тернии, все испытания, выпадающие на долю человека. Именно Голгофа стала демонстрацией солидарности Бога с людьми и предельно наглядным свидетельством того, что человек действительно сотворен по Его образу и подобию, раз и Творец уподобил себя человеку — то есть каждому из нас, причем, в состоянии самом для нас критическом, когда мы не только страдаем физически, но и крайне беспомощны и бесконечно унижены.
ОН: — Ну да, «блаженны нищие духом» — все эти неудачники, лузеры, сирые и убогие. А вам не кажется, что вы этаким образом буквально обожествляете всё наиболее никчёмное, бесталанное и возводите серость в ранг высшей добродетели? Не отсюда ли все эти умильные до оскомины «рабы божьи», юродивые, кликуши и святые старцы, не отсюда ли страстотерпцы всех мастей, во власяницах и с веригами на шее, или всевозможные «странные люди» и простецы, живущие на подаянии, как и всякого рода «нищенские ордена», владевшие, между прочим, несметными богатствами: но как было не пограбить тех, кто попадался под руку по дороге к Гробу Господню? Крестовый поход — дело богоугодное!
Я: — Для человека средневековья, будь он из простонародья или из благородного рыцарского сословия, подобное соединение крайностей — жестокости и желания приобщиться святых тайн — дело обычное. Думаю, и мы бы мало от них отличались, если б не колоссальные усилия духовных лидеров, мыслителей, поэтов и художников, пытавшихся постичь и примирить в себе эту амбивалентность человеческой натуры. Ренессанс, эпоха Гуманизма, эпоха Просвещения, Декларация прав человека, мужественное отстаивание идеи прогресса — потребовались усилия многих поколений, чтобы мы с вами обрели «человекообразный» вид и могли теперь дружелюбно спорить на эти темы.
ОН: — Ну да, чтобы мы не сморкались сегодня в скатерть и в спорах о какой-то сомнительной истине не сразу бы кулаком давали в зубы, понадобилось предварительно угробить тысячи поколений. Или вы верите в некую непогрешимую Истину с большой буквы, ради которой никого не жалко — лишь бы сияла улыбка на нашем лице при ее упоминании?
Я: — Абсолютная Истина, если речь о ней, не может одного беспричинно втаптывать в грязь, а другого возвышать и одаривать благами. Не потому, что ей не до того. В Евангелии сказано: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Эти слова обращены к каждому, для кого истина — не пустое слово. Хотя кто-то подумает, будто здесь под истиной понимается нечто эзотерическое, что по силам лишь великим учителям мудрости. Но не может быть истины для избранных, как и истины несправедливой. Однако человек так устроен, что пока он бодр и успешен, он редко бывает озабочен ее поиском. Лишь дойдя, подобно Иову, до края отчаяния, он в беспросветной тоске обратит взор к небу, и его вопросы в какой-то момент обретут предельный накал и масштаб — и тогда только он слышит голос Творца, голос истины. Нет, здесь не убожество, не потакание невежеству и темной массе, а великая революция сознания — новый критерий истинности, согласно которому то, что не принимает во внимание жизнь каждого человека, оказавшегося на самом краю — и даже не так важно по своей вине или нет — не может быть истинным. Вот где самое острие нового видения, нового ценностного измерения, пришедшего с Библией и в корне изменившего мир — изменившего настолько, что сегодня с этим критерием каждый вправе подойти и к Творению, и к самому Творцу в надежде обрести то, что «сделает вас свободными» — обрести истину.
Вот видите, я вовсе не превратился в проповедника с катехизисом в руках, как могло показаться. Наоборот: я думаю, что христиане наверняка сочли бы за ересь мои утверждения, будто Бог, причиняя зло самому же себе, мучаясь тем же самым, что и мы, невероятно поднимает статус человека на уровень вселенской значимости. Они сочли бы смертным грехом такую гордыню. И все же, я убежден: если мы настолько интимно связаны с Творцом, что единственность нашего «Я» находит свое продолжение в Его единственности, то и участь человека любого, независимо от его верований, находит свое продолжение в Боге — то, что Его радует, становится и нашими радостями, то, что в Его глазах беда, прирастает и для нас бедой. Если Бог действительно отличил нас однажды своим откровением, Он так и должен был явиться к нам: не только в сиянии славы, но и в образе человека гонимого, оказавшегося в самой нижней точке своего земного существования. Без этого великий акт сотворения жизни, и особенно разумного человеческого существа, обреченного «в поте лица своего добывать хлеб и в муках рожать детей», стал бы вызывающим и просто аморальным поступком со стороны Создателя. Поверьте, никакой император Константин, никакая церковная власть не смогли принудить людей поклоняться такому невменяемому Божеству, и, наоборот: никогда бы Младенец, рожденный в пещере, беспомощный и гонимый, не сделался бы для множества поколений воплощением несокрушимой мощи и милосердия, и в Его честь никогда бы не возводились грандиозные соборы, требовавшие огромных средств и виртуозной строительной техники, не почувствуй самый обычный человек великой правды в евангельской истории.
ОН: — Я всё-таки не пойму, вы говорите обо всем этом, как будто верите, что в Новом Завете отражены реальные события.
Я: — Да, реальные, но не в смысле буквальной историчности Христа как воплощения Бога, а в том, что рождение идеи богочеловека и Спасителя кардинально изменило самого человека. И это было настоящее чудо, но в том именно смысле, в каком подлинным озарением можно считать открытие свойств огня, металла или возможности оперировать с числами. Каждому такому великому прозрению издавна придавался мистический смысл — возьмите союз пифагорейцев, хранивших как сакральное знание открытия в области геометрии, гармонии, астрономии. Но по своему масштабу и последствиям евангельское озарение не сопоставимо ни с чем — недаром оберегается человечеством как величайшая святыня. Реально же, как нам известно, существовала иудейская секта, проповедовавшая учение о грядущем Мессии — знание, полученное через пророка и мученика Иисуса. Однако даже если он был «лишь» харизматичным проповедником, а не реальным вочеловечиванием Бога, всё равно изменившая ход истории победа его учения — победа в человеческом сознании вечной жизни над смертью — делает это явление не менее реальным событием, чем военные победы римских полководцев и императоров.
ОН: — Кстати, разве ваш праведный Учитель не сказал также: «не мир я принес, но меч»?
Я: — Думаю, что это не про будущие Крестовые походы, а, наоборот, подразумевалось, что этот меч поднят для борьбы с нашими собственными демонами и предрассудками, мешающими разглядеть главное: Бог гораздо ближе к нам, нежели может казаться — Он в нас самих. Только в этом ключе можно понять слова Элии Визеля, подростком испытавшего все ужасы концлагеря. Он выразил небу свое негодование по поводу сверстника, свидетелем казни которого невольно стал: «где же был Бог, когда свершалось ужасающее преступление?» И вдруг сам себе же ответил: «Бог и был этим казненным мальчиком». Понимаете, что это значит? — либо милосердный Бог навсегда дискредитировал себя в момент этой казни, умер для веры, его теперь больше нет, да и, выходит, не было никогда; либо Он принял эти испытания на Себя тоже, пройдя вместе с казненным через этот ужас. И тогда мальчик, по крайней мере, не остался один на один со своим кошмаром, как не должен остаться никто из людей в самый ужасный миг — поскольку есть Он, стоящий над смертью.
ОН: — И вам не страшно об этом говорить, и вы во все это верите? Разве вы не понимаете, что Голгофа — это фантазия отчаявшихся людей или фанатиков изуверов? Неужели можно найти высокий смысл в том, что человек уже при рождении был приговорен к казни, если учесть, что каждому рано или поздно уготованы смертные муки? И к чему тогда эти крестные подвиги Всевышнего, если Он сам же призвал Князя тьмы, сам же учредил смерть и при этом издевательски наделил людей острым умом и воображением, отчего все откровения смерти стали еще невыносимее? Чем же Бог облегчил участь этого несчастного, если, как вы говорите, находясь тут же, рядом с этим подростком даже не попытался ему помочь?
Я: — Вы не совсем поняли, Он был не С этим подростком, а был ЭТИМ подростком. Столь грамматически ничтожное различие вмещает в себя громадный смысл, указывая на последнюю непроницаемую перегородку, остающуюся между Богом и нами, и устраняемую тогда лишь, когда божественное и человеческое приходят в непосредственное соприкосновение — а это именно наиболее уязвимый момент существования. Вот что символизирует собой Голгофа, где на все горькие и справедливые упреки в свой адрес Создатель дал людям единственно возможный ответ: Он выказал способность принять на себя полную меру всего наиболее страшного, что выпадает на долю человека. Как говорится в послании апостола Павла, Он «уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек». Так неужели всё это ради искупления людских грехов, в чем нас уверяют церковники, как будто Он не мог, как бывало прежде, назначить выкуп в виде сотни баранов или быков, дабы пощекотать ноздри свои дымом от жертвенников? С какой стати нужно было самому, приняв образ человека, делаться мучеником и сакральной жертвой?
Конечно же, в принципе любая религия сопряжена с трагическим чувством, поскольку обостряет ощущение нашей бренности и отгороженности от вечной жизни заветным порогом — таинством смерти, а она в этой своей роли заслуживает глубокого к себе уважения. Здесь, у ее врат, неуместна никакая фамильярность, никакая карнавальная бравада — подобает лишь величественный чин отпевания, поминальная тризна или реквием, вошедший благодаря Моцарту, Верди, Брамсу в мировой концертный репертуар. К слову, сам Моцарт, насколько вы знаете, был похоронен в общей могиле, будто последний бродяга. Тут есть о чем подумать.
ОН: — Еще бы. Вы снова сворачиваете на излюбленную тему: божество в положении ничтожества. Не знаю, насколько это способствует обожествлению великого музыканта, но, сдергивая с небес Творца и погружая его в нашу юдоль страданий, вы и небеса оставляете без присмотра и на земле устраиваете невероятный переполох. И всё ради чего?
Я: — Думаю, что мною движет желание перехитрить смерть, отобрав у нее ключи от вечности. Не по чину ей — слишком уж глумлива. Потому вовсе не нужно дожидаться ее прихода, чтобы понять главное: если «Я» Бога находит свое продолжение в человеческом «Я», и если, наоборот, человек находит свое продолжение в Нем, то благодаря этой невероятной встрече мы еще при жизни обретаем бессмертие, и оно — не только предмет веры, но вполне способно проявить себя как очевидное знание, мало имеющее сходство с чем-то потусторонним и мистически устрашающим. Достаточно доверять свидетельствам внутреннего опыта, чтобы убедиться в этом. Мне кажется, полнее всего знание это находит отображение в музыке, будь то монументальная месса, ноктюрн или тоскливая ямщицкая песня. Вам наверняка знакомо это преобразующее воздействие даже самой нехитрой мелодии: когда вдруг расступается горизонт и приходит, несмотря на все невзгоды, ясное и убедительное осознание причастности нашей чему-то безграничному и нетленному.
ОН: — И всё же вам не удастся так просто убаюкать меня своими песнями. Как вы не изощряйтесь, все равно не уйти от этого безнадежного противоречия, возникающего в связи с идеей монотеизма. Судя по вашим словам, единоначалие в лице Бога должно быть гарантией того, что добро в надежных руках. Но разве не наоборот? Если ваш Бог, ведая цену абсолютного блага, предпочитает иной раз терпеть абсолютное зло, разве не становится от этого еще страшнее? Разве кошмар нашей жизни не безнадежнее от того, что по какой-то непонятной прихоти «вечный источник блага» низвергается на наши головы неисчислимыми бедами? Это с Зевса или Сатурна взять нечего — не ведают, что творят. А ваш-то правитель ведает, как вы полагаете. И выходит, вечный поборник добра выбирает зло — вот в чем ужас: зло тем самым одерживает еще более сокрушительную победу во вселенском масштабе, поскольку с неизменным успехом склоняет на свою сторону самого Творца.
Я: — Справедливо. Но именно поэтому следует признать, что, поскольку приход монотеизма на смену язычеству был совершенно неизбежен, неизбежна была и Голгофа, где Творец показал, что Он не только «всё ведает», но и что свой нравственный императив Он в полной мере способен приложить к себе самому. А это значит, в полной мере разделить судьбу своего Творения.
ОН: — И какой для себя вывод должен делать человек? Не грешить, не богохульствовать, поскольку и Богу досталось — пришлось, мол, и ему расплачиваться за несовершенство собственного детища? Но опять же, разве не наоборот: всё теперь дозволено! Если в древности верили в существование таких уголков, вроде Аркадии или Эдема, куда злые силы не могли проникнуть, так как эти благословенные места находились под покровительством местных богов, то от самодурства вашего Саваофа уже не укрыться нигде — весь мир сделался его вотчиной, где он безраздельно правит, как сумасброд, от которого можно ждать чего угодно. Хочет — спасает насильников, хочет — калечит и убивает невинных младенцев. А мы, видите ли, должны умиляться и из последних сил следовать дорогой добра? Чего ради, если миром правит деспот, а в нем как раз и нуждается опутанная суевериями темная масса. И где он тогда ваш «штучный» человек с его неповторимым «Я», ради которого, как вы утверждаете, пришел Спаситель? Такой, извините, психотип, как у этого всевышнего автократа, именно и распаляет в людях самое скверное и подпитывает изуверские наклонности, из-за чего не знающий границ деспотизм регулярно, в угоду фанатичной толпе, воспроизводится на протяжении всей человеческой истории.
Я: — Вы во многом правы: любое желание присягнуть «общему делу», утопив свою самость в коллективном действии, если это не связано с естественным чувством солидарности, рано или поздно требует репрессий и ритуального заклания — это, считайте, закон самоорганизации архаически устроенного общества. И действительно, получается, что единый Творец выступает в двойственной роли. С одной стороны, Он помог человеку оторваться от коллективной матрицы, противопоставив стадному чувству мощный инстинкт индивидуации — живущую в каждом потребность осознать себя неповторимой личностью. Здесь Творец выступает избавителем от деспотизма родоплеменного сознания: для Него как для Пастыря отыскать и спасти одну овцу не менее важно, чем сохранить всё стадо. Однако всякий раз образ карающего «Пантократора» возрождается в массовом сознании в периоды социального стресса — в годы неурожая, эпидемий, стихийных бедствий, когда в пораженном страхом человеке пробуждаются стадные инстинкты, неизменно требующие авторитарной власти и, конечно же, ритуального заклания — только так, окропляя всех невинной кровью, можно поддерживать в людях пещерные страсти. Вот отчего спасительная жертва на кресте так часто оборачивалась в свою противоположность, привораживая к себе всё самое темное и реакционное, когда невинная кровь Бога становилась особенно вожделенной — ведь она в глазах толпы становилась оправданием приступов «праведного гнева» и оргий насилия в отношении всех «виновных перед Богом». Без такой «подпитки» снизу не было бы ни истребления «неверных», ни процессов над «ведьмами», не было бы преследований иноверцев и костров инквизиции, как, наверное, и всех известных в поздние времена погромов, вспышек «классовой борьбы», реванша фундаментализма и массовых репрессий с лагерями и расстрельными рвами — их до сих пор еще продолжают находить.
Однако вы почему-то воспринимаете Бога только со стороны этих атавистических представлений, хотя сами принадлежите абсолютно другой среде. Я, кажется, сейчас начинаю понимать всю разницу между моей и вашей позицией: вы судите о Боге как бы со стороны, как о силе, стоящей над Творением. Отсюда Творец для вас вздорный деспот, а теодицея — логический тупик. Тогда как для меня конфликт лежит не в рассудочной сфере, а скорее в эмоциональной: мне никак не удается примирить в себе представления о ценностях с жестокой реальностью. И если есть для меня решение, то оно только в том, чтобы открыть Бога в себе самом, испытав, пусть и в разрез со всякой логикой, невероятное сочувствие ко всему, что произошло с Ним на Голгофе. Да, образ жестокого Демиурга, который вам рисуется — такое же неизбежное следствие единственности Бога, как и Его Голгофа, поэтому и в истории они всегда противостоят друг другу: одно — Его проекция в массовое сознание, другое — Его воплощение в каждом индивидууме. Но тогда выбор в конечном итоге остается за нами: либо мы заведомо уступаем страху и присоединяемся к толпе, улюлюкающей и требующей расправы, либо, вопреки всему, каждый через сочувствие и восхищение Его подвигом открывает в себе свою причастность к Его благодатной природе. В некотором смысле судьба Его «проекта» зависит от нас с вами. Выбор стороны добра при очевидном верховенстве зла — это, по сути, и есть акт религиозной веры, даже в случае, если человек позиционирует себя в качестве убежденного атеиста.
ОН: — Час от часу не легче! Хороший выбор вы оставляете людям: между деспотией и Голгофой!
Я: — Но речь всё же о другом выборе. Если мы будем воспринимать единственность каждого человека как высшую ценность, входя тем самым «в резонансе» с единственностью Бога, то это не только придаст нам душевные силы, но и станет ключом к решению многих парадоксов существования. И наоборот: стоит только изменить этим ценностям, как мы неизбежно теряем защиту: в нас начинается брожение, и мы оказываемся во власти массовых фобий и оживших духов земли с их смертоносным дыханием и всем, что отдает хтоникой и коллективным блудом.
ОН: — Сдается мне, что вы не всё договариваете. Отказывая Иисусу в том, что он истинный Мессия, но признавая в нем реально жившего в Иудее религиозного реформатора, вы, кроме прочего, еще и ловко отводите в сторону обвинение в адрес еврейского народа — обвинение, конечно же, бредовое, будто иудеи отвергли истинного Бога, предав его на поругание и смерть.
Я: — Возможно, этот мотив исподволь присутствует. Однако, если говорить о чувстве вины перед Богом, то оно, я уверен, и сегодня ведомо большинству людей: каждый, кто по незрелости, малодушию или вполне сознательно предает общие для всех ценности, идет тем самым и против Бога — распинает Его в себе. Это чувство вины перед попранной истиной и есть основа того, что мы называем совестью. И тут уже, вправду, нет «ни иудея, ни эллина».
ОН: — Судя по вашей цветистой риторике, вам просто в радость лелеять в себе это чувство вины неизвестно перед кем. Но если вы напираете на совесть, то хотелось бы знать, наконец, как вы собираетесь решать всё тот же простой донельзя вопрос — повторяю его снова: почему, если по идее Бог ваш не лимитирован ничем, никакими условиями, никакими богами-соперниками, если сам он абсолютно свободен в своем выборе, почему же он предпочел такой бессовестный сценарий: сам всё устроил, сам собой остался недоволен и при этом, растравляя души людские чувством вины, сам ниспослал на наши головы неисчислимые беды, ну, а еще сверх того, как вы утверждаете, сам же против себя направил всё это зло. Но это-то с какой стати, вы можете объяснить?
Я: — Тут, пожалуй, заключается наиболее трудное для осмысления, и все же у меня есть гипотеза. Видите ли, Бог, как ни странно, тоже кое в чем ограничен, тоже не всё может: Он не может не быть, и это единственное, что не подвластно Богу. Бог — и есть само Бытие, осознающее себя.
Но тогда, по аналогии с нашим единственным «Я», которое мы осознаем лишь взаимодействуя с «Не Я», с бесконечным многообразием вокруг нас, и Бог тоже утверждается в своем абсолютном бытии через противоположное — через то, что существует во множестве, что поэтому подвержено разрушению и перестает однажды существовать. Да, Бог вечен, Он вне времени, но для тварного мира Он создает время и временное и, следовательно, наряду с рождением и развитием, закладывает механизм распада и неизбежность смерти, которой, конечно же, сам не ведает. Иными словами, свое бессмертие Он каждый раз осознает лишь косвенно, то есть посредством разрушительных процессов, происходящих во плоти смертного человека и отраженных в его сознании в моменты страдания, страха, отчаяния или фрустрации.
Вы спросите, почему именно человеку даны такие странные привилегии, которые, безусловно, похожи больше на наказание и проклятие? Не надейтесь, тему наказания за первородный грех я и сейчас затрагивать не собираюсь. Однако я действительно думаю, что у нас тут особая привилегия и даже миссия. Попытаюсь объяснить.
ОН: — Подождите, почему вы одни слова из Библии трактуете вполне буквально, а другие — про тот же первородный грех — вызывают у вас явное недоверие?
Я: — А потому, что я вижу здесь почерк жрецов, которые, в отличие от великих пророков, оставивших вдохновенные тексты, озабочены были одним: создать у соплеменников гнетущий комплекс вины — так легче ими манипулировать. Но я уверен, что самому Богу, от лица которого жреческая каста пыталась вещать и увещевать, это не нужно, Он избрал человека для иной участи, гораздо более высокой, хотя и очень нелегкой. Я исхожу из того, что во всем наблюдаемом мире это экзистенциальное напряжение, формулой которого стал гамлетовский вопрос «быть или не быть», ведомо только нам, людям. То есть высшая форма жизни и сознания, какую в природе представляет наш с вами вид хомо сапиенс, предполагает почему-то непременную рефлексию вокруг оппозиции жизнь и смерть, хотя за всю человеческую историю никакого удовлетворительного объяснения этой аномалии, когда человек с таким упорством бьется о глухую стену, так и не появилось. Подобными мотивами, однако, пронизана вся мировая культура, словно человечество пытается решить некую сверхзадачу, в отношении которой не так даже важно получить ответ, как поддерживать само напряжение, заявленное в вопросе о месте человека в этом непостижимом мире. Иначе, почему именно людям дано осознавать эту драму противостояния жизни и не-жизни, бытия и небытия как основную доминанту существования и вопиющий ценностный диссонанс, который мы вечно силимся разрешить, то уходя с головой в эзотерику, то посредством художественной фантазии, но всеми способами стремясь расколдовать, разорвать порочный цикл, где смерть фатально встроена в круговорот жизни. Хотя кому-то покажется, что именно в этой дурной бесконечности, где в монотонном коловращении жизнь и смерть хватают друг друга за пятки, явлена высшая гармония и мудрость природы.
Нет, никакой гармонии здесь нет, со смертью невозможно мириться, не должно. Никакое помпезное убранство пантеонов, величие пирамид и благоговейная тишина усыпальниц не способны скрыть правду: смерть страшна не столько своей необратимостью, сколько тем унижением, которому она подвергает человека. Никакой элегической поэзией, никакими «опавшими листьями» не облагородить, не прикрыть похабной ухмылки черепа и клацания костей. Только библейскому Богу оказалось под силу развенчать иллюзию всевластия загробных сил и отвратить нас от бесчеловечных ритуалов, рождая в наших душах догадку о том, что небытие — лишь внутри Его неотменимого бытия, где смерть — только частный, «тактический» момент, присущий органической форме существования, тогда как доминирующая в мире стратегия — самоизлучение животворной сущности Творца, спасающего нас от небытия. Бог — самое живое, что есть в нас. Если так, то смерть неизбежно теряет силу безусловного и необратимого зла, хотя и остается для человека как биологического существа злом несомненным. Вот почему казнь Иисуса на кресте — особенно если видеть в нем воплощение Бога — явилась актом подлинного сострадания человеку, а не иллюзионом, где Творец, будто ловкий «факир», вскоре воскрес и в доказательство своих сверх способностей предстал перед публикой целым и невредимым.
Вы опять же спросите: зачем Ему причинять себе зло? Ведь поистине это отдает безумием! Но давайте осторожно предположим, что подобным образом — как бы делая себе же на зло, Он экспериментирует с небытием, словно пробует найти свои пределы, то есть испытывает свою беспредельность на человеческом опыте, именно так: наблюдая и проживая вместе с человеком как процессы физического распада, так, по-видимому, и душевного — все эти состояния страха, жгучей зависти, растлевающих соблазнов, все злокачественные проявления низости, пошлости, жестокости. Не может Он не знать, что творится в наших душах. И если так, то наша жизнь — это, возможно даже, постоянное Его умирание в нас. Но если в человеке Бог умирает, то непременно чтобы с человеком же и возродиться, тем самым воссоединившись с самим Собой и восстанавливая мировую гармонию. Иными словами, Бог познает свое бессмертие через свою гибель в каждом смертном человеке, но одновременно и спасая каждого человека, только не от каких-то немыслимых адских мук, не от кары небесной, а спасая от небытия, от превращения в бессмысленное ничто.
ОН: — Ну, то есть ему без нас просто не выжить, и потому он «засеял» нами одну из планет, чтобы нами же питаться и поддерживать свой жизненный тонус — и чем не тот же Кронос, пожиравший одного за другим собственных детей?
Я: — Я же говорил вам, что это только робкие мои предположения. Но всё-таки еще раз: Бог исследует возможность небытия как бы отраженно, через природу человека, который по причине своей душевной развитости и неприятия «окончательной смерти» способен на своем опыте дать Богу наиболее адекватный опыт отторжения небытия. Бессмертный Бог бытия посредством опыта смерти, через который проходит человек, как бы моделирует небытие (как и мы, наверное, моделируем это на своем уровне, обращаясь к языку искусства). Но это и верный признак того, что человек предельно близок Богу — ведь нам доверено нести это бремя: предоставлять Богу возможность испытывать максимальное отчуждение от самого себя, и всё ради бесконечного самоутверждения. Тем самым мы продолжаемся в Нем, как и Он осуществляется в каждом из нас, поэтому мы важнейшая часть Его великого проекта. По крайней мере, можно утверждать: если в Боге заключена животворная сила, то она никогда не должна убывать, и потому стратегия Его состоит в том, чтобы всегда «отыгрывать» жизнь у вещества, которое, будучи лишь чем-то производным от Него, Его эманацией, подвержено распаду. Бог не может не спасать жизнь. Здесь подлинная синергия: если мы с Ним заодно, то и Он в ответ наполняет нас бытийной силой, помогающей одолеть страх смерти — поскольку Он в нас, а мы в нем.
ОН: — Что-то мне ваша словесная эквилибристика напоминает, приходит на ум одно лукавое слово: «диалектика», согласно которой всё содержится во всём, и вечно одно перетекает в другое, и, главное, тем ближе к некому Абсолюту, чем больше абсурда и противоречий, в чем вы, судя по всему, вполне преуспели. Но только скажите, какое дело обычному человеку до ваших экзерсисов, какая ему разница, по какой причине мается Всевышний — от скуки, от зловредности или от невозможности кануть в «окончательное небытие»?
Я: — На мой взгляд, главное состоит в том, чтобы не ощущать бессмысленности всего происходящего с нами. Вы прекрасно знаете, на какое самопожертвование способны люди, когда ими движут высокие побуждения. Думается, что как раз один из самых сильных мотивов, которым может определяться наше поведение — это осознание своей великой привилегии: быть на стороне добра, что и означает верить и помогать Богу. Если видеть в этом свое призвание, тогда само собой приходит понимание того, что Всевышний не может сделать человека объектом своих манипуляций, иначе это перечеркнуло бы все прочие, им же установленные нравственные законы. Наоборот, осознание своей избраннической роли дает человеку право видеть себя в планах Творца действующим субъектом — не средством, не смердом и рабом божьим, а важнейшей частью, или, если хотите, клеткой целостного бытийного Организма. А подобную миссию можно доверить только тому, что ближе всего к Богу и создано «по образу и подобию».
Если Творец, в самом деле, назначил нас на эту роль, тогда Он по-настоящему нуждается в нас, поскольку мы помогаем Ему противостоять распаду, ориентируясь на тот внутренний компас, которым Он нас оснастил — на чувство ценности, а им отмечено всё, чем мы дорожим. Когда читаешь Ветхий Завет, не оставляет ощущение, что не только человеку необходим Бог, дабы жизнь наполнилась смыслом, но и Ему необходим человек, преданный и верящий в способность воссоединиться с Ним, с великим Целым. Мне даже кажется, что Создатель не только подвергся мучительной казни, но и сам казнился перед людьми за то, что выбрал их для этой особой роли — великой, но и невероятно трудной. Это был акт подлинного покаяния и сочувствия людям. Поэтому после Голгофы мы больше не можем сетовать на Него и осуждать Его в гневе, поскольку обрели подтверждение неразрывной связи с Ним. А главное, у нас тогда есть основание выйти из этой бессовестной сделки, которая многими верующими считается в порядке вещей: покупать свое бессмертие и право вкушать безмятежный покой ценой нечеловеческих страданий. Нет, наше бессмертие начинается уже здесь, в этой земной жизни, поэтому никаких страхов — жизнь действительно великое благо, если по-настоящему поверить, что благо лежит в основе мироздания. Признавая единственного Творца, мы так, в сущности, и утверждаем, что жизнь присуща бытию изначально и потому она есть высшая ценность, а мы все напрямую причастны этому животворящему началу. Да, жизнь многих людей — драма, но драма, отразившаяся в масштабах Вселенной и, значит, полная особого смысла, пусть неизъяснимого, но позволяющего видеть в нашем земном существовании не одну только игру случая или безумную лотерею, в которой почему-то одним везет, а другим нет.
Вот где, как мне кажется, ваши единомышленники антинаталисты могли бы найти ответ на свои вопросы.
ОН: — Допустим. Но почему тогда в моем безнадежном нигилизме Бог не пытается мне помочь личным своим участием? Я как-то совершенно не чувствую, чтобы он, в согласии с вашей методикой, протестовал или возмущался во мне. Или он подглядывает за всеми нами так же, как в раю «во время прохлады дня» за Адамом и Евой, уже приговорив их к смерти за невинный флирт со Змеем? Судя по всему, его вообще всё устраивает, всё идет в дело, все у него на равных — и праведники и грешники, и соблазнители, и тихие схимники и те, кто принял крестную муку, и жертвы, и насильники, поскольку все благополучно проходят через врата смерти, тем самым очень даже угождая Всевышнему. Более того, по-вашему, выходит, что кто больше мучился, тот и больше потрафил Всевышнему, доставив ему особую радость тем, что с еще большим эффектом помог вернуться к своей священной «тождественности». Еще немного, и вам ничего не останется, как провозгласить: поскольку любое зло от Бога и для Бога, то и оно тоже священно. Не отсюда ли и этот жутковатый культ мученичества, столь развитый во всех религиях, а в христианстве особенно? И вас это вполне устраивает?
Я: — Я все же надеюсь, что дело обстоит иначе. Да, здесь есть то, что не может не озадачить. Однако, если уж, как вы говорите, всё «идет в дело», то, я уверен, что не всё Ему в радость. Вы ведь рады видеть, как из почвы выходят зеленые стебли и покрываются цветами? Но вряд ли вас сильно порадует картина увядания или вид изъеденных червями плодов.
ОН: — И, тем не менее, получается, что смерть входит и в его «высокую технологию» жизни. Совсем как у людей. Так что, извините, но вам придется увидеть здесь еще один признак того, что мы созданы «по его образу и подобию». Признак, прямо скажем, не слишком обнадеживающий.
Я: — Нет, разница принципиальная: в природе смерть одерживает верх над всем живым, никому не оставляя никаких шансов, тогда как в Боге «полная и окончательная» смерть отменяется, ибо жизнь каждого индивидуума находит в Нем свое продолжение. Странно, что в других культурах, в буддизме, например, это чувство индивидуальности, неповторимой и самоценной, скорее, отягощает и лишает благодати приобщения к вечному и надмирному покою. Я всё же не в состоянии поверить, что саморастворение в нирване, в великом Ничто — это именно то, что заслуживает человек.
ОН: — Ну и как теперь быть с тем, с чего вы начали — с вашего собственного бунта, с желания воздать по заслугам палачам, тем самым с виду вполне благообразным старикам, кому удалось навсегда ускользнуть от правосудия, когда смерть предоставила им надежное убежище? Как быть с вашим утверждением, будто Всевышний живет и в той самой личности, точнее, в том самом мерзавце, который казнил несчастного подростка?
Я: — Полагаю, что в негодяе, в палаче, в растлителе Бог умирает дважды — и первый раз еще при их жизни, что, думается, особенно мучительно для Создателя и потому им всем тоже не сулит ничего хорошего. Хотя, говоря о воздаянии, я всё же не стал бы стремиться подвергнуть их тем же испытаниям, через которые прошли их жертвы. Это бы только умножило зло и обнажило нашу беспомощность, свидетельствуя как раз о том, что истинного решения проблемы по эту строну жизни не существует. По мне, достаточно одного: верить в то, что ни один вырвавшийся из груди стон не канет в безответном мраке, вот что главное. А в остальном, оставим небу прерогативу окончательного решения.

Глядя с изнанки
ОН: — Небу? Как в этом бескрайнем и бездушном пространстве человек может хоть что-то значить? Ваш, извините, антропоцентризм настолько наивен, что даже страшно вас спугнуть ненароком, чтобы, очнувшись и прозрев, вы тут же не рухнули от обступившей вас грубой реальности. И всё же отвлекитесь на секунду от ваших спекуляций и взгляните трезво на то самое звездное небо над головой, но только не глазами Эммануила Канта, который притянул сюда за уши нравственный императив, а вполне беспристрастно, и представьте себе реально происходящие процессы в физическом космосе — все эти клубящиеся туманности, столкновения и разбегания галактик, эти постоянные корчи и конвульсии материи с алчными черными дырами, заглатывающими свет, всё это космическое безумие со вспышками «сверхновых» и неприкаянными кометами, несущимися невесть куда. А потом переведите взгляд на нашу грешную планету — еле различимую соринку, мотающуюся вкруг заурядной звезды вместе со всей этой хилой порослью под названием жизнь, которую любой шальной астероид может накрыть в одночасье. И что, человек по-прежнему красуется у вас в центре мироздания?
Я: — Если бы Эммануил Кант больше не написал ни строчки, кроме тех общеизвестных, где он поведал миру о своем благоговении перед «звездным небом над головой» и моральным законом внутри нас, он и тогда остался бы великим мыслителем. С такой смелостью объять одним взором, соединить одной прямой необозримую Вселенную и что-то несопоставимо малое и эфемерное в нас, объединить, фактически, как равноценные полюса мироздания — здесь сказывается истинный масштаб личности и какая-то особая дерзость. Вы правы в одном: если вслед за Кантом перевести взгляд со звездной панорамы на нечто смутно в нас угадываемое и так редко похожее на нравственный императив, а потом сопоставить с масштабом космических катастроф или пусть даже наших планетарных, то впечатление от побед мирового зла оставляют мало надежд на то, что звездное сообщество хоть немного в курсе наших земных бед, как и наших восторгов, озарений, а тем более изысканий в области морали. Короче, на первый взгляд, ничего общего — никакой такой прямой линии.
Но с другой стороны: если нам дана способность постигать законы природы, действующие в любой точке космоса и посылать в мировое пространство научные лаборатории, если мы способны освоить бесконечно сложную комбинаторику гена, подобравшись к самой основе жизни, значит, познаваемость мира человеческим разумом имеет какие-то глубинные основания. Пусть до конца нам их не понять, но чем необъяснимее одиночество человека посреди галактик и туманностей, тем как раз значимее фактор человеческого сознания в мире, тем выше его ценность, а вовсе не наоборот, как вы полагаете. Подумайте, как может возникнуть случайно сознание, способное отличать это случайное от закономерного и философски их сопоставлять? Но даже если природа сотворила разум по недоразумению, и это стало для нее полным сюрпризом, то она, как минимум, и сама одарена разумом и колоссальным творческим ресурсом — ну не может же она быть проще, глупее своего творения! Иначе она просто не достойна своего удивительного детища.
Да, простирающаяся перед нами дикая природа прекрасна, могущественна и полна великолепия — но до тех пор, пока мы не прикладываем к ней категорию субъектности и не задаем себе вопрос: а какую ценность для нее имеет неповторимая человеческая душа? — после чего она тут же оборачивается уродливым монстром, уничтожающим собственных детей. Это всегда в той или иной степени осознавалось людьми и отражено в мифологии во всех культурах. Но сегодня наш разум не будет с этим мириться и принимать себя за создание исключительно природное, и даже любые обобщения в духе философского позитивизма или пантеизма заведомо обречены, если они игнорируют категории добра и зла.
ОН: — Меня всегда забавляли проповеди моралистов, призывающих избегать не то что плохих поступков, но и дурных мыслей, а то, мол, всё это способно внести в мировую гармонию нежелательный диссонанс, вызывая ответную реакцию — в виде испорченной кармы или чего-то вроде проколов на водительских правах. Кстати, а почему нет такого рода обратной связи, когда бы Вселенная тоже несла ответственность за всё скверное, что происходит с людьми — особенно если случается это не по их вине? Ответ один: потому именно, что мы для нее со всеми нашими амбициями — лишь незаметный взбрык посреди мирового океана. Но даже если б заботливый Бог ваш существовал, ему было бы не до нас: одних только звезд в родной нашей галактике сотни миллиардов, как и подобных галактик не меньше — кому под силу со всем этим управиться!
Я: — А по мне, рождение какой-нибудь сверхновой звезды — событие сопоставимое по своему значению, даже в масштабах Вселенной, с созданием Парфенона или Баховской прелюдии, не говоря уже о появлении на свет ребенка. И так же смерть непоправимо уязвляет Вселенную, как вездесущие черные дыры. Но знаете, мне тоже не импонирует учение «космистов», предлагающее с помощью медитации отрешиться от земных тревог, «от греха подальше», а главное — от «неподобающих вопросов», адресованных Универсуму, у которого, де, презумпция вечной правоты. Мне кажется, что это признак душевной амнезии, которая почему-то подаётся как особое «космическое сознание». В такого рода самоотречении, на мой взгляд, гораздо больше эгоизма, чем в попытке опереться на своё «Я». В то же время меня не покидает уверенность, что Вселенная, Бог или Универсум — не важно, как называть мир во всей его полноте — не только слышит, но и соощущает всё, что с нами происходит. И это именно благодаря ценностному резонансу, возникающему там, где единственность мира и единственность человека соприкасаются друг с другом в «сингулярной» точке нашего «Я».
ОН: — Понял. Значит, если у меня заболел зуб, то где-то там пара электронов или протонов сбились от сочувствия ко мне со своих орбит и наскочили друг на друга, причиняя галактике нестерпимые страдания. Впрочем, по некоторым данным, в ваших словах есть доля правды: даже на уровне элементарных частиц, разнесенных на расстояние сотен световых лет, наблюдается активное физическое взаимодействие, названное Эйнштейном «жутким действием на расстоянии», поскольку, по его мнению, это в корне противоречит нормальной логике. Но еще больше не в ладу со здравым смыслом эмпатия, которую вы приписываете Вселенной. Хотя какая разница, и так и этак — отдает бессмыслицей.
Я: — А я думаю, что не только мировое пространство «слышит» всё, что с нами происходит, но даже и время способно проявлять подобную чуткость: если сегодня музыка Генделя или Шуберта рождает то же чувство совершенной красоты, какое испытывали их современники, и если так же, наверняка, этим будут восхищаться в далеком будущем, то подобная власть над временем не может не говорить о важности всего, что нас наполняет. А если уж заглядывать в далекое будущее, то скажу откровенно: я втайне надеюсь, что во Вселенной так никогда и не отыщется иных следов разума. Почему-то хочется, чтобы наше существование в мире оказалось абсолютно необъяснимым чудом, подтверждающем библейскую версию: человек в центре мироздания.
ОН: — Я вам скажу больше. То, что человек способен наплевать на все эти хваленые ценности, как и прочие свои «привилегии», и разом отказаться от дарованной ему жизни, пустив себе пулю в складчатый мозг, похвалявшийся недавно своей уникальностью, по мне это еще более яркое свидетельство исключительности нашего положения в мире. На самом же деле пресловутое торжество разума отдает безумием. Вам не приходило в голову, отчего на пике прогресса, когда человек приблизился к пределам познания — и в масштабах макромира, и на уровне элементарных частиц — такая страшная статистика случаев помешательства, стресса, суицида, насилия? Почему технологическая революция, призванная, казалось бы, приумножать блага, делает самого человека лишним на этом празднике жизни, грозя выдавить на обочину прогресса огромную массу людей? Откуда это смятение в умах, когда одни защищают права животных, а другие содержат огромную индустрию убоя, цирковых и охотничьих забав, отнимая у зверья последние их убежища и места обитания? Почему, когда большинство людей накормлено и защищено от многих смертельных недугов, насилие вновь захлестнуло города — не потому ли, что его величество Хаос по-прежнему правит миром?
В соответствии с законом сохранения, энергия зла тоже никуда не девается, она либо вырывается наружу в зверствах войны, погромов, революций, либо оттесняется на периферию, где в маргинальной зоне выжидает до поры до времени. Но разве время еще не пришло? Не потому ли именно теперь, на гребне своего развития, человечество подошло к тому порогу сложности социального устройства, когда накопленное в планетарном масштабе напряжение готово, как цунами, разойтись по земле, превратив наши амбициозные проекты в труху? Всё труднее удерживать мир от полного самоуничтожения в атомном Армагеддоне. Это ли не выражение окончательного тупика? Тем достойнее, если это слово здесь применимо, перехватить инициативу и добровольно отказаться от участия в дурном эксперименте — да, отказаться рожать детей и воспроизводить весь этот бред. По крайней мере, у природы уж точно не возникнет никаких возражений, учитывая и то обстоятельство, что у нее наготове масса своих «натуральных» апокалипсисов: чудовищных по последствиям землетрясений, ураганов, потопов, безумных астероидов, летящих к Земле с маниакальностью камикадзе, климатических коллапсов, как и космических, готовых целиком поглотить нашу Солнечную систему. И какой тогда толк от ваших непреходящих ценностей и вечных вопросов? Нет, если уж что-то удавалось людям, то в тех обстоятельствах, когда они более всего могли полагаться на проверенные и надежные инструменты: на свои руки, свою смекалку, на солидарность, в конце концов.
Я: — Я с вами во многом согласен. К тому же вы навели меня на очень важную мысль. Да, зловещая тень Армагеддона нависает над нами с какой-то пугающей наглядностью. Но, пожалуй, это и вселяет в меня оптимизм! Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему волна мирового прогресса шла с запада на восток, а не наоборот? Почему именно западная модель цивилизации, несмотря на все исторические зигзаги и ужасающие провалы, в результате оказалась наиболее успешной? Вспомните, когда, обреченная было, на вечное циклическое кружение тропа истории начала распрямляться и обретать черты направленного движения? Поступательное развитие — прогресс, в фарватере которого мы сегодня продолжаем двигаться, пришел на смену статической картине мира в ту именно пору, когда по мере выстраивания канона Библии всё интенсивнее стала развиваться культура «вечных вопросов», тех самых, что со временем обрели общечеловеческое звучание. Почему-то именно этой, «вопрошающей» и протестной культуре, культуре драматического диалога с Небом, в основании которой бунтарская легенда о непослушании (я имею в виду историю Адама и Евы) было суждено стать лидирующей силой в развитии нашей цивилизации. Более того, я еще раз обращаю ваше внимание: колоссальный потенциал роста, открывшийся с новым религиозным учением, обусловлен и тем обстоятельством, что, как никогда прежде, природа человеческая и природа божественная оказались сближены друг с другом — не только в мистическом плане, не только в премудрости Соломона или песнопениях царя Давида, но и в самой низшей точке существования — в том, что Библия не побрезговала обратиться к наиболее тягостному и постыдному в человеке, к его бедам и к чувству богооставленности. Именно здесь первое свидетельство того, что в нас поселился Бог: когда нас пронзила однажды эта тоска и мы испытали настоящий болевой шок, лишь тогда мир сдвинулся с мертвой точки.
Вот где невероятный парадокс истории! Самая, казалось бы, нежизнеспособная система ценностей, где проповедовалось смирение и любовь к врагам своим, где подставить под удар другую щеку считалось добродетелью, обернулась в перспективе наиболее динамичной и жизнеутверждающей силой, способной, несмотря на все исторические вывихи, объединить мир общим идеалом, гуманистическим в своей основе и способствующим поиску истины — в том числе, заметьте, и в области научного познания. Альтруизм, уважение к правам личности, к праву поиска и всё, что мы понимаем под общечеловеческими ценностями — всё это оттуда.
ОН: — А как это сочетается у вас — неприязнь к человеку массы и при этом вера в ценности, которые, видите ли, разделяют все?
Я: — Если речь о толпе, то здесь, чтобы разнуздать страсти, всё идет в дело, всё, то есть, что позволяет идейным вожакам натравливать одних на других — в том числе и различия в догматике, в трактовке религиозных символов, спорных мест в сакральных текстах из-за неточных переводов или заведомых искажений. Когда же мы говорим о ценностях общечеловеческих, то речь не об аморфной массе, а о гигантском людском массиве, включающем в себя множество прошедших поколений. И здесь, наверное, срабатывает что-то наподобие закона больших чисел, выявляющего наиболее закономерное и сущностное. Так вот, когда Священное писание, полное странных противоречий и нестыковок, прошло этот многовековой фильтр, очистились и засияли подлинные смыслы, и пришло общее понимание:
Бог — это человечность, поднятая, вопреки трагическому контексту существования, на уровень космического закона.
В начале Новой эры, в атмосфере религиозных раздоров, когда только формировался евангельский канон, это выглядело бы неуместным прекраснодушием. Сегодня же «обожествление» человечности — не только мотив, способный объединить различные верования, но и основа гражданской религии — светской: теперь преступление против человечности квалифицируется как одно из тягчайших в международном праве. А не прошло и ста лет после чудовищной мировой бойни! Трагизм, однако, по-прежнему в том, что окрыляющей прелюдией прогресса явилась когда-то весть о грядущем Конце света, в связи с чем все успехи мировой цивилизации должны, по сути, укладываться, если говорить о христианской эсхатологии, в интервал между двумя наиболее драматическими моментами Священной истории: первым приходом Мессии и ожидаемым Вторым его пришествием или Судным днем. Эту угрозу никакой прогресс не отменял, с точки зрения Писания мы всё еще находимся «под судом и следствием» — причем суд уже идет, если иметь в виду моменты, когда мы на очной ставке с собственной встревоженной совестью. Удивительно и то, что потенциал рационального знания, накопленный в античный период, смог раскрыться до конца и получить материальное — индустриальное воплощение благодаря тому, что три тысячи лет назад было открыто альтернативное знание, относящееся к сфере чисто духовной. Вот что невероятно обогатило наше воображение и обострило динамику внутренней жизни и, несмотря на глухое средневековье, привело в итоге к великим научным открытиям, обогатившим представления о мире и о социуме.
Однако, чтобы получить столь мощный импульс к развитию, нужно было сначала назвать всё своими именами: отделить истинные ценности от мнимых, радикально противопоставив всевластию зла всемогущество добра в лице единого Создателя. Только так, поднимаясь всё выше в осуществлении этой задачи, можно было продвигаться дальше по историческому пути.
ОН: — Ну и куда мы пришли в результате? Еще безнадежнее запутались в противоречиях, от одних бед избавились, другие, еще более неподъемные, нависают с угрожающей силой. Мне не понятен ваш оптимизм на уверенном пути к Концу света. И это всё, чем вы готовы напутствовать молодых людей, вступающих в брак с верой в счастливое будущее?
Я: — Я бы им еще сказал, что они имеют неоспоримое право на свою долю счастья, но условием должно стать осознание нашей вовлеченности в трагический контекст существования. И чем даже сильнее в нас стремление к личному счастью, тем важнее приобрести иммунитет — неизбежный стресс от несоответствия наших идеалов окружающей реальности, циничной и немилосердной. В принципе такая потребность у многих возникает сама собой: не только, когда молодожёнов тянет венчаться в церкви, где их осеняют крестом — символом мученичества, но и когда они «причащаются» к символам так называемой гражданской религии, и мы их застаем где-нибудь у «Стены плача» или у памятного «Вечного огня» — тоже символа жертвы. Мне это понятно: в любви слышен зов вечности, требующей от нас жертвенности, особенно когда настает время создавать семью, пестовать детей, транслируя тем самым жизнь далеко в будущее — уже за пределы собственной жизни.
Так и в истории: если тень Страшного суда по-прежнему нависает над нами, это не значит, что мы обречены. Наоборот, я вижу здесь лишь напоминание о накопившейся за тысячелетия неоплатной цене за нынешнее благополучие, которое мгновенно схлопнется, и мир действительно ввергнется в хаос, если мы, забыв о своем долге, откажемся от базовых ценностей и, заняв позицию чистой прагматики, переметнемся незаметно для себя на сторону зла. Такое уже бывало в истории и кончалось, как вы знаете, полным крахом.
В этом весь парадокс: только осознание того, что в принципе зло неистребимо, удерживает мир от окончательного разрушения. Почему? Потому что наша обеспокоенность несовершенством жизни способна не только повергать в уныние, что не удивительно, но и мобилизовывать на то, чтобы брать на себя свою долю ответственности и совершать определенную работу, изменяя по возможности баланс сил. Не благоденствие должно стать идеалом, а постоянный поиск динамического равновесия. Приняв в себя это напряжение, мы получаем и свой сертификат на счастье — он снимает с нас вину за вынужденную вовлеченность в альянс с мировым злом и при этом дает моральное право приобщиться ко всем жизненным благам и искренне восхищаться красотой мира. Напомню опять же о распятом рядом с Иисусом разбойнике — этом воплощении преступного начала, столь присущего самой жизни. Однако же именно разбойник, нашедший в себе силы для сочувствия невинному, сделался символом невероятной способности человеческой души к состраданию и раскаянию, за что ему первому было обещано Царствие небесное. Не может не поразить эта зеркальная симметрия — насколько унижен был всесильный Творец, настолько же оказался возвышен, восхищен оступившийся было и безнадежно падший человек. Столь радикальное расхождение евангельского учения с прежней нормой, когда злодею по закону полагалась непременная казнь, говорит о невероятной перемене, произошедшей в человеческом сознании.
ОН: — Какая же у вас безумная картина сложилась в голове! Вы пытаетесь очеловечить мир, созданный по бесчеловечным законам. Примите мои сочувствия, но уверяю вас, Создатель ваш давно уже махнул на всех рукой — сказано же в Книге Бытия: Творец «раскаялся в том, что создал человека» — что тоже не делает ему чести, мог бы не срывать зло на своих чадах, поддавшихся на его провокации. И все-таки, скажите, на чем держится уверенность ваша, что миром единолично не правит маньяк и деспот, которому просто в кайф наводить страх и лицезреть, как испепеляются в серном пламени города, вырезаются первенцы, устраиваются вселенские потопы и образцовые «египетские казни»?
Я: — Если вас не убедили мои прежние доводы, то оглянитесь хотя бы вокруг: нынешние успехи цивилизации и общая гуманизация общества — это отмечают многие социологи — служат достаточным свидетельством того, что ценностный код, предложенный библейской версией монотеизма, во многом оказался истинным. Повторяю, все попытки свернуть с этого пути, присвоив себе блага цивилизации насильственным путем, в обход представлений о «Десяти заповедях», как это происходило при тоталитарных поворотах, заканчивались полным провалом.
ОН: — Вас всё время тянет на пафос. И это наводит на подозрение, что вы не слишком уверены в своих аргументах. Неужели вы не видите, что всё обстоит прозаичнее и печальнее. Стоит обратиться к медиа, как исчезают последние иллюзии. Сегодня в новостях говорили о невиданных пожарах в Австралии и огромных жертвах. Показали обугленную машину: заживо сгорели двое, отец и сын, не сумевшие пробиться сквозь стену огня. Так можно ли, скажите, рожать детей в таком аду, где есть хотя бы ничтожнейший шанс оказаться в подобной ситуации! И почему вы так охотно со всем соглашаетесь, принимаете весь этот бред существования да еще пытаетесь найти в нем какой-то особый смысл?
Я: — Если бы этого смысла не существовало, не возникало бы у вас и чувства протеста. Я не могу поверить, что за ужасающими эскападами зла остается последнее слово. Для меня это и есть основа религиозной веры — от нее и мое категорическое неприятие «естественного» хода вещей. Да и ваш протест по глубинной сути своей тоже религиозный, хотя бунтарский отказ от будущего смахивает скорее на дезертирство, поскольку вы покорно приняли условия смертельной игры, навязанной нам дикой природой, вместо того, чтобы заглянуть в себя и увидеть корень проблемы. Своим демонстративным отказом от продолжения рода вы только потакаете злу, признавая его окончательную победу над вами. Если уж бунтовать, то решительнее, и идти дальше. Я уверен, что на пределе вашего возмущения не может не озарить вас ясное понимание: раз во мне поднялся этот бунт, значит, что-то мне дает на это право. Так и в экстремальные моменты жизни мы вправе ожидать, что вот-вот великая истина откроется, иначе бы не бунтовали, а просто, стиснув зубы, сносили бы, как сносят все живые твари. А мы, наоборот, порой готовы идти на обострение, чувствуя, что все так называемые последние вопросы — по сути своей риторические, и где-то на самом острие вопроса ответ уже содержится. Так что наша неугомонность и постоянные сомнения — огромная привилегия, говорящая, возможно, о нашей вовлеченности в события космического масштаба. Так может, вы поторопились со своим ответом, и бунт ваш не достиг еще наивысшего накала?
ОН: — Нет уж, мои «предохранители» не рассчитаны на такие предельные нагрузки. Вам же я могу только посочувствовать, если на последней грани «экзистенциального вопрошания», назовем это так, вы рассчитываете лишь на риторический ответ.
Я: — Не так уж и мало. Только дерзость, ставящая под сомнение благодатность жизни и всего Творения, позволяет услышать подобного рода ответ: нет, в основе мира не может лежать бесчеловечность — потому хотя бы, что есть любовь, знающая предельную цену единственности — и на пике высшего счастья, и в момент утраты того избранного, «единственного из всех», без кого счастье было бы не мыслимо. Понимаете, тут самое главное: если Бог такой же, как каждый из нас, единственный, тогда Ему не только ведомо чувство любви, но Он и говорит в нас голосом любви.
ОН: — Меня всегда поражала эта рыхлость в рассуждениях, внезапно возникающая там, где пытаются обременить Бога атрибутом любви. Я понимаю, вы уже вошли в роль адвоката Всевышнего. Но ваши кульбиты уж больно смехотворны и беспомощны. От какой такой любви Создатель напускает на людей то бубонную чуму, то саранчу и голод, то живьем хоронит под вулканическим пеплом? Вы говорите о любви Бога или к Богу, но явно не любите людей, вы не способны рвануть сигнал стоп! — всё, хватит, натерпелись, пора сворачивать проект, 500 тысяч лет существования человечества обернулись дорогой в тупик, полной кошмаров и безумств.
Где больше человеколюбия, в заповедях вашего Христа, в церковных догматах, во имя которых святые отцы с дрекольями идут друг на друга, или в том, чтобы вообще не дурить голову подобными проблемами и именно из человеколюбия наперед отказаться от создания новых человеческих особей, не подвергая еще не родившихся детей риску быть ввергнутыми в новую версию Холокоста или Беслана: пусть в безбожном мире страшно жить, но с вашим Богом-то еще страшнее и безнадежнее! Так лучше, не нагружая Творца задачей совмещать в себе милосердие и злодейство, вовсе освободить его от должности: отказавшись от его услуг, стать честным атеистом или скромным агностиком, а то и остаться «соглашателем», оппортунистом, как вы говорите — жить просто, тупо, не мудрствуя лукаво.
Я: — Хотелось бы жить, не мудрствуя. Кто-то даже сочтет это высшей мудростью, сославшись на то, что и сами почтенные мудрецы не способны прийти к взаимному согласию. Но это не значит, что мы вообще свободны от всей проблематики, которая не может не возникать у людей, живущих даже самой немудрёной жизнью. Вы не можете не согласиться с тем, что в основе нашей диалогической культуры лежит свободный поиск и бесстрашие интеллекта, умеющего выдвигать дерзкие идеи, будь то логические парадоксы античных философов, многие из которых до сих пор не решены, или нравственные парадоксы Библии, так и повисшие «вечными вопросами». Пусть человек, проявляя потрясающий талант в постановке многих проблем, не всюду преуспел в их решении, но такое впечатление, что пространство нашей культуры держится исключительно на этом напряжении нерешенных вопросов.
А тогда важно понять вот что: ежели современный мир возрос на закваске, в основе которой культура «вечных вопросов», он не может в одночасье освободиться от них как от обременительного балласта. В основе универсальности западной цивилизации — универсальность ее ценностей, и если сосредоточенность на них позволила западу лидировать в мире, то и дальнейшие успехи вестернизации невозможно оторвать от ценностной основы, с которой остается неразрывная генетическая связь — нетехнологично, невозможно, оседлав волну прогресса, предаваться инфантильной мечте о технологическом рае на земле, а тем более пускаться осваивать новые миры за ее пределами. Человек еще не встретился сам с собой, где уж тут гоняться в кромешной тьме в поисках братьев по разуму! У нашей беспокойной, фаустовской культуры, как ее определил Шпенглер, есть эта своя непреодолимая гравитация, отягчающая нашу волю, но зато позволяющая прочно стоять на ногах. Или мы готовы, не справившись с земными тяготами, вынести и в космос весь этот непостижимо чудовищный опыт Санторина, Мессины, Катыни, Голодомора или Освенцима — опыт так и не осмысленный нами до конца?
ОН: — Не могу понять, что хорошего в этой маете, в упорном расчесывании одних и тех же язв?
Я: — Видите ли, пока мы с вами всё еще в теме, пока горячо спорим о добре и зле, и не отстраненно, а проживая это, словно глубоко личную проблему, с нами всё в порядке — мы тем самым поддерживаем обычай постановки предельных по масштабу нравственных проблем, чем защищаем не только культурную традицию, но и репутацию самого Создателя — защищаем от обвинений в том, что вы тщетно пытались ему приписать. Я бы даже сказал, что подобным образом Он сам себя защищает: чем сильнее в нас напряжение «последних вопросов», тем живее Его присутствие в нас. Вся проблематика жизни, так или иначе, ведет к Нему. Кажется Андре Жиду принадлежат слова: «идите к тем, кто умеет задавать главные вопросы и бойтесь тех, кто говорит, что ответил на них». Поймите, как смерть входит в технологию жизни, так и рефлексия над темой жизни и смерти органически вошла в «технологию» нашего с вами высоко технологического мира.
Однако немалый соблазн сегодня, в наш продвинутый век, когда индустриальное развитие опережает самую необузданную фантазию, сбросить разом, как бесполезный груз, все эти сложные материи и уже «налегке» ощутить себя, наконец, привилегированной частью мира, в котором нам так комфортно хозяйничать. Да и сам облик современных городов, с дерзкими архитектурными решениями и вереницей огней вдоль автобанов, всем своим видом говорит о неуместности ломать себе голову старомодной метафизикой — зачем, если и так неплохо: одолели многие смертельные недуги, научились укрощать боль, привязывать навигацию к объектам далекого космоса, а главное — успешно обходиться без глобальных конфликтов. И уже стало до банальности привычным, что в наше благоденствие вложен не только труд предшествующих поколений, но и, накопленный за века, весь негативный человеческий опыт, сопряженный с тяжелейшими испытаниями. Ну и что, скажет иной, раз иначе невозможно, надо жить позитивными чувствами и не буксовать на одних и тех же поворотах. И вам тоже кажется, что где-то здесь можно поставить точку?
ОН: — Я бы отнес к главным достижениям прогресса другое: сегодня для того, чтобы выжить, человек не нуждается в семье, как прежде, когда проблемы старости решались за счет потомства. И меня это радует: сама история подсказывает, что пора вырождаться. Пусть сохранится лишь горстка каких-нибудь айтишников, компьютерных сверх гениев, которые будут всем управлять из технологического оазиса, цепко при этом держась за рубильник — с помощью него можно при случае вырубить всю безумную нашу цивилизацию, запутавшуюся в электронных сетях. И даже вопросов не возникнет — никаких, ни вечных, ни последних, ни риторических.
Я: — Вы ошибаетесь, с исчезновением столь немилых вам «последних вопросов» мир может обрушиться гораздо раньше, превратившись в сплошной Чернобыль. И никакие новые технологии не спасут, если мы потеряем это внутреннее напряжение. Отрыв от ценностной основы близкой нам иудохристианской культуры, когда от нее остаются лишь пасхальные каникулы и рождественские подарки — вот в чем таится угроза! Если схлопнется шкала ценности и иссякнет потенциал всей этой проблематики, схлопнется и внутреннее пространство личности, обрушатся ее несущие конструкции. Или вы думаете, что нет прямой корреляции между высотой ценностной шкалы и технологической продвинутостью?
Прогресс — это прогрессия сложности в первую очередь, а управлять сложностью во все времена способны лишь сложно устроенные индивидуумы, которым и подобает составлять элиту. Если человек теряет вкус к сложности метафизического порядка, то и нагрузку невообразимо сложной нашей цивилизации со всеми ее вызовами он может не выдержать. Никакой цифровой контроль за населением, никакие базы данных с пресловутым «чипированием» и системой слежки не способны уменьшить угрозу хаотизации — природа человека такова, что его невозможно подчинить четкому алгоритму или превратить в послушного робота. Более того, человек с подавленной волей, запрограммированный, еще более опасен, поскольку он всецело зависим от центра принятия решений, где люди, претендующие на роль демиургов и «пастырей», уже тем заведомо порочны и несостоятельны, что считают себя вправе повелевать миллионами. История показала, что любое манипулирование сознанием с целью создания тотального «муравейника» приводит к общему ужесточению и полной деградации. Только полномерная, развитая личность, наделенная чувством достоинства и внутренним слухом, способна расслышать в простоватых мотивах поводырей и краснобаев дудочку «крысолова».
Однако новое поколение, впитывающее невероятное количество информации, всё больше теряет способность ее качественной оценки. Отсюда инфантильность, страх остаться наедине с собой, беспорядочные контакты в социальных медиа, подмена живой реальности безопасно-развлекательной игрой, потеря способности к усвоению больших по объему текстов, склонность к конформизму и даже наблюдаемая последнее время асексуальность. Здесь сказывается не только размягчающее воздействие современных условий жизни, сделавших комфорт нормой существования, но, как мне кажется, и боязнь встретиться лоб в лоб с теми во многом травмирующими, неподъемными, но великими темами, которыми, как они верно чувствуют, заряжена издавна наша культура.
ОН: — Но тут уж, извините, это у вас обычное брюзжание и поколенческое неприятие всего нового.
Я: — Возможно. Но я только боюсь, что колоссальное расширение потока информации происходит сегодня за счет внутренней развитости человека, и тогда лавинообразно растущая сложность общества при сужении диапазона личности, спрямлении человека в духе безликого промышленного дизайна, могут предвещать недоброе — мир может пойти вразнос. На одном техно оптимизме не вырулить. Нужна еще и элита, деятельная, но способная устоять против соблазна прибегать к простым решениям, потакая «широким массам». Вызовы слишком серьезные. Сегодня в очередной раз решается вопрос: что станет приоритетом, муравейник или сообщество свободных граждан, Спарта или Афины, шарашка или Кремниевая долина, цифровой ГУЛАГ или горизонтальные информационные сети. Впрочем, мое поколение тоже виновато в том, что произошла подмена ценностей, исчезли критерии подлинности и теперь возможна профанация на любом уровне — будь то псевдонаучная теория или какое-нибудь «музыкальное» полотно, представляющее собой бессмысленный набор звуков.
ОН: — Я понимаю, что вас так пугает: отмирает своеобразие, опирающееся на богатую традицию, поскольку наша цивилизация вынуждена вводить обезличивающие стандарты и правила, одинаково принимаемые на всех континентах. От этого никуда не деться. Но, может, и хорошо: ваши излюбленные «вечные вопросы» остаются без подпитки и, глядишь, сами по себе усохнут, как сорняки, лишившиеся почвы. На фоне этой необратимой унификации для вашего боженьки, действительно, не остается никаких шансов, поскольку на место мифических «несущих конструкций» приходят четкие технические нормы и правила безопасности: не превышай скорость, сортируй мусор и не суй пальцы в розетку. Скучно, зато дает хоть какие-то гарантии.
Я: — Наоборот, я как раз думаю, что по мере того, как в постиндустриальном обществе зависимость от магического сознания и церковной традиции станет ослабевать, всё увереннее будет расти потребность в обретении личного Бога и всё насущнее становиться поиск автономной связи с Творцом — напрямую, вне церковных стен и религиозных традиций. Хотя да, остается риск, отказавшись от всего яркого, эмоционального и символического, окончательно утратить живое чувство, образ вечности, сложившийся в народе за века, забыть язык и поэзию литургии, так многим памятной с детства и помогавшей обрести то, что можно назвать высокой дисциплиной духа.
Впрочем, для меня подняться над конфессиональными различиями означает по-прежнему одно: не суетные попытки воздвигать новый помпезный храм, где было бы просторно всем богам, «медитативно» курился бы ладан и под сводами парила психоделическая музыка, а опустить свой взор как можно ниже, во тьму безысходности, в самую толщу экзистенции. Что же касается храма, то он давно воздвигнут — это душа человека, способная открыться благу даже в трудные минуты жизни. Так что стоило бы, пожалуй, покинуть сначала пределы всех «перегородок» — решительно отказаться от религиозных практик и спиритических соблазнов, чтобы потом, если уж вернуться в сакральное пространство собора, мечети, синагоги, дацана, то полностью свободным человеком, открытым, сбросившим с себя проклятие кармы и вериги «первородного греха» и готовым со всеми разделить восторг при виде внутреннего убранства, проникаясь тут же красотой песнопений, степенностью традиционного обряда и поэзией древних текстов. Нет, без храма всё же нельзя: он поддерживает в нас чувство Бога, многократно усиливает его, как концертный зал звучание солирующей скрипки.
Но когда гаснет свет и все расходятся, Бог тоже удаляется. Его там больше нет. Бог приходит в храм вместе с тобой, со мной — вместе с нами и уходит. Храм Его — теперь это ты сам, и такие же, как ты и я.
ОН: — Подобная ваша «всеядность» и категоричность в отношении столь деликатных вопросов скорее настораживает, чем обнадеживает. Вы находитесь в плену странных иллюзий и забываете о том, что испытывать безотчетный страх, трепетать перед грозной силой и говорить о «гневе господнем», как о великой милости — это как раз глубинная потребность истово верующих. Неужели вы и вправду полагаете, что религия монотеизма способна воспитывать свободную и открытую личность? Почему тогда сегодня в наших храмах столько мрачных и постных физиономий, с тупой враждебностью оглядывающих каждого, кого подозревают в «инаковости»? Такого конформизма, как у верующих, не сыщешь даже среди футбольных фанатов. А вы толкуете о какой-то свободе.
Я: — Вот почему я и пытаюсь нащупать более прямой путь. Мне тоже видится здесь несоответствие, когда образованному человеку, в поисках веры обратившемуся к церкви, приходится смирять в себе автономную личность и безоговорочно разделять со всеми установленные когда-то каноны и обрядовые условности, в определенном смысле предавая того же Бога: ведь Он пришел указать каждому свой особый, глубоко личный путь к Нему. Почему я и предпочитаю искать Бога за пределами храма. Сказано же, что молиться нужно втайне, «затворив дверь твою». А если речь о тайне исповеди, то она особенно не терпит «общих мест»; исповедь — это с очень близким человеком, но никак не с «профессиональным» духовником.
ОН: — Вы, кажется, не понимаете, что многие, пусть даже у них за плечами три диплома и куча научных работ, если уж они приходят в церковь, то не в поисках внутренней свободы или особой духовности, наоборот: когда уже невмоготу от всех бед, когда «сорвало резьбу», то первая потребность — утопить свое «Я», забыться в окружении тех, кто с тихой кротостью в лице при свете лампад уже мало отличим от других. И потом, вы абсолютно непоследовательны. Вместо декларируемой равноудаленности от всех религий, вы всё время подчеркиваете преимущества библейского учения, и особенно Евангелия.
Я: — Потому что христианская идея на самом деле шире Евангелия. Христианство никогда бы не сделалось мировой религией, если бы занято было одними догматическими спорами и борьбой за идейное лидерство. Так что Голгофа — событие, выходящее далеко за рамки одной конфессии, поведавшее о предельно близком соприкосновении Бога и человека, но, повторяю, не в результате магических манипуляций, а в той именно драме, которую суждено прожить каждому человеку — всем рано или поздно предстоит своя Голгофа, перед которой любой из нас так же беспомощен, как в момент казни беспомощным оказался Всемогущий, принявший образ человека. Помните? — «Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» В этом восклицании — драма всего человечества. Потому Голгофа шире Евангелия и самого христианства, она объединяет всех людей, и живущих и живших когда-то, в самой уязвимой и потому наиболее критической точке существования — объединяет, независимо от учености, социального статуса, а главное, независимо от вероисповедания — включая безбожников, агностиков и нигилистов всех мастей, заодно и таких, как вы.
Не может существовать единый для всех Бог на небе, если он не един для всех на земле — если он не солидарен с каждым человеком во всех его земных тяготах. Только тогда, когда Бог способен примерить на себя судьбу человека, Он для нас становится подлинным и законным гарантом добра и созидателем жизни.
ОН: — А вам не кажется, что если бы мы, в самом деле, были кому-то нужны на белом свете, нам это было бы известно и без ваших интеллектуальных подвигов и поэтических придумок? Однако наше общее сиротское положение в мире хуже даже, чем у брошенных детей; если повезет, кого-то из них подберут добрые люди. Нас же всех подбирает только смерть. Что рассуждать о зле и добре, если в самой этой обреченности вечно блуждать в поисках смысла, без которого, по-вашему, и жизни нет, уже видится усмешка дьявола. Почему это знание, столь жизненно необходимое, постоянно требует подвигов и душевных затрат, на которые ни у кого не хватает ни интеллектуальных сил, ни отпущенного срока жизни? Простым людям ничего другого не остается, как покориться и сообща идти на зов любого, кто осмелится строить из себя мага или пророка и заявит громогласно: «я знаю истинный путь».
Я: — Никаких особых подвигов, как и никакой магии, не требуется. Я вам скажу больше: начало истинного пути — это просто стремление к счастью, в чем бы оно ни состояло, поскольку только в моменты высшей радости открывается наша избранность и причастность к особому знанию, которое потом уже, в трудные минуты жизни, сможет укрепить наш дух сильнее всех заклинаний.
ОН: — По-моему вы слишком вольно обращаетесь со словом знание, путая его с убеждением и мало уважая усилия разума, без чего никакого знания — строго доказанного и многократно проверенного — попросту не существует.
Я: — Существует, тем не менее, не только великий дар познавать мир, но и не менее великий — догадываться, что у познания могут быть границы. Меня не оставляет ощущение, что мир нами воспринимается с его оборотной, «изнаночной» стороны, хотя мы об этом догадываемся, поскольку в нас таится другая, более близкая нам и в чем-то более подлинная Вселенная. Почему более подлинная? Вас это удивит, но, быть может, это самое главное: она подлинная, поскольку, в отличие от физической, мы ей небезразличны. Я не говорю о некоем идеальном «царствии небесном» внутри нас, до которого нужно еще доискаться, но именно о средоточии истины, о близости бытийным основам. Пускай безмолвствует физический космос, но у нас зато есть доступ в свой внутренний космос, который пусть намного меньше изучен, чем физический, но он непосредственно дает о себе знать во всем, что связано с формами нашей духовной активности: прежде всего с искусством, философией, математикой, религиозными исканиями, как и со всем, что для нас наиболее важно и ценно.
Возможно даже, со временем будут обнаружены структуры сознания, удостоверяющие, что ценностное знание нам тоже врождено, то есть досталось нам не в качестве эволюционного механизма приспособления, а как свидетельство причастности к абсолютному источнику Блага. Я очень надеюсь, что когда-нибудь до конца откроется эта алмазная ось, определяющая основу личности, и мы увидим, что она преломляет в себе все необходимые для жизни смыслы.
Пусть нам трудно понять замысел Творца, но если проект человека себя не исчерпал, то на будущее нам следует искать жизненный резерв в своем субъективном пространстве, которое мы только начинаем осваивать, нутром понимая, что внутренний мир во многом подлиннее, нежели осязаемый — опять же потому, что чувство ценности, всегда казавшееся нам чем-то эфемерным, далеким от действительности и даже сомнительным, обретает на бытийном, онтологическом уровне — там, где корни нашего «Я» — статус первейшего закона и структурирующего нас начала. В конце концов, мы видим, как этот личностный потенциал отчасти уже реализовался в успехах нашей цивилизации, преимущественно европейской, западной, концентрическими кругами распространившейся по всему миру.
ОН: — Вот уж не прибавляет оптимизма ваш пример! Тот факт, что столько раз этот хваленый западный мир срывался в пропасть, когда в людях обнажалось всё самое постыдное и звериное, доказывает как раз обратное: наша глубинная природа слишком тесно связана с темными, агрессивными инстинктами, чтобы мы могли грезить о всеобщем благе и справедливости. За всеми нашими приличиями и манерами стоит только страх расшевелить в себе уснувших, но так и не покоренных демонов хаоса и насилия, обуздать которые оказалась не по силам ни светской культуре, ни тем более религиозным институтам. Примеров не счесть.
Я: — И все же, без представлений о добре и зле человечество, при столь мощном его интеллектуальном инструментарии, давно бы самоистребилось. Если этого не произошло, то потому только, что наше духовное начало противостоит диким стихиям на вполне законных основаниях — в буквальном смысле: законы, действие которых мы ощущаем в сфере ценностных ориентиров, это не нечто «надстроечное» над законами материального мира, а то, что, по крайней мере, сосуществует с ними на равных — то есть является не менее императивным, чем какая-нибудь мировая константа или принцип сохранения энергии. Нравственное чувство нас не обманывает, когда по-кантовски побуждает перевести взгляд на звездное небо, ибо у чувства ценности космогонический статус. По сути, это и есть религиозное чувство, которое нам подсказывает, что если присутствие в мире гармонии, красоты, любви, истины — не больше чем иллюзия, то и мир без них столь же иллюзорен, нереален, сколь нереален он без движения, без гравитации или электромагнитных сил.
Другими словами, постоянная потребность опираться на непреложные ценности говорит об их фундаментальном, онтологическом статусе. Я надеюсь, что многие прозвучавшие здесь «подозрительные» суждения, столь противоречащие эмпирическому опыту «по эту сторону», тоже в каком-то смысле санкционированы «высшей инстанцией», наделяющей ценностный принцип законодательной силой. Если не удается сформулировать эти «категорические» законы с математической точностью, то во многом потому, что они уже даны нам как готовое знание — как способность непосредственно ощущать в себе самих всеобщий источник блага, а это по мне и есть Бог — милосердный и единственный. Недаром «нормальная» физика забуксовала там, где появилось понятие единственной сингулярной точки, из которой однажды родилась Вселенная. Ведь если в физическом мире не бывает ничего в единственном числе, то вполне закономерно, что именно в этой точке, как только в нее «уперлась» человеческая мысль, снова заявили о себе все прежние «лишние» вопросы: о Начале мира, о Боге, о сознании, о бытии и вечности.
ОН: — У меня почему-то не возникает никаких вопросов — всё мне кажется слишком уж бессмысленным, когда вновь обращаешься к реальности. Да и какое мне дело, что там было в начале начал, и из каких элементов так «удачно» составился этот мир, в котором столько всего безобразного и отталкивающего, что берет оторопь?
Я: — Тогда то, что я вам скажу, может вызвать у вас особое неприятие. Но, на мой взгляд, в жизни присутствует ровно столько смысла, сколько мы сами посмели в нее привнести — именно вопреки всему, ибо только тогда в людях заявляет о себе подлинная жизненная сила, дающая на это право. Не сочтите это за проповедь, но после того, что я пытался вам изложить, такой вывод вполне закономерен, поскольку за всеми сильными и искренними движениями души стоит созидательная мощь бытия, вполне сопоставимая с той, что мы наблюдаем в природе. Однако, поскольку наши познавательные возможности ограничены, здесь мне приходится соглашаться с тем даже, что все малопонятные религиозные обряды и «волхования», так раздражавшие Толстого, несли в свое время важную функцию: они своим избыточным алогизмом оберегали, изолировали сознание простого народа от «короткого замыкания» — от соблазнов простодушно соединять «напрямую» представления о всеблагом Создателе со страшными свидетельствами опыта, что не могло не ломать психику, порождая культ мученичества с горящими скитами, массовыми самоубийствами и прочими видами коллективного помешательства.
ОН: — Но если мы оказались где-то «с изнанки», если повальное безумие так легко нами овладевает, то откуда тогда взяться представлению о подлинности наших знаний и намерений? Как мы вообще можем знать о существовании иной, «лицевой» стороны бытия?
Я: — Во-первых, об этом говорит чувство «недостаточности» имеющегося у нас знания — прежде всего, знания о том, зачем мы пришли в этот мир, если всё время с ним не в ладу и если, несмотря на все старания, не можем избавиться от трагического фона, сопровождающего нас до последнего часа. Нет, жизненное «уравнение» никак не решается без важного допущения — без представления о том самом недостающем «иксе»; и концы с концами не сходятся, как только мы пытаемся ценностное измерение «вписывать» в картину мира буквальным образом. Не потому ли многие афоризмы и наставления в Нагорной проповеди Христа воспринимаются как провокация: любить врагов своих, благословлять проклинающих нас, не противиться злу насилием, подставлять обидчику другую щеку, да еще и отдавая ему последнюю рубаху. Всё это и несовместимо с жизнью, и кажется издевательством над здравым смыслом, а в иных случаях способно парализовать волю, порождая преступное бездействие. Но сказал же Иисус: «Царство Мое не от мира сего….». То есть, при переводе с языка некой полномерной истины на наш язык — изнаночный мы получаем лишь такую парадоксальную, на грани абсурда, картину, впрочем, говорящую как раз о том, что истина где-то рядом, хотя мы не можем объять ее всю целиком. Во всяком случае, если уже две тысячи лет, как от слов Нагорной проповеди, столь противоречащих здравому смыслу, людей охватывает необъяснимое волнение, можно прийти к выводу: здесь тот порог, за которым открывается что-то особенно важное и невиданное. Так бывает и в науке: чем фундаментальнее исследования, тем порой парадоксальнее выводы, к которым приходят ученые.
Но разговор у нас не о поиске формальных доказательств, а именно о волнении, которое тем сильнее, чем больше мы ощущаем близость к истине как к некой полноте, в которой, наконец, преодолеваются все противоречия. По этому чувству, находясь здесь, с изнанки, мы можем четко понимать то направление, которое ориентирует нас в отношении истинного мира — «не изнаночного». Мы не понимаем до конца, что там наверху, но знаем само это влечение вверх. Нам важно чувствовать силу восходящего потока, и чем больше он захватывает, тем ближе к истокам жизни и полноте чувства, тем непостижимее для ума, но тем сильнее — и к этому я сейчас перехожу — проявляет себя та объединяющая сила, по которой мы догадываемся о существовании другой, более подлинной реальности.
Речь о нашей таинственной способности, или, если хотите, об одном из таких интегральных инструментов, данных нам от рождения, наряду с эстетическим чувством, (о нем я еще скажу) — это знакомое каждому чувство любви, которое вы недавно поставили под сомнение. Об особой синтезирующей мощи этого врожденного нам дара говорит опять же его непостижимая парадоксальность — свойство соединять в себе то, что «на трезвую голову» и в «нормативном» поведении не только разобщено, но и резко, до враждебности, противопоставлено друг другу.
ОН: — Если вы про заповедь «любить ближнего, как самого себя», то лучше оставьте эту затею. Я уже наслушался всяких чудес.
Я: — Речь пойдет о другом. И думаю, вас кое-что удивит. У чувства любви огромное поле деятельности — от сексуального влечения до пламенной, экстатической любви к Богу. В любом случае, это чувство говорит о влечении к существу наиболее значимому для нас из всех, то есть опять же единственному, без чего невозможна полнота ощущений и даже порой невозможно жить и дышать. Для кого-то высокая полнота любви — это чисто мистический опыт, когда ощущается близость Бога и в молитвенном экстазе гармонически сливается то, что никак не соединимо в обычных обстоятельствах: сладостный восторг и гибельный ужас, сияние вечности и тлетворный дух могильников. Или если речь о земной любви и о сексуальном влечении. Но тогда опять же: если в обыденной обстановке люди стыдятся откровений плоти и особенно всего, что связано с функцией очищения тела от продуктов распада, и наша жизнь словно распараллелена на сферу, открытую другим, и на то, что совершенно интимно и всячески скрывается от посторонних, то в моменты чувственной близости влюбленные способны не только восхищаться друг другом, но и испытывать прилив счастья от снятия всех табу. Но без любви — пусть порой она и изменчива, такая «бесстыдная» полнота чувств не только невозможна, но однажды отношения неминуемо переродятся в открытую ненависть. Любовь — это пароль, открывающий доступ к экстатическому обретению целостности, видимо, во многом утраченной в процессе культурной эволюции и разобщившей человека с самим собой. При этом главное опять же, что феномен любви достался нам как дар, положенный каждому в колыбель по праву рождения.
ОН: — Но вы же не станет отрицать, что и многим животным, которым с их расположенностью к полигамии вряд ли ведомо это чувство «избранности» партнера, тем не менее, свойственны яркие проявления любви и заботы. Так разве не инстинкт размножения всем здесь верховодит?
Я: — Понятие инстинкт не добавляет никакой ясности, поскольку за ним скрывается слишком сложное явление. Даже если иметь в виду чистую физиологию, то и у животных тоже, судя по всему, существует эта особая точка на пересечении инстинктов жизни и смерти, Эроса и Танатоса. Возьмите могучих осётров, идущих на нерест вверх по течению через бурные пороги, чтобы, выметав икру и совершив оплодотворение, тут же лишиться жизни. Я, как вы догадываетесь, говорю о сексуальном влечении и его кульминации — состоянии оргазма, который наблюдательные французы назвали petite mort — маленькая смерть, где как раз и обнаруживает себя один из самых могучих жизненных стимулов, а заодно всему живому уготована коварная ловушка. Быть может, сексапильная Саломея рядом с головой Крестителя на блюде потому стала излюбленной темой в мировом искусстве, что тайна эта постоянно влечет к себе.
Очевидно, где-то в реликтовых слоях нашего сознания пересекаются эти два антагонистических мира жизни и смерти, рождая в определенный момент особого рода экстатическое переживание, в котором постигается эта связь и на какое-то мгновение приходит понимание: в том великом, что является источником жизни, таится и причина нашего физического уничтожения. Если в основании нашего «Я» находится то, что связывает нас непосредственно с личностью Творца, то такой вывод не только неизбежен, но в состоянии особого эмоционального подъема он находит подтверждение во всех сферах: на уровне физиологии, на пике творческого вдохновения и даже в момент азартной игры, часто похожей на поединок с Судьбой. И, конечно же, в молитвенном откровении смертное томление и блаженство также основательно переплетены между собой. Взгляните на «Экстаз святой Терезы» великого скульптора Бернини — казалось бы, состояние религиозного транса, но приглядеться: то ли вершина сексуального наслаждения, то ли последний вздох в момент смертельного приступа. Вот, где следует искать корни религиозного чувства.
ОН: — Ну да, святость и грех в одном флаконе: смердящие юродивые, «блаженные похабы», истлевающие мощи в вычурных ларцах, священные блудницы при храмах, преподобные старцы, замуровавшие себя в пещерах и получающие кайф от распада собственного тела. Какой тут экстаз, извините — сплошное непотребство. Избавьте меня от этой жути! Да и речь о другом: ладно, бог дал, бог взял — это мы слышали. Но людей полных жизни, здоровых, истязать, мучить-то зачем?
Я: — Справедливо. Но, откровенно говоря, разве любое романтическое чувство не включает в свою «рецептуру» известную каплю горечи — то, что называют муками любви? И что главное, в момент, когда это чувство уже накрыло, в нас не возникает никакого протеста — настолько нам важно, несмотря на все терзания, прожить всю гамму ощущений сполна от начала до конца.
ОН: — Но и здесь нас мало что отличает от животных — тоже маятся, воют ночами, вступают в смертельные схватки с соперниками. Инстинкт размножения, не более. Или вы думаете, что, скажем, евнухам, сторожащим гаремы, тоже не чужда любовная лихорадка, и они тоже озабочены поисками личного счастья? По известным причинам у них и быть не могло подобных терзаний и тяги к романтическим приключениям — вот бороться за власть, другое дело. Так что нечего так высоко забираться, всё проще простого — физиология!
Я: — В вашем наигранном нигилизме мне слышится дурновкусие. И я бы предпочел уклониться от дальнейшего разговора, если бы вы не задели невольно проблему более существенную, чем вам могло показаться. Речь о том, что всё воспетое в поэзии, всё романтическое, рыцарское, жертвенное, упоительное и страстное, что мы вкладываем в представление о личном счастье, в самом деле, находится в странной зависимости от способности исправно совершать физический акт, мало чем отличающий нас от домашнего скота и прочих животных. И получается, что пусть мужчина или женщина щедро наделены всеми душевными качествами, располагающими к самому захватывающему роману, но в силу особых причин — травмы, болезни, каких-то генетических сбоев — оказались неспособны к банальному совокуплению или к деторождению, тогда им, действительно, отказано и в возможности изведать настоящее, полномерное счастье. Выходит, по-вашему, что всё богатство натуры и весь личностный потенциал вполне оправданно остаются невостребованными по той лишь причине, что находятся в заложниках у «низкого жанра» и самой примитивной, «дурной» тяги к размножению. Вам не кажется, что здесь снова какое-то немыслимое надругательство над лучшим, что есть в человеке? А это прямое следствие того, что вы свели всё к физиологии, разорвали, расторгли то, что дано нам ради восторга соединения. Неужели вы не ощущаете здесь саднящего душу диссонанса, а точнее — дикого вранья? Однако же это несоответствие устраняется простым пониманием, что либидо, или секс, при всей его колоссальной важности — далеко не средоточие всего того, что мы называем любовью. Вы слишком сузили ее значение, тогда как диапазон этого чувства неизмеримо шире и вообще напрямую не зависит от работы надпочечников или гипофиза. Перечтите на досуге историю любви Абеляра и Элоизы, или Данте и Беатриче.
Короче, физиология — это только один конец «струны», привязанный к земной органике и к короткому жизненному циклу, а другим концом мы прикреплены к тому, что безмерно и неуничтожимо, и без участия чего, наверное, невозможно было бы найти управу на тот же природный инстинкт, готовый, когда он «отвязан» от всех сдерживающих начал, сокрушать всё на своем пути. Хотя и в самооскоплении — в заведомом отказе от «низких» соблазнов мне видится безотчетный страх и, прежде всего, перед самими собой, перед свойственной всем нам потребностью включить на полную весь диапазон личности: от темной органики до поэтически возвышенного чувства. Многие поэтому, не находя в себе этой личностной отваги, предпочитают свальный грех коллективного благочестия с присущей ему враждебностью ко всему индивидуальному. Но напрашивается и другой вывод: всё богатство земной, чувственной любви становится доступным тогда лишь, когда в нас открывается «верхний диапазон» и появляется ощущение судьбоносной встречи. А это много больше, чем жажда обладания, присвоения, наоборот — появляется потребность выйти за границы своего эго, а то и пожертвовать всем ради другого. Поэтому в земной любви всегда есть что-то от религиозной взволнованности, а в любви к Богу — что-то чувственно возбуждающее, обостряющее восприятие и весенних ароматов, и изумительных подробностей, на которые безмерно щедр окружающий мир.
ОН: — Как хотите, но я не улавливаю никакой связи между плотской любовью, обусловленной генетической программой, которой мы рабски следуем, и проповедуемой вами любовью к Богу, где кроме недомыслия и болезненной склонности к экзальтации я ничего не нахожу.
Я: — Как раз именно в любви божественное начало незримо присутствует — в той мере, в какой в любви дает о себе знать воля к вечному обновлению жизни и, значит, готовность отважно противостоять всему, что несет в себе угрозу распада и гибели. Поэтому любви всегда «приличествует» трагический фон: с каким самозабвением поется о несчастной любви или горестной судьбе в португальских «фаду» или в русских романсах, не говоря уже о душераздирающих сюжетах, переполняющих оперный репертуар. Но и сама реальность демонстрирует «склонность» в наиболее романтических историях сплетать туго-натуго и самое счастливое и самое трагическое. Всё это еще раз позволяет предполагать, что у любви есть специальная функция или даже миссия — говоря сухим языком, это одно из самых действенных средств, с помощью которого вся сомнительность жизни, включающей смерть в свой технологический цикл, становится для нас нравственно приемлемой, обретает «легальный» характер, и мы только любя можем постичь и, наверное, принять эту, саднящую душу, правду жизни: всё то, что способно дарить жизнь, таит в себе одновременно и погибель; и еще: всё в нас наиболее ценное, что отмечено вечностью, несет в себе и горечь знания о наших земных пределах. Без чувства любви было бы невозможно принять этот жизненный оксюморон, который действительно «на холодную голову» может восприниматься как невыносимая издёвка над всем человеческим — над всем, что нам дорого.
ОН: — Вы меня совсем запутали. Как вы ни стараетесь войти в роль проповедника, но вам приходится говорить о сложнейших вещах языком беллетриста, что выглядит совершенно беспомощно рядом с суровыми и неотвратимыми законами природы, которые вам столь не по душе.
Я: — Я как раз уверен, что наша внутренняя жизнь тоже подчиняется незыблемым законам, хотя очень трудно дать им четкое определение — отсюда и «беллетристика». Но действие таких законов мы все прекрасно ощущаем, когда сталкиваемся с наиболее острыми жизненными диссонансами. Видите, как я и предполагал в начале разговора, мы всё-таки вернулись к затронутой вами теме: искусство, услаждающее мотивами страдания. Вот, опять же, пример того самого несоответствия, которое вне врожденных нам специальных «интегральных» инструментов предстает как дикая аномалия: в самом деле, искать эстетическое наслаждение и при этом доводить себя до слез от сцен насилия, жестокости и всевозможных бедствий, от «усекновения голов» или «Гибели Титаника» — чем это не такое же подозрительное смакование, какое свойственно людям с нездоровыми наклонностями, если думать об этом отстраненно, на холодную голову? Однако, будучи погружены в эмоциональную атмосферу искусства, мы почему-то оказываемся полностью защищены от подобной аномалии. Наоборот, благодаря искусным и, надо сказать, далеко не изученным еще приёмам — а ими владеют лишь высоко одаренные художники — внутри рамок художественного целого создаются такие специальные условия, при которых в корне меняются все привычные координаты: мы к своему удивлению обнаруживаем, что всё светлое в произведении искусства, как и всё низменное, уродливое и трагическое, убедительным образом преобразуется в общее гармоническое чувство, которое, вопреки сомнительному соединению удовольствия и мучительства, нас еще и нравственно поднимает, когда приводит к очищающему душу катарсису. Значит, если искусство способно, вопреки общепринятой норме, разрешать в себе столь острую ценностную коллизию и делать «легальным» то, что вне искусства воспринимается как извращенность, то здесь, в самом деле, можно говорить о действии какого-то мощного и непреложного закона, тоже своего рода нравственного императива, не уступающего по своей категоричности законам природы.
ОН: — Насчет очищающего катарсиса вы явно погорячились — похоже, вам давно не попадались на глаза фильмы или романы, где эстетизация садизма и иных патологий возведена в художественный принцип, что как раз пользуется огромным спросом. Я думаю, что те, кто планировал теракт 11 сентября, знали наверняка, что миллионы людей по всей планете будут, не покидая своих диванов, наблюдать за агонией Башен Близнецов, принимая это жуткое зрелище за очередной экшн.
Я: — Неизбежные издержки масс культуры. Однако со временем от этих образцов мало что остается, поскольку в подобной художественной продукции отсутствует главное — личность большого художника и настоящая выучка, мастерство, что легче всего компенсировать с помощью испытанных «гармональных» интервенций и провокаций. Но всё то, что эксплуатирует невзыскательный вкус пресыщенного и уставшего от жизни обывателя, не способно и трогать по-настоящему. Лишь самое талантливое, несущее печать неповторимой личности, может стать всеобщим достоянием и затем транслироваться в будущее, всегда восхищая и вызывая сильные аффекты. Вот еще один из удивительнейших законов, действующих в масштабах истории во всех культурах.
Хочу обобщить сказанное: только в соответствии с архетипическими, врожденными законами, действие которых обнаруживается лишь в самых глубинах интимного пространства, мы можем в искусстве или в любви, в религиозной вере или в философских исканиях «легально» совмещать в себе то, что никак не совместимо в повседневной реальности. Поэтому все парадоксы, возникающие на этом пути в принципе не могут разрешаться в публичном дискурсе, где действует всем известный принцип: истина рождается в споре. Выходит, кто-то о том позаботился, чтобы дать нам надежную защиту от посягательств со стороны вездесущего «здравого смысла», но снабдил при этом инструментами внутреннего постижения истины.
ОН: — Стало быть, и наш разговор останется безрезультатным. Вот в чем вы все мастера, так это не распутывать и упрощать, а действительно всё завязывать узлом. Знание и невежество, страдание и блаженство, смирение и бунт, любовь и смерть, красота и ужасы распада — вы здесь как рыба в воде, и потому так ловко выскальзываете из рук, когда вас ловят на противоречиях. Но я не стану этого делать. Пусть к вашему неудовольствию, но я остаюсь при своем мнении: появление человека — результат долгой и мучительной эволюции, и, если хотите, игры стихийных процессов, в результате чего природа, словно сослепу, наткнулась на homo sapiens, которого еще и надоумило провозгласить себя центром мироздания. Вот и всё! Но сегодня, судя даже по нашему диалогу, человеческие существа запутались окончательно. Не удивительно, что природе это вконец надоело, и вот она, похоже, пытается всеми способами абортировать этот свой плод, ощутив внезапно, что само существование людей — аномалия, ставящая под сомнение ее безраздельное могущество. И я ее в этом, как видите, поддерживаю.
Я: — Ну да, если считать опять же, что жизнь и человеческое сознание, словно в горячечном бреду, зародились случайно в некоем первичном бульоне, то и вопросов не возникает — материя с тем же успехом поглотит всё живое и даже сама этого не заметит.
ОН: — И всё-таки от моих прямых вопросов вы явно попытались увильнуть — побаиваетесь?
Я: — Скажу откровенно, если и можно было бы ответить на все вопросы, даже на самые «последние», это вряд ли бы привнесло особый смысл в нашу жизнь сверх того, что нам дано ощущать в счастливые ее моменты — когда любуемся красотой ландшафта, когда мы влюблены или испытываем творческий подъем — нам тогда не до сомнений, поскольку великий смысл происходящего для нас вполне очевиден, и даже не возникает никакого зуда, чтобы снова омрачать себя сомнениями и неподъемными вопросами — возможно, потому, что вечность в эти моменты совсем рядом. То есть на вопрос: «в чем смысл нашего существования?» — ответ возникает сам собой: «носителем истинного смысла является всё то радостное, в присутствии чего вопрос о смысле существования выглядит полной бессмыслицей».
ОН: — Но поскольку я не вхожу в число этих счастливцев, я всё же задам последний вопрос: а вы не думаете, что если бы Бог существовал, то он, скорее всего, оказался бы на моей стороне? Вспомните, ведь Иисус поднял настоящий бунт против своего небесного Отца, восстав фактически, как и мы, антинаталисты, против самой жизни — тем, что призвал к полному безбрачию: «Всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Да, за ним многие пошли, но те как раз, кто совершенно его не понял — лишь не в меру благочестивые и покорные, но никак не настоящие бунтари. И ваши бунтарские выпады против природы тоже выглядит детским капризом. А что, если Творец, уставший от раболепного заискивания перед ним, только того и ждал, чтобы, наконец, выпрямился человек во весь рост, погрозил небу и воскликнул: «хватит, недостойно так измываться над живой тварью, над священными чувствами, я отказываюсь быть соучастником этого всеобщего безумия!». Вот когда прославляемый вами Бог мог бы возликовать, зааплодировать и сказать: «наконец-то, человек, ты оказался достоин сам себя»!
Я: — Здесь я с вами вполне солидарен: мне так и представляется, что Библия — это по сути своей выражение наиболее радикального протеста против рабского приятия привычного хода вещей. В остальном же, судя по всему, мне не удалось вас переубедить. При том, что вы, по-моему, нравственно созрели для нового рождения в вере и, быть может, намного больше, чем я сам, но испугались и решили ретироваться, уйти в небытие. У вас свои счеты с жизнью. Но вы человек принципа, и в меня это вселяет оптимизм — значит, великие вопросы для кого-то еще не потеряли своего значения. И то, что мы ведем именно такой спор, и что, возможно, где-то на другом конце земли говорят сейчас на подобную же тему, означало бы для меня одно: человеческая история далеко еще не завершена. Поэтому я надеюсь, что для всех нас еще возможен выход из нынешних проблемных ловушек и, значит, предстоит новое активное вовлечение в поток жизни с верой, что человек и Творение — неразрывное целое. Но я бы хотел — конечно же, если вам это интересно, выразить робкую надежду на то, что рано или поздно и вас увлечет этот неостановимый поток, и вы полюбите жизнь.
ОН: — Вряд ли что-то способно меня переубедить. Вы зря думаете, что идея бога, вездесущего и всесильного, даже если вам удалось бы отмыть его репутацию добела, способна повлиять на мое решение. Скорее наоборот, мне вообще не нравится вся эта затея — ни с богом, ни без него, и я не хочу, не сумев справиться сам, перекладывать тяготы на других, тем более на своих гипотетических детей.
Как сказал ваш Тертуллиан: «верую, ибо абсурдно»? Так вы действительно верите в этот абсурд, который пытались мне только что проповедовать?
Я: — «Верую, ибо разумно» — вот как хотелось бы перефразировать, ведь доводы разума иногда вернее, чем свидетельства иного рода, помогают бороться с абсурдом жизни. Если бы на это не было никакой надежды, то… я бы оказался, скорее, на вашей стороне: в самом деле, дарить жизнь детям, таким удивительным созданиям, смышленым и беззащитным, любящим, впечатлительным и доверчивым — несомненно, это было бы слишком безответственно, поскольку без Бога жизнь сама по себе предстаёт абсолютно необъяснимым преступлением природы, во что совершенно невозможно поверить.
Иллюстрации: Анна Феткулина














