Наш мир становится всё более сложным — это общепризнанный факт. Возрастающая сложность картины мира, всё большая специализация разных научных дисциплин нередко требуют специализации и от журналистов, освещающих новости науки. Научный журналист — уже вполне состоявшаяся профессия. А значит, нужны пособия, по которым они будут учиться.. Поскольку не все университеты успевают за прогрессом, очень ценно, когда профессионалы начинают по своей инициативе делиться секретами мастерства. Книга «Полевое руководство для научных журналистов» (официальное руководство Национальной ассоциации научных журналистов под редакцией Деборы Блюм, Мэри Кнудсон и Робин Маранц Хениг), вышедшая в издательстве «Альпина Паблишер» в 2018 году, представляет собой сборник советов и лайфхаков от профи для их будущих, а также для уже состоявшихся, но менее опытных коллег.
Прежде чем говорить о содержании книги, вряд ли можно оставить без ответа вопрос — а актуальна ли вообще сейчас книга про научную журналистику в России? Если вспомнить шутку про «Зачем вам машины, если нет дорог?», трудно обойтись без сомнений — а имеет ли смысл вообще говорить о научной журналистике, если и наука, и журналистика в стране — в глубоком кризисе (взгляните хотя бы на результаты проверок ), и пути выхода из него пока как-то не очень просматриваются? С одной стороны, достаточно взглянуть на результаты проверок Диссернета, с другой — на рынок труда, где сейчас куда более востребованы пропагандисты, которые, на минуточку, вообще журналистами не являются.Научному журналисту, стремящемуся строго следовать этике и ищущему объективную истину, вряд ли будет просто найти работу — хоть в каком-то конкретном СМИ, хоть фрилансером. Плюс не следует забывать, что иногда поиски истины бывают смертельно опасны: Россия — вообще достаточно опасная для журналистов страна, в 2017 году вошедшая в десятку стран, где власти не расследуют убийства работников СМИ. Тем не менее, по возможности лучше всё-таки сохранять осторожный оптимизм. Ведь любые кризисы рано или поздно заканчиваются, а знания, кристаллизованный чужой опыт, как бы банально это ни звучало — ценность непреходящая. Изучить этот опыт, которым решили поделиться ведущие научные журналисты США, в любом случае будет полезно.
В конце концов, если наука и образование в кризисе, то научные журналисты особенно нужны — как раз для того, чтобы привлекать внимание к проблемным моментам. Представлять себе научного журналиста исключительно в качестве бодрого рупора, вещающего о блестящих разработках лекарства от рака или обильном плодоношении яблонь на Марсе — это упрощённое и ошибочное представление. Выход на рынок лекарств с недоказанной эффективностью, запрет импортных лекарств, причины неудачных космических пусков — для этих и множества других тем как раз в идеале нужны журналисты-специалисты. Недостатка же в подобных темах в России сегодня уж точно нет.
Для медицинских журналистов сейчас вообще раздолье — к примеру, наш российский фармацевтический рынок имеет весьма специфические черты, ноги которых растут не то из девяностых, когда одни регулирующие механизмы перестали работать, а другие еще не возникли, не то из запущенных коррупционных схем (эта тема ещё ждет своих исследователей). Если кратко, суть проблемы заключается в следующем: у нас назначается множество так называемых лекарств, которые, строго говоря, вообще не должны были пройти регистрацию. Речь идёт не только об арбидоле и ему подобных «противовирусных» средствах. Например, есть целая группа лекарственных средств под названием «хондропротекторы», которая чуть ли не полностью состоит из препаратов, эффективность которых не подтверждается нормальными научными исследованиями. В Европе и США артрозы, которые после определенного возраста настигают немалое число мужчин и женщин (последних — значительно чаще) «хондропротекторами» не лечат. В крайнем случае глюкозамин и хондроитин назначаются в качестве БАДов, но чаще всего люди пьют БАДы самостоятельно — раз безопасно, то пей, если хочешь, твое тело— твое дело, но чудес от БАДов никто никому не обещает, и страховки их не покрывают. В России же пациент с гонартрозом или коксартрозом хоть в частной клинике, хоть в государственной поликлинике или больнице получит, скорее всего, рецепты на лекарства, половина из которых лекарствами вовсе не является. И главная ответственность тут, судя по всему, всё-таки не на врачах, а на тех, кто эти сомнительные «лекарства» зарегистрировал и продвигает. Судя по содержанию бесед на сайтах, где обмениваются опытом медицинские представители, многие из них вполне отдают себе отчёт в том, что предлагают врачам назначать своим пациентам «фуфломицины». Но на данный момент лавину назначений разнообразных пустышек, гомеопатических или просто не имеющих доказанных лечебных эффектов, просто некому остановить.
Можно ещё вспомнить разнообразные приборы для домашней физиотерапии. Уж сколько раз твердили миру, что слабые магнитные поля никаких достоверных лечебных эффектов не оказывают — а тем не менее работающие на основе оных дорогостоящие игрушки продаются в аптеках и рекламируются по ТВ. Разве не отличная цель для журналистского расследования — выяснить, кому на самом деле принадлежат заводики по производству этих псевдолечебных игрушек, каким образом этими игрушками оснащают поликлиники и санатории, а также кто и за какой прайс пишет про них восторженные отзывы в Интернете? Но тут надо чётко понимать, что подобные расследования насколько актуальны, настолько же и опасны. Любой журналист, выбравший тему про чьи-то большие прибыли (а в случае с физиотерапевтическими игрушками они явно баснословны, поинтересуйтесь на досуге розничной ценой какого-нибудь Алмага), очень рискует. На что могут пойти те, кто с баснословными доходами расстаться не захочет, догадаться несложно. Поэтому здесь нужно отдельно ещё раз напомнить— деятельность российского научного журналиста будет носить высокорисковый характер. Да, работы непочатый край, но при попытке выйти за пределы уютной популяризации науки легко можно столкнуться с угрозами, уголовным преследованием, а в некоторых случаях и с опасностью для здоровья и жизни. Конечно, настоящая журналистика — в принципе работа опасная (это только пропагандистом, транслирующим линию партии, быть легко и приятно — да и то до поры до времени). Но не следует обольщаться и насчёт узкой журналистской специализации, связанной с наукой — настоящий научный журналист неизбежно рано или поздно столкнётся с настоящими, реальными рисками (не говоря уж про упомянутые выше проблемы с поиском работы). Впрочем, скорее всего с трудностями трудоустройства рано или поздно встретимся мы все, так что этот аргумент при выборе профессии вряд ли можно считать приоритетным. Кстати, даже занимающиеся на первый взгляд совершенно безопасной популяризацией науки авторы могут получить, к примеру, иски от обиженных гомеопатов. К счастью, в 2016-м году обошлось, «Национальный совет по гомеопатии» проиграл суд журналу «Вокруг света». Совсем недавно, в 2018 году, появилась новость, что суд «отклонил иск производителя гомеопатических препаратов ООО «АлексАнн» к Российской академии наук (РАН)». Доказательств эффективности своих препаратов гомеопаты представить не могут — приходится выезжать на старом добром плацебо-эффекте или просто фальсифицировать, зато объемы прибыли от продаж пустышек они явно представляют себе очень хорошо, поэтому можно ожидать, что атаки гомеопатов будут продолжаться.
Причём гомеопатия и «фуфломицины» — это лишь одна из многих проблем, для борьбы с которыми нужны журналисты от науки. Если средство, позиционируемое как лекарство, на самом деле не лечит — это, конечно, плохо, но есть и куда более опасные последствия победы глупости над наукой и здравым смыслом. Антипрививочники не менее активны, чем гомеопаты — а результаты их активности могут оказаться фатальными. Один из первых российских научных журналистов, Алексей Водовозов, считает, что за участившиеся сейчас вспышки кори в разных странах нужно «благодарить» как раз антипрививочное движение: «Например, в 2016 году в штате Миннесота была зарегистрирована вспышка с 73 заболевшими, 68 из которых не были привиты. Причина заключалась в том, что в 2004 году прививки от кори сделали 92% детей выходцев из Сомали, а в 2016-м — только 42%. Тогда массовые отказы были связаны с визитом в штат «иконы» антипрививочного движения Эндрю Уэйкфилда, который убедил родителей обходиться без вакцин. Интересно, что среди детей американцев не сомалийского происхождения, которые жили там же, никакой вспышки заболевания не было: 89% детей были привиты».
Специализация знаний, по большому счёту, сама по себе представляет собой проблему, поскольку она не только ускоряет прогресс — она, увы, несёт в комплекте ещё и большие риски. Средний обыватель может задремать от перечисления скучных статистических данных об эффективности вакцинации, но громкие заявления антипрививочников могут показаться этому самому обывателю понятными и оттого убедительными. Укротитель Чёрных лебедей Нассим Талеб высказывает мнение, что мы в принципе склонны упрощать, нам так проще взаимодействовать с окружающим миром, а ещё напоминает, что «Даже самого большого интеллектуала абстрактная статистика трогает меньше, чем эпизод из жизни» —и, если принять его гипотезы в качестве рабочих, то получается, что громкие популистские заявления чаще всего будут обречены на успех (практика, увы, это регулярно подтверждает). И хорошо обученная интернациональная армия научных журналистов тут будет как раз очень кстати.
Так что книга «Полевое руководство для научных журналистов» появилась очень и очень вовремя. Редакторы книги прямо говорят об этом в предисловии: «Былой заповедник умников и умников, о которых пишут эти умники, эволюционировал, став одновременно и более сложной областью, как и сама наука, и более обыденной. Важнейшие вопросы сегодняшней политики — исследования на эмбриональных стволовых клетках, глобальное потепление, реформа здравоохранения, изучение космоса, генетика и право на частную жизнь, биологическое оружие — накрепко связаны с научными идеями. Научная осведомленность еще никогда не была так важна для обычной публики».
Впрочем, представлять себе научных журналистов из США, страны, у которой дела обстоят в принципе весьма неплохо, и с наукой в том числе, исключительно как рассказчиков об успехах науки будет ошибкой — несомненно, журналисты там защищены значительно лучше, чем, к примеру, в странах с гибридными режимами, но далеко не всегда все радостно спешат делиться с ними информацией. «Сет Шульман, журналист, который писал о токсичных отходах и правительственной цензуре науки, как-то сказал мне, что его определение журналистского расследования — это «история, которая не хочет, чтобы ее рассказали». Поэтому в расследованиях «слитые» отчеты и конфиденциальные записки так часто играют важную роль. Иногда материальный «бумажный след» — единственный способ узнать, что на самом деле думали люди. Быть научным «детективом» — значит смотреть на вещи критичнее. Я, например, обычно предполагаю, что ученые рассказывают мне не все. Я всегда думаю о тайных мотивах. И что касается научных данных — я тоже думаю, что здесь можно задавать трудные вопросы. Обычно факты безобидны, мотивы — невинны, а с наукой все в порядке. Но не всегда. Чаще, чем вы думаете, немного покопав, можно найти свидетельства нарушений этики, коммерческих связей или просто плохих исследований». Это цитата из главы книги, написанной Антонио Регаладо, научным корреспондентом журнала Wall Street Journal. Нужно отметить, что структура книги «Полевое руководство для научных журналистов» достаточно необычна — у неё три основных редактора и множество авторов — научных журналистов из разных журналов, университетов, а также фрилансеров. Книга состоит из шести частей, и каждая из частей посвящена определенной теме, причём своим опытом и соображениями по каждой из них делятся несколько профессионалов, что представляется особенно ценным, поскольку тема освещается максимально полно и многогранно. Темы сформулированы достаточно емко, например, «Часть четвертая. Освещаем науки о жизни». И если книга научного журналиста Мэтью Шипмана «Научная коммуникация», вышедшая в издательстве Альпина нон-фикшн в 2018 году, представляет собой лаконичные рекомендации для научных пресс-секретарей и журналистов, то «Полевое руководство для научных журналистов» — это, по сути, целый экспресс-курс, подробный и обстоятельный.
Поскольку проблемы с доказательствами эффективности лекарств, судя по всему, интернациональны, да и антипрививочное движение заражает умы граждан в очень и очень многих странах, вполне ожидаемо, что в книге немало внимания уделяется медицинской тематике. Профессионалы подчеркивают, как важно тут для журналиста быть критичным и въедливым. Мэрилин Чейз, медицинский репортер Wall Street Journal, прямо предупреждает: «Когда журналисты пишут об исследованиях в области терапии, ими легко манипулировать. Компании, которые пытаются привлечь финансирование в разгар решающего клинического испытания, могут предложить вам посмотреть некоторые данные или взять интервью у пациента, который чудесным образом излечился с помощью их препарата. Опасайтесь таких фрагментированных данных, которые опускают неудобные факты, что всем остальным лечение так не помогло. История одного пациента — это единичный случай. Он не говорит об эффективности препарата — для этого нужны данные обо всех пациентах. Так что, если вы используете такие истории, делайте это с осторожностью. Ищите баланс между обещанием исцеления и возможными рисками. Сообщайте читателям, что из одного случая, каким бы убедительным он ни был, нельзя сделать выводы». (Это цитата из главы «Инфекционные болезни», написанной Мэрилин Чейз для части «Освещаем науки о жизни»).
Хочется отдельно отметить принципиальный момент, на котором авторы сделали особый акцент: «Традиционная журналистика стремится к объективности, давая слово обеим сторонам в любом споре. Но часто бывает, что в ожесточенных научных спорах поиск «другой стороны» — медвежья услуга читателю. Не следует цитировать маргинальные точки зрения — тех, кто считает, что ВИЧ не вызывает СПИД, не верит в эволюцию или считает Землю плоской — только потому, что они существуют. В научной журналистике больше, чем где бы то ни было, баланс точек зрения требует не просто предоставить одинаковое количество строчек каждой стороне. Он требует авторского мнения, контекста и понимания, когда некоторые точки зрения нужно просто игнорировать». Не всякое оружие можно купить без соответствующей лицензии, некоторые вещества маркируются как опасные (и должны находиться вне доступа детей или людей, утративших дееспособность) —возможно, аналогичного принципа следует придерживаться и с некоторыми идеями? Пометить их мысленно как потенциально опасные и соблюдать в обращении с ними специальные правила, ведь вирусные идеи антипрививочников или апологетов гомеопатии живучи и заразны — практически как обычные вирусы (которые примитивно устроены, давно известны и в принципе изучены —но, тем не менее, большинство из них никак не удается полностью извести).

Поскольку никто в здравом уме и доброй памяти не стремится сознательно способствовать распространению вирусных инфекций, целесообразно придерживаться подобного принципа и относительно лженаучных вирусных идей. Не нужно помогать их распространению, эти идеи и так успешно циркулируют в головах обывателей, которые, к сожалению, не могут все поголовно быть экспертами в разных сферах наук — и потому легко могут поверить мифам либо довериться недобросовестной рекламе.
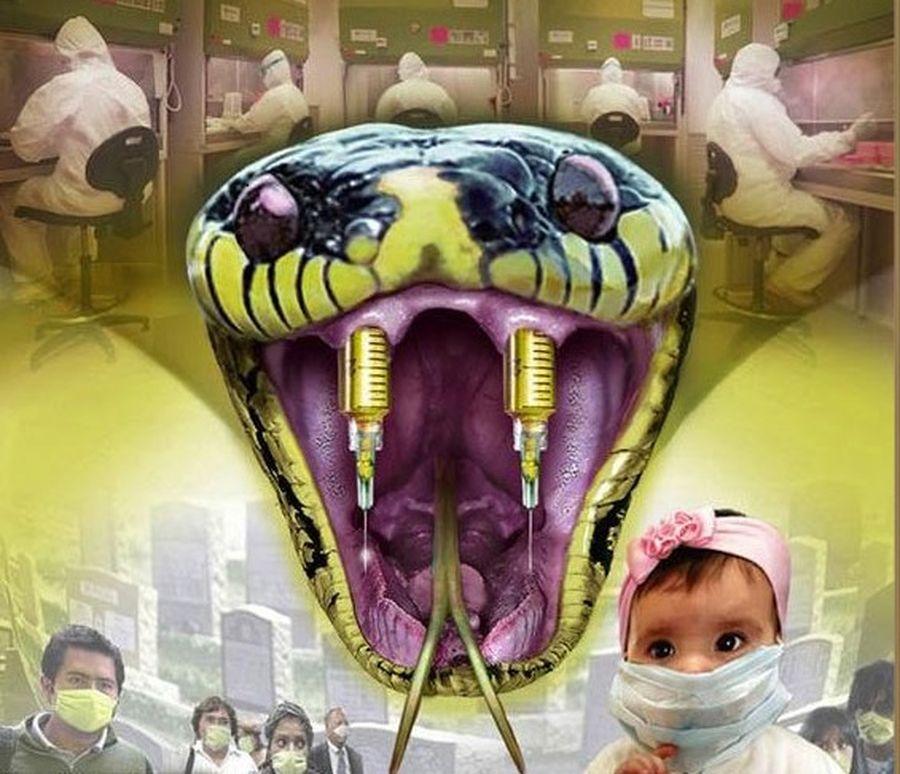
Не обойдён вниманием и ещё один важный вопрос — как научному журналисту завладеть вниманием читателя, вся первая часть книги посвящена обучению мастерству. Интересно то, что профи расходятся во мнении, на какого усредненного читателя следует равняться — кто-то предлагает работать над текстом, представляя перед собой умного обывателя, а одна из редакторов книги, Дебора Блюм, вообще ставит перед собой архисложную задачу: «Мне помогает образ конкретной читательницы, которую наука вообще нервирует и которая бросит читать мой текст, как только я подсуну ей многосложный медицинский термин. Да, ей. Моя читательница — пожилая женщина в бигуди, которая засыпает над газетой. Если уж я смогу захватить ее, поймать знающего толк в науке читателя проще простого». Почти 500-страничная книга, кстати, читается вполне легко, что служит дополнительным свидетельством того, что авторы — настоящие профессионалы. Поэтому, кстати, «Полевое руководство» вполне можно рекомендовать не только журналистам и выпускникам школ, приглядывающимся к журналистской стезе — эта книга вполне может понравиться широкому кругу самых разных читателей. Во-первых, читатель узнает множество новых интересных фактов (авторы интересно и подробно рассказывают о своей работе), а во-вторых — и это, возможно, главное — книга вполне может поспособствовать развитию критичности восприятия. Это очень ценно, ведь вредный въедливый обыватель уже не будет легкой мишенью для мошенников, не станет лечить онкологию гомеопатией и вряд ли станет бояться прививок и ГМО.
В заключение приведу последние слова эпилога «Полевого руководства»: «К счастью или несчастью, научные журналисты служат привратниками. Возможно, они должны быть защитниками — не ученых, а науки, как набора принципов. Это может быть неудобной ролью для профессии, которая должна ценить нейтральность и уравновешенность, беспристрастность и свободный разум. В какой-то момент нейтральность должна уступить место здравому смыслу. Опросы общественного мнения продолжают показывать, что кругом верят в магическое исцеление, экстрасенсорные способности, привидения и ясновидение. Как и креационизм, все это абсурд. Или, если вам это слово не нравится, можно сказать «чушь», «самообман», «вздор», «галиматья». У всех этих течений есть харизматичные и хорошо одетые представители. Если уж научные журналисты не будут отделять правду от демагогии, кто же тогда будет?»












