Рука у сердца
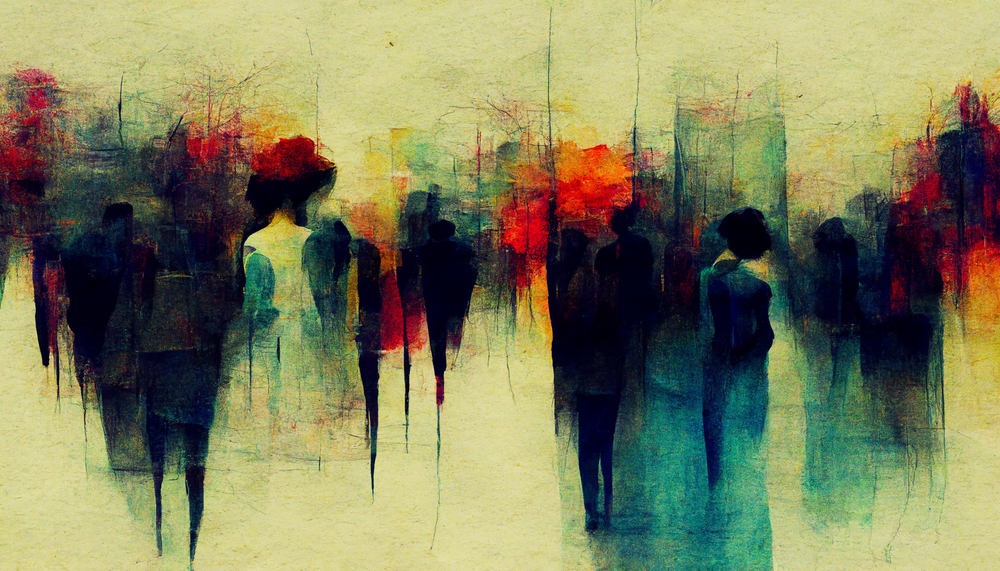
Иллюстрацию о мгновениях жизни, выстраивающихся в беспрерывный сердечный ритм, нарисовала нейросеть MidJourney
Публикуем рассказ писателя-метареалиста, художника Сергея Соловьева о поисках духовной правды среди индийских джунглей, мюнхенских улочек и московских клубов. Насыщенную образами метафизическую прозу «Рука у сердца» автор сопровождает художественным чтением, воспроизводя поток сознания об иллюзорности мышления, опыте депрессии и мгновениях подлинной близости с жизнью.
Как ни странно, но счастье или, скажем мягче, радость жизни занимает довольно скромное место в литературе. Нельзя сказать, что опыт радости менее свойственен человеку, но литературе он как-то сопротивляется. Возможно, по самой природе — этот опыт, похоже, по преимуществу внесловесный. И еще, возможно, потому, что счастью, в отличие от страданий, труднее сопереживать, на чем во многом и держится читательский отклик. Но что-то в этой загадке остается еще, не покрываемое этой логикой. У меня в написанном в разные годы было немало мест, вдохновленных этой открытой и почти безоглядной радостью жизни, хотя не сказать, что в слове они стали тем, как я это чувствовал или хотел. И вот сейчас, если бы передо мной стояла задача: выбрать пять-шесть страничек из всего написанного мной, я бы, наверно, взял не из них, но и не из «тёмных», а вот эти, из полутени. Этот текст сложился на полях романа «Улыбка Шакти», по мере ее написания. Трудно сказать, о чем он. «Мгновенья настоящей близости с жизнью — бесчеловечны». Наверно, об этом. Но скорее, в том, что между абзацами, фразами, между словами — где порой просвечивает то, что сторонится речи. Верней, есть надежда, что это может случится.
Тихая мюнхенская улочка, где живу-не-живу. Липы, акации, булыжная мостовая. Дом с выходом во внутренний дворик с садом. Птицы, белки, куница. И ничейный трехцветный кот-женщина — бродит по ночной округе, а утром стучит лапой в окно, медитативно осматривает комнату, разглядывает картины. Ни покормить его, ни приласкать. Любое из благих намерений он еле терпит. Люди, кажется, навсегда выбыли из его восприятия. Люди, дни, времена года. Он впрыгивает на стол и пьет из цветочной вазы. Я зову его Пришвин. Варя Пришвин. А соседку — медсестру рукопашной комплекции — зовут Герта. Отец ее был в гитлер-югенд, в первый же бой вышел с поднятыми руками. Сын у Герты от неизвестного мужа, и два любовника — оба Вольфганги. Ходят к ней в будни попеременно, а по праздникам — вдвоем, в обнимку и навеселе. Выше этажом живет Урсула. Ребенком, еще до революции, ее вывезли из Питера. Первым мужем был немецкий композитор, погиб в расцвете. Вторым — австрийский барон, оставивший ей наследство и замок. Третьим — жиголо, итальянец, всё промотал и исчез. Детей нет, и родни не осталось. Как-то чинил у нее телефон, вроде наладил, и говорю: надо бы позвонить кому-нибудь, проверить. Долго листает ветхую записную, испещренную меленьким почерком. Этот, говорит, умер давно, эта тоже, и тот, и на эту последнюю букву. Alle tot, говорит, все умерли, все! И смеется — так по-детски, до слез, но беззвучно, и остановиться не может…
Незадолго до смерти Антонен Арто был заточен в Дом умалишенных, где провел шесть лет. Некоторое время его лечили электрошоком, сеансы которого, как он писал главврачу клиники, лишают памяти, от них цепенеет мышление и сердце, делают его отсутствующим в мире, причем, пишет он, я знаю, что отсутствую и оттого целыми днями занят поисками своего бытия, как мертвец среди живых. После одного из таких сеансов у Арто ломается спинной позвонок, надолго приковывая его к кровати. Он пишет длинные письма, просит главврача наконец дать ему зубную щетку, которую ждет третий месяц, чтобы чистить оставшихся восемь зубов.
История с заключением Арто в клинику странная и до конца не проясненная. Вернувшись в 1937 году во Францию из Мексики, где в джунглях впитывал опыт трансовых шаманических мистерий и психоделических снадобий, он каким-то образом приобретает трость Святого Патрика, считая, что это также атрибут Люцифера и Христа, и отправляется в Ирландию, чтобы вернуть ей эту реликвию. Там он попадает в тюрьму, затем его депортируют во Францию, кладут в психушку. Ему пытается помочь Андре Бретон, другие его друзья, но вызволить его на свободу не удается.
Письма эти необычайны — как если бы «Записки сумасшедшего» исходили не от Поприщина, а, скажем, от Мейстера Экхарта, совмещенном с Рембо времен «Озарений». Письма, в которых он на практике воплощал то, что писал в «Театре и его двойнике» — сдирая кожу с мнимой реальности, начиная с себя. На этот страшный период приходится, как ни странно, один из высочайших его творческих подъемов.
На журнальном столике у моей кровати уже долгое время лежат две книги. Одна из них — недавно изданный четырехсотстраничный том Арто. Читая по щепоти, я дошел в этом сумрачном лесу пока лишь до его середины.
Как странно, уже двадцать лет моей жизни в Мюнхене. Но там ли я, жил ли? Всякий раз, идя по улице или гуляя в парке, вздрагиваю, вдруг слыша немецкую речь. И доходит не сразу, где я. Нередко спрашиваю себя: а как бы мой дед, прошедший войну, отнесся к этому переезду? В тот день в сорок первом, когда Киев бомбили, бабушка с девятилетней мамой были на дебаркадере, оборудованном под плавучий санаторий, дед на весельной лодке переплыл Днепр под рвущимися бомбами, взял жену с дочкой и, когда они в квартире слишком долго собирали вещи в эвакуацию, вытолкал их налегке, выбросил ключ, посадил в эшелон и ушел на войну. Считаные случаи в его жизни, когда, к удивленью знавших его, вдруг так решительно проявлял себя. В той самой жизни, где все мы в какой-то мере проявляемся, а о нем и этого не сказать, бог весть в каком измерении он пребывал, кроме тех считаных раз.
Другая книга — индийские записи художника Василия Верещагина, он дважды в конце девятнадцатого века путешествовал по Индии. Этот дневник вела с ним его жена, хрупкая немка Элизабет, родом из Мюнхена, «слабая и мизерная», «старушка милая», как говорил о ней Верещагин, женщина, с которой он прожил долгие годы, путешествуя по России, Сирии, Палестине, Тибету… Хотел найти ту часть их путешествия, где они посещают древние буддийские пещеры Аджанты с фантастическими росписями, соотносимыми по красоте с фресками Помпеи. Его записи были бы тем интересней, что в ту пору пещеры только недавно обнаружили в дремучем ущелье глухого безлюдного края на севере Махараштры, где обитали лишь тигры и местные племена. Говорят, при создании этих росписей две тысячи лет назад, чтобы хоть как-то видеть в полутьме, живописцы выстраивали вереницу медных зеркал от входа к дальним углам, где велись работы. А расписывая своды, сверялись с отражением в воде на полу. Когда пару лет назад я оказался там, долго бродил в свечении сумрака, выбыв из времени, как по улочкам затонувшей Атлантиды.
Человек, говорит Кафка, легковесен, подобно взлетающей пыли… Нет, не это. Есть лишь два греха — нетерпение и небрежность. Из-за нетерпения мы изгнаны из рая, из-за небрежности не можем туда вернуться. А может, говорит, только один — нетерпение. Из-за него изгнаны, из-за него же не можем вернуться.
Накануне той поездки в Индию был у отца на мюнхенском кладбище. У отца, детдомовца, до конца дней оставшегося верным жизнелюбию и достоинству. У нас была редкая связь, какая между людьми едва ли случается. И вот он ушел, меня не было рядом. А перед тем пробежала трещина, по недоразумению, и всё никак не могли поправить — чем больше пытались, тем больнее и неразрешимей. Таким и осталось уже навсегда. Десять лет со дня его смерти я не был на его могиле. То есть был, но поддерживая маму, с которой они разошлись, когда мне было шесть. А прийти один — не мог. Серенький день, моросил дождь, я не знал, как начать, куда при этом смотреть, где он, где я… Что-то говорил, чувствуя, что каждая фраза фальшивит, что всё не о том, не так, не я… Чем дальше, тем хуже. И это тихое мюнхенское кладбище — не из нашей жизни, ни его, ни моей. Отошел. Вернулся. Попросил прощения, и это было еще хуже. Его нет нигде. И в то же время он был рядом, во мне, а я не знал, куда повернуть голову. Между явью и сном. И Аджанта, и могила отца, и все эти бесконечные миры, текущие сквозь вереницу незримых зеркал.
В дневнике Верещагина ни слова об Аджанте, речь идет лишь о небольшом периоде одного из двух их странствий в Индию — о Гималаях. Верещагин тогда задумал взойти с женой на Эверест, куда ни один человек в то время еще не отваживался. Пошли они в самый неблагоприятный сезон в сопровождении двадцати местных кули, на высоте свыше четырех тысяч метров кули исчезли, они остались вдвоем. Солнце сдирало кожу с лица, а одежда на спине покрывалась сантиметровым льдом. Богатырь Верещагин едва стоял на ногах, продолжая рисовать коченеющими пальцами, впиваясь заплывшими глазами в невиданно ослепительную красоту. Потом укрыл жену, засыпаемую снегом, оглянулся на нее в последний раз — оба понимали, что наверное больше не увидятся — и пошел вниз искать кули.
Вот так выйдешь-войдешь — в лесок, в слова-чувства, в-на-минутку-другое — и уже не вернуться в себя. Даже если вернулся, и вроде бы это и есть ты. Разве тот ребенок, кем ты был когда-то, или тот юноша, которого едва помнишь — это они в твой смертный час умрут с тобою? Сойдутся в этот миг — из разных далей, родные, неузнанные, все, кем ты был — и исчезнут. Или не все?
Джидду Кришнамурти в свои девяносто за месяц до смерти говорит, сидя под деревом перед людьми: вы хотите знать, откуда появляется птичка? Каков процесс творчества, что стоит за всем этим? У источника нет имен, источник абсолютно спокоен, он не жужжит.
Мама спрашивает, проходя: может картошки пожарить на ужин? И жизнь всё льется, как вода в квартире, из которой ушли.
Нет путей просветления. Один рис сеет, другой левитирует в духовных практиках, третий книгу пишет, а на деле никто никуда не движется, тот же лес, с той же радостью и смертью, и никаких ключей, истин, мудрости, человек рассеивается, как утренний туман, кто его помнит? Но спрос людской на эти ключи неизбывен, и протаптываются тропки внимания, намоленные — к старцам, философам, разного рода учителям. И никто никому помочь не может, они и сами себе не в помощь, эти учителя, и часто куда неустроенней у них внутри и бедовее, чем у того же сеятеля риса. Похоже, на этих путях духовных практик, да и, прости господи, творческих, связь с живой тканью мира сужается, слабнет. Кажется, что наоборот, но нет.
Я, человек, говорит Кришнамурти, обращался к индуизму, буддизму, христианству, исламу и считаю что все они — лишь слова. Я оградил себя стеной — стеной, которая есть я сам. И живу с этим миллионы лет. Я стараюсь выбраться из этого с помощью учения, чтения, обращения к гуру, ко всякого рода вещам, но в результате лишь пепел. Я ясно понял наконец, что мой ум сам является иллюзией. Я хочу положить конец времени, психологическому. Понимаете? Разве не является оно источником человеческого страдания? Надо забыть все, что знали про себя прежде, начать, словно не знаешь о себе ничего. Истина — страна без дорог, к ней нельзя приблизиться каким-либо путем. Есть твой ограниченный ум, та ловушка мышления, сродни книге, которую читаем, забывая, что это книга, бумага, переплет, переворачиваемые страницы. В ловушке эго, индивидуальности, которых нет. Есть человек, один, единый. Как есть натрий в природе. И любовь — не твоя или моя, та или эта, а просто есть — как натрий.
А еще? Что чудеса побеждают, что именно они и есть настоящая реальность? Но как это примирить? Держать удар, говорят, имея в виду тяжкие события, драматичные, если не трагические, а держать удар счастья, держать удар переизбытка чудесного — это ведь не меньший вызов.
А еще? О радость, радость, дети мои, не обижайте ее в себе и вокруг, пока ангелы печали сучат из вас нити!
А еще? Мгновенья настоящей близости с жизнью — бесчеловечны.
И солнце ручку золотит, да, ромалэ? А еще?
Две женщины. С одной — чуткое речевое счастье, как бы жизнь ни была темна. А с другой — связь такой небывалой телесности, что все остальное рвалось и снова срасталось как разъятое тело — одно на двоих. Ближе кожи была и дальше звезд.
Нет их. И третьей нет — дочери. Погибла. Упала с балкона. Или? Нет свидетелей. Еще жива была — около часа, лишь моргала, вся сломанная, пока в реанимацию везли. Девочка, как твое имя? — спросили в клинике. Женя, — ответила, и ее не стало. В тридцать лет. Лучезарная, длинноногая, безоглядно открытая, такая моя, что родней не бывает.
В тот год, когда вдруг проговорился ей, десятилетней, что я ее отец, вскрикнула, захлебнувшись счастьем: Папа, папочка, я знала, чувствовала! А потом маме моей пишет в Мюнхен: ты не волнуйся, я позабочусь о нем, вот только немножко окрепну душой и телом.
Окрепла, и случилась любовь, настоящая, все сметающая на пути, с мусульманином из Оксфорда, жили в небе, листая страны… А потом — оползень отношений, он вдруг исчез, отсиживался в Эмиратах. Шла до конца, боролась, отчаянно, погружаясь все глубже в депрессию. И погибла. Потому что нет, говорила, жизни без любви —настоящей, единственной, с ним.
Может, дело в подмене «я»? Когда приходит депрессия, поначалу кажется, что еще справляешься и что это всё еще ты. Но постепенно расстановка сил меняется: там, где был ты, твое я, там уже твой «сменщик». Это он, воспринимаемый тобой как твое «я», мучительно вглядывается в происходящее, видит его безвыходным, принимает решения. И нет у тебя того привычного себя, который сказал бы: брось, это не ты и картина мира совсем другая, не поддавайся. Там — сменщик. Это он, а не ты, принимает решение покончить с собой — с тобой.
Однажды, в один из моих приездов в Москву, ей было, кажется, девятнадцать, она недавно поступила в университет на лингвистику, гуляли с ней поздним зимним вечером по Замоскворечью, зашли в клуб-квартирник «Третий путь», музыка, много народу, сидим у барной стойки, разговариваем, попиваем что-то коктейльное — одно, другое, и так хорошо на душе, и хмель такой неявный, но кажется, и ему, хмелю, так хорошо с нами — сидеть, разговаривать, чуть покачиваясь в такт музыке. Я отлучусь на минуту, говорю ей. Иду в туалет, возвращаюсь, а там, на выходе, закуток между баром и танцевальным залом, блюз звучит, тени топчутся и световые мурашки по стенам и потолку плывут. Но всего этого я уже не вижу. Потому что давно стою, обняв женщину, обнявшую меня. Я столкнулся с ней прямо на выходе, в темноте, так, что и лица не увидел. И вот мы стоим, прижавшись друг другу, еле касаясь губами, ресницами, глаза у меня и прикрыты, но и не нужно видеть, потому что все уже произошло, она здесь, со мной, мы одно, единое, навсегда. Разве спрашивают имя у навсегда, разве заглядывают в лицо единому? Просто была одна жизнь, и кончилась, верней, началась, настоящая: я нашел ее — единственную, такую родную, мою. Я все стою с закрытыми глазами, а она тихо отдаляется, как отплывает, но мне не страшно, потому что мы нашли друг друга и уже ничто не может нас разлучить, выронить, потерять. Она где-то здесь, как и я для нее — где-то здесь. Мне светло и спокойно, только сердце подрагивает, но не от тревоги, от счастья. Возвращаюсь к барной стойке, мы продолжаем о чем-то разговаривать с Женькой, что-то еще заказываем, я вижу ее губы, но голоса не слышу, то есть и слышу и нет — меня относит туда, в только что случившееся. Да ты не слушаешь, говорит она, где ты? И я сбивчиво рассказываю ей о только что случившемся. У нее такое лицо изумленное. Разве ты, говорит, не понял? Это же была я.
Нет ее. И мира с незаметно вошедшим в него сменщиком. И некому ни сказать, ни услышать: это не ты, не ты…
Когда-то в Крыму, ей тогда было около четырнадцати, мы вышли ночью на гурзуфский пригорок, чтобы выбрать себе две звездочки на небе, рядом, чтобы всегда, где и когда бы мы ни были врозь, могли найти друг друга. И здесь, и после смерти. И было очень важно настроиться перед этим выбором, чтобы чувствовать действительную неслучайность в нем, и еще чтобы это было такое созвездие, которое можно было всегда найти в небе. И выбрали, всё получилось. На днях нашел ее письмо того времени. «Кассиопея и наша с тобой звездочка повсюду следуют за мной, оберегают, словно ты, словно мы, вместе, навсегда. Возможно, через сотни тысяч лет там будем мы на веки вечные. Мечты, они исполнятся, я верю, и ты верь. Наша сила безгранична».
Где-то в той дали, которая движется своими тропами, оставляя смутное двоюродное чувство. Так и остановка моя называлась на трассе Симферополь — Ялта: «Тропка». По требованию. А следующая — «Свидание». Нечаянное? Не помню, я выходил раньше. В том краю. Сидел в саду под деревом зреющего инжира, смотрел на море в серебре, на опустевший поселок, на дачу Чехова вдали внизу, на трех сестер у воды. В доме Геши, в пустынном солнечном доме, откуда разъехались гости. Остались лишь мы вдвоем и Чёс — большой рыжий барбос. Геша, высокий ладный человек, воспитанный морем и безоглядной свободой. С мягкой печалью в глазах и тихой песчаной улыбкой. Как бы с неловкостью за эту свободу — смертную. Геша наверху, латает крышу, поглядывает на меня, нет, ему не нужна помощь, просто слегка смущенная радость — оттого, что оба мы здесь, рядом, что, может быть, на днях пойдем в горы на несколько ночей. Горы уже меняют свои шали на желтые и багряные, но и зелень еще держится. А потом, когда к берегам подойдет ставрида, а вослед и дельфины, возьмем лодку и пойдем на рыбалку. И однажды утром проснемся: снег, и горы лежат, как Венеры в мехах. Сижу под инжиром, читаю Гоголя. Которого нет нигде — ни в России, ни в Украине. В Риме душа его, говорит, и к гробу Господнему едет в Иерусалим, а приехав, не выходит из тарантаса, сидит под дождем в пригороде, не нужен он мне, шепчет, и уезжает. Гоголь как Заколдованное место, как Майская ночь между Западом и Востоком. Может, пока закопаем его в саду, спрашивает Геша с крыши. Это он о чеховском ружье. Шурик, школьный друг, перебравшийся в Москву, принес его, чтобы Геша пока припрятал, а через несколько дней Шурика убили. Давно это было, в девяностые, с тех пор ружье лежит под кроватью, завернутое в детское одеяльце. Да и чеховское ли? Третий акт, видно, будет без нас — без людей.
Сменщик, Кассиопея… Это не ты, не ты… Есть цель, и нет никакого пути, говорит Кафка, путь — это наши сомненья.
Из Индии Верещагин привозит в Париж, где живет в ту пору, двух обезьянок. Немного дрессирует, уча реверансу с поклоном. Одна из них поддается, а другая ни в какую. Живет он в доме с садом, выходящим на улицу. Обезьяны резвятся и порой пугают прохожих. После нескольких случаев посерьезней, администрация настаивает, чтобы он ликвидировал обезьян. Верещагин убивает из ружья первую, стреляет во вторую, смертельно ранив ее. И она, та, которая «ни в какую», встает в рост и, глядя ему в лицо, приложив руку к сердцу, начинает кланяться, кланяться… Верещагин не выдерживает, передает ружье слуге, уходит из дому.
В 1904 году у Порт-Артура Верещагин гибнет при взрыве броненосца «Петропавловск», где, по словам уцелевшего очевидца, в этот момент стоит на палубе, заканчивая рисовать очередной этюд. Могила Верещагина — дно Желтого моря.
Трудные сны, муторные… Медленные пули плывут, как рыбки, а они стоят на дне Желтого моря, Желтого дома — Арто, Верещагин, милая старушка Элизабет. И кланяются, кланяются с рукой у сердца…
Дед мой, промолчавший почти всю жизнь и оставшийся загадкой для всех, кто его знал, сидевший при Махно, Врангеле и красноармейцах, гонявший чаи с Циолковским в Калуге, прошедший без единой царапины всю войну сапером, вернувшийся в звании капитана, совсем облысевший, но с прежними молодыми глазами, оставшимися такими до последних дней, когда подолгу стоял у окна, глядя в небо, вздыхая: о-хо-хо, скоро в космос… И переходил на латынь. Дед мой, Лёня, родившийся в девятнадцатом веке, был сбит автокраном, шедшим в колонне из Чернобыля в те майские дни.
Здесь, в мюнхенской квартире, недавно искали с мамой его медаль «За взятие Берлина», так и не нашли. Лет двадцать назад пригласила меня знакомая аргентинка, танцовщица, поучаствовать в ее в спектакле «Обувь и облака», где я должен был играть советского солдата. Я надел военно-полевую форму и медаль деда, спектакль был в центре Мюнхена, возвращался поздним вечером, не переодевшись, ехал в трамвае, полном немцев, по тем улицам, где начинался фашизм. Примерно в том возрасте, когда дед брал Берлин. Его и оставили там, в Берлине, на несколько месяцев после войны, назначив начальником одной из товарных станций, откуда шли на Восток составы, груженные трофеями. Вернулся он налегке, с чемоданчиком, в котором был отрез крепдешина жене и дочери, пара перочинных ножей, перьевые ручки и карандаши.
Иногда, говорит Кришнамурти, люди размахивают передо мною морковкой, и я следую за ней взглядом. Но я понимаю, что в действительности нет никаких морковок, нет ничего. Давайте поставим вопрос иначе: есть ли реальная возможность для времени окончиться — имеется в виду вся идея времени как прошлого — окончиться хронологически, так, чтобы вообще не существовало никакого завтра? Но что же, спрашивают его, делать человеку, совершившему эту переправу, выпутавшему свой мозг из времени и вошедшему в этот дом пустоты? Жить, говорит Кришнамурти.











