«Дискурс» устроил встречу двух людей, влюбленных в Пушкина и способных вглядываться в него до полного растворения. Историк русской литературы, автор множества публикаций о Пушкине Андрей Кунарев поговорил с поэтом и переводчиком Джулианом Генри Лоуэнфельдом. За книгу «Мой талисман: поэзия и жизнь А.С. Пушкина» Лоуэнфельд, первым из иностранцев, удостоился литературно-художественной премии «Петрополь». Его переводы — единственные из существующих — сохраняют ритм оригинала. В его речи угадываются пушкинские интонации. Да и стихи Пушкина — в определенном смысле — он написал сам.

Большие, круглые, темные глаза, светящиеся умом, любопытством и легкой, добродушной насмешливостью, вбирают тебя целиком. Так, наверное, смотрят скульпторы на свою модель или на кусок мрамора, от которого собираются отсечь все лишнее. Джулиан Генри Лоуэнфельд, переводчик Пушкина, невысок (пожалуй, ненамного выше своего кумира), подвижный, с легкой походкой, улыбчивый, производит поначалу впечатление не очень серьезного человека. Впрочем, впечатления серьезного человека даже после двухчасового серьезного разговора он так и не произвел... Возможно, потому, что его больше заботит, какое впечатление производят на собеседника его переводы, а еще больше — сам Пушкин...
Андрей Кунарев: Начнем, пожалуй...
Джулиан Генри Лоуэнфельд: Дуэль?
А.К.: Как сказать... Диалог часто превращается в поединок, тем более диалог с писателем, не говоря уж о переводе, не так ли?
Д.Л.: Нет, не так... Хотя это зависит от того, кто переводит. Если это Набоков, то да, дуэль, конечно. Но я смотрю на это дело иначе. У меня другой путь.
А.К.: Какой же?
Д.Л.: Перевод — это служение. Или послушание... Ни в коем случае нельзя соперничать с Пушкиным. Как так — соперничать? Это безумие. Я понимаю свою задачу так: не только подобрать и расставить правильные, точные слова, но передать «священный ужас», а если проще — «мурашки», которые идут по коже, понимаете, да? Это когда читаешь, и вдруг тебе открывается какая-то бездна смысла, ты начинаешь не просто понимать текст, но и слышать голос поэта — и от этого радостно и страшно... А для этого нужна не дуэль — для этого нужно стрелять, так сказать, из одного окопа.
А.К.: Ну, думаю, Пушкин не стал бы стрелять из окопа...
Д.Л.: Да-да, не тот темперамент, да и высокое понятие о чести:
Мне бой знаком — люблю я звук мечей:
От первых лет поклонник бранной славы
Люблю войны кровавые забавы...
В окопе или траншее отсиживаться не стал бы — помните, как во время Арзрумского похода он схватил пику убитого казака и ринулся в одиночку на вражескую конницу? Спасибо казакам, которые поскакали за ним, окружили и вернули обратно — спасли национального поэта... Пушкин тогда написал одно стихотворение... любимое у Блока... как это:
Перестрелка за холмами...
— Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
Д.Л.: Да, «Делибаш»! Изумительные стихи. Тоже своего рода дуэль — с катастрофическим исходом для обоих участников. Такой результат — «на пике» или «без головы» — по-моему, ожидает и перевод, если ты вступаешь в соперничество с автором, тем более если автор — Пушкин. В Пушкине как личности, мыслителе меня поражает одно уникальное свойство, особенность — как бы это сказать? — объемное видение. Ну, вот для примера.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Помните, конечно, да? А двумя годами раньше — в письме Онегина — мы находим прямо противоположное утверждение, высказанную практически теми же словами:
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!
Если речь идет о замене, значит, счастье все-таки есть! По крайней мере так думалось раньше. Противоречие? Парадокс?
А.К.: А как без них? Жизнь вообще парадоксальна, а «гений — парадоксов друг»!
Д.Л.: Конечно, но я говорю немного о другом: Пушкин делает как-то так, что и в том и в другом случае с ним нельзя не согласиться! Ему вообще несвойственна жесткая категоричность. Он будто играет, поворачивая мысль разными гранями, и любуется ее переливами, новыми ее отблесками... Но смотрите: если мы начнем вчитываться в текст «Пора, мой друг пора...», то обнаружим нечто в высшей степени парадоксальное. Вчитаемся в заключительные стихи:
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.
«В обитель дальную трудов и чистых нег»! Разве это не образ счастья?! Получается, отрицая его в начале стихотворения, поэт приходит к утверждению — хотя бы в идеале — его существования! И через несколько месяцев Пушкин напишет своему другу Нащокину: «Говорят, что несчастие хорошая школа: может быть. Но счастие есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному». Лучший университет, без которого душа оказывается, скажем так, недовоспитанной, без высшего образования! Где же Пушкин? А он — везде, и там, и там, и там, но всегда остается самим собой — Пушкиным.
В этом самая большая сложность и вместе с тем главная цель перевода — и речь тут не только о переводах Пушкина, но и любого другого большого поэта — понять и принять его таким, каков он есть, и именно таким представить его иноязычному читателю, не пытаясь его подстроить под себя, исправить в соответствии со своими представлениями, своим вкусом, «улучшить», а на самом деле подчинить себе и — исковеркать, оставить «без головы»! Набоков — конечно, он великий прозаик! — но стал таким вот «исправителем», отсюда у него в комментарии к «Онегину» столько несуразностей. Ну, например, о стихе «Минуты две они молчали...» он пишет, что якобы нельзя «представить себе двух человек, взирающих друг на друга в полном молчании более пятнадцати секунд», упрекая Пушкина в ложном буквализме! Уж кто буквалист, так это сам Владимир Владимирович: откуда ему известно, что именно пятнадцатью секундами ограничено время разглядывания другого человека! Просто смех! Да я лично и дольше смотрел в глаза красавицам! Я уж не говорю о том, что если Онегин стоит, «блистая взорами», то Татьяна остановилась «как огнем обожжена» и взирала ли она на Евгения или опустила очи, — большой вопрос! Второе гораздо вероятнее — мы же закрываем или опускаем глаза при яркой вспышке! — но Пушкин-то ничего об этом не говорит, не считает нужным уточнять. Потому что доверяет читателю, его чувствам, его уму, умению достраивать в своем воображении по некоторым деталям целостную картину. Он прекрасно знал «тайну занимательности»: «не надобно все высказывать» — и всегда следовал этому правилу. Вообще я считаю строчку «Минуты две они молчали...» — ключевой для понимания романа. Только вслушайтесь: «Минуты две они молчали...»! Вся отповедь Онегина — если читать ее вслух — занимает полторы минуты. Всего девяносто секунд! И перед ней такая пауза — МХАТовская, чеховская! Что там проносится в головах героев — не то чтобы не важно, но поэт в высшей степени деликатен в отношении своих героев и читателя. Всматриваться в лицо, в глаза, в очи, постигая что-то такое, чего и словами не выразить, да и зачем?
А.К.: А потом так же будут вглядываться друг в друга Онегин и Ленский во время дуэли, узнавая и будто в первый раз видя... И — страшное вглядывание убийцы поневоле в свою окровавленную жертву...
Д.Л.: Ну да! В определенном смысле такое «вглядывание» представляет собой весь роман: читатель вместе с Пушкиным, Татьяной, Ленским и даже каким-нибудь Пустяковым и прочими вглядывается в Онегина, открывая в нем все новые черты и пытаясь выстроить окончательное суждение о герое, чтобы в самом конце на вопрос автора: «Знаком он вам?» — неуверенно ответить: «И да, и нет»! В этом, возможно, один из главных уроков Пушкина (если он, конечно, хотел дать какой-то урок!): в человека, в мир, в жизнь необходимо постоянно вглядываться — они стоят того, стоят нашего самого пристального внимания, понимания, участия.
А.К.: Наверное, в высшей степени умением вслушиваться и вглядываться в текст должен обладать переводчик.
Д.Л.: Безусловно, именно так! Подсчет секунд «взирания друг на друга», которым занимается Набоков, не дает ему почувствовать, услышать чрезвычайно важные смысловые нюансы. Онегин смотрит на Татьяну и чувствует: вот оно, счастье, но... будто одергивает сам себя — я не могу быть счастливым, потому что «не создан для блаженства». Татьяна через три года напомнит ему: «А счастье было так возможно, так близко...» Но человек не умеет и, боюсь, даже не хочет быть счастливым! И это не только история какого-то русского дворянина Онегина — это история человека вообще. «Человечество не хочет быть счастливым!» В другом месте Набоков ворчит по поводу лирического отступления, мол, все эти рассуждения никак не относятся к развитию действия, ни в коей мере не продвигают сюжет. И не слышит, не понимает, что сюжет «Онегина» — не любовная история, не разочарование или скука, охлаждение и т.п. Сюжет романа — это счастье! «Неслышанье» Набокова, думаю, вызвано его завистью к Пушкину.
А.К.: Пожалуй, так. Владимир Владимирович был исключительно честолюбив, но... Как тут не вспомнить Александра Сергеича? «Зависть, считал он, — сестра соревнования, следственно из хорошего роду».
Д.Л.: Ох уж этот «парадоксов друг»! Он прав, совершенно прав, но соревнование в данном случае допустимо с другими переводчиками: дай перевод лучше, изящнее, точнее, адекватнее исходному тексту, чем кто-либо до тебя — честь тебе и хвала! Но соревнование, соперничество с автором — вещь абсолютно невозможная, тем более когда речь идет о переводе настоящего поэта. В этом случае переводчик должен в определенном смысле отречься от себя и исполниться духом поэта, которого переводит, смотреть на мир не своими — его глазами, слушать — его ушами, осязать — его перстами... Переводишь Маяковского — будь Маяковским, Пушкина — Пушкиным и так далее. Я, как поэт, могу сказать, что начал переводить с того, что начал вслушиваться в чужие голоса. Нет, чужие — это неправильно. Вслушиваться в голоса гениев и — вот что удивительно! — вслушиваясь в них, я стал лучше стал слышать собственный голос! Вот такой парадокс. Потому что что такое поэт? Поэт — это тот, кто умеет вслушиваться.
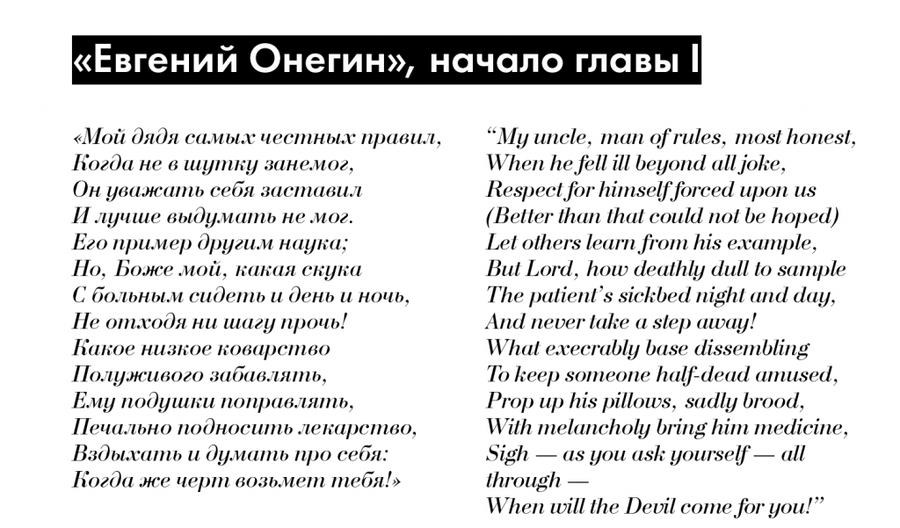
А.К.: Получается, что переводчик должен произвести над собой едва ли не ту же операцию, что и серафим над пророком — превратить глаза в зеницы, ушам дать способность внимать «и неба содрогание, и горний ангелов полет», а в конце концов — исполниться если не волей Божией, то духом поэта?
Д.Л.: Да, без этого ничего не получится... Только я не стал бы противопоставлять Божью волю духу поэта — он же пророк, не просто посланец, но глашатай Бога. Кстати, вы, конечно, обращали внимание на то, как подробно Пушкин расписывает возможности пророческого слуха? И небо, и полет ангелов, «и гад морских подводных ход, и дольней лозы прозябанье»! Поэт слышит все? Нет, не слышит — внимает: «и внял я...»! Внял — принял, вобрал в себя и как бы сделал своей плотью, своим существом... И — это так важно! — все, весь этот мир принять и не пытаться разрушить, чувствовать единство, равновесие — гармонию.
Вот такого внимания, вслушивания так не хватает сейчас России!
А.К.: Вслушивания в Пушкина?
Д.Л.: Да, в Пушкина.
А.К.: И у него учиться вслушиваться в других?
Д.Л.: Да-да! К сожалению, в своего поэта Россия давно не вслушивается, как должно. Но я говорю о вслушивании и в более широком смысле. России необходимо вслушаться в себя, в собственную жизнь. Думаю, в каком-то смысле гражданская война здесь еще не кончилась. Скажем, гуляю вокруг Кремля... Вот двуглавые орлы Романовых, а на них смотрят красные звезды — звезды комиссаров, которые Романовых расстреляли! Странное «сожительство», правда? Это как будто никого не задевает. Или, наоборот, люди не могут понять, как к этому относиться, а поэтому стараются просто не замечать таких диссонансов, чтобы избежать тягостных недоумений и размышлений и оставаться спокойными... И мне кажется, самой стране сейчас трудно понять, куда сейчас пойти, в какую сторону. Потому что, чтобы решиться на шаг в том или ином направлении, необходимо сначала понять, договориться, где мы были. Кто такой был Николай II: недотепа, который довел страну до краха, или святой великомученик, который царствовал в период небывалого национального роста России? Ленин — добрый дедушка, который очень любил детей, или кровожадный убийца? Сталин — мудрый «Дядя Джо» или безумный палач миллионов? Он спас страну или, напротив, поверг ее в прах? И поскольку всё это нам не до конца понятно, очень трудно определиться с тем, что же дальше делать. И никто нас особенно не спрашивает... А понимание, конечно, всегда идет снизу: там, в глубине, в недрах, что-то постепенно копится, набухает, вызревает... И вот тут является поэт — именно через него народ «выговаривает» то самое слово, главное слово, слово-откровение, которое все ставит на свои места и без которого народу невозможно осознать себя. Народ без поэта не народ, без поэта народ как бы не слышит, не понимает, не знает сам себя... А что сейчас? Мы только говорим, что Пушкин – наше всё, а реально мы забыли его. Мы его не читаем, и даже если читаем, то, скорее, проходим. В. Непомнящий писал, что, проходя по школе, слышал из-за дверей, как «проходят» пушкинский «Памятник». Детские голоса бубнили: «Япамятниксебевоздвигнерукотворный...» Было ясно, что и нерукотворный, и Александрийский столп для подростков ничего не значат. Они просто вызубрили... даже не текст — просто слова, набор звуков, абсолютно лишенный смысла! Как иной раз мы выучиваем припев популярной песенки на неизвестном языке — что значит «О соле, о соле мио»? Может, про солнце. а может, про соль поется, — какая разница! Что толку, что дети так — без смысла — выучили стихи Пушкина? Хорошо, если просто забудут на следующий день, а то еще и его возненавидят!
А.К.: Или превратятся в «пушкинистов», таких как булгаковский Никанор Иванович Босой, который никогда не читал Пушкина, но постоянно произносил фразы вроде: «Лампочку на лестнице Пушкин вывинтил?»!
Д.Л.: Вы не поверите, но буквально на днях у меня состоялся как раз такой диалог:
— А за квартиру кто платить будет, Пушкин что ли?
Отвечаю невинно:
— Пушкин, конечно, а кто же еще!
И в том, ей-богу, не соврал! Уж в моем-то случае (кивает на книгу своих переводов) точно Пушкин за все платит и за все в ответе! (посерьезнев) А вообще-то Пушкин за все платит и за все отвечает и в более широком смысле. Жаль, что это понимают немногие…
А.К.: Пушкин как-то назвал переводчиков «почтовыми лошадьми просвещения». Каково Вам в шкуре этого благородного создания?
Д.Л.: Ну, я скорее не лошадь, а кляча (смеется) или лошадка, которая «плетется рысью как-нибудь»... А если серьезно, это радостно. А что же еще такое — счастье? Представляете, что значит с утра до вечера общаться с Пушкиным, с Лермонтовым, с Маяковским, с Мандельштамом!..
А.К.: Ага! Ловлю на слове: получается, счастье все-таки есть?
Д.Л.: (смеется) Есть! Есть! По крайней мере есть покой и воля! Хотя бы иногда! Правда, частенько этому состоянию что-нибудь мешает очень сильно!.. Но уж коль мы вновь заговорили о счастье... Знаете, я хочу рассказать Вам древнейшее стихотворение на свете. Человечеству оно стало известно благодаря сэр Максу Маллоуэну — второму мужу Агаты Кристи. Так вот, Маллоуэн, известный археолог, занимался раскопками города Ур в тогдашней британской колонии — Ираке. Это Месопотамия, Междуречье. Ур — древнейший город на планете. Отсюда родом Авраам. Нашли табличку с клинописным текстом. Возраст таблички — 6000 лет, она появилась за 4000 лет до нашей эры. Мы точно не знаем, как звучало стихотворение — у нас нет возможности услышать правильное произношение этого древнего языка, но... пусть это будет верлибр, не так уж это важно. Зато содержание!.. Слушайте:
Несчастный современный человек!
Таскается один-одинешенек
По шумным улицам грязного города.
Голова у него раскалывается от острой боли.
Нет у него настоящих друзей.
Он уже не слышит голоса своего Бога,
Поющего ему в тишине.
Несчастный современный человек!
А? Какова поэзия?
А.К.: Тут хочется сказать: «минуты две они молчали»... Фантастика! Я потрясен.
Д.Л.: Ага! (радостно смеется — как мальчишка, забивший гол)
А.К.: Невероятно!
Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных...
Пушкин, что, предугадал эту находку за 100 лет? Или это что-то другое?
Д.Л.: Не знаю. Но я хотел сказать о том, что дело поэта — слышать голос Бога и...
А.К.: ... передавать услышанное людям: «исполнись волею Моей — глаголом жги сердца людей»!
Д.Л.: Именно! Это наша работа. И поэта. И музыканта. И художника. Вот почему, кстати, хуже стали писать, хуже стали сочинять, рисовать... Не внемлют. Не внемлют... Что-то происходит с современным человеком, с современным человечеством. Что-то происходит с человечностью.
А.К.: Но разве подобное не происходило всегда? Разве «повреждение нравов» — не одна из самых эксплуатируемых тем в мировой культуре? Ведь и герцог в «Скупом рыцаре» восклицает: «Ужасный век! Ужасные сердца!» А через сорок лет Некрасов с горечью констатирует: «Бывали хуже времена, но не было подлей!..» Получается, мы уже должны стоять у последней черты? Что делать: поворачивать назад?
Д.Л.: Ну, это невозможно. У человечества есть только один путь — вперед. Мне нравится пользоваться благами цивилизации, и я вовсе не тоскую по старым добрым... пыткам, по старой доброй чуме, нищете, рабству, отсутствию питьевой воды, антибиотиков... Ужасно, что Шуберт умер в 35, потому что не было пенициллина. Все так. Но ведь и Шуберта у нас нет сейчас! Может, это закон прогресса — за блага отдавать ценности, платить за технологические прорывы убыванием человечности? Может быть. Это грустно. Но человечность необходимо восполнять, иначе к чему и технологии, и пенициллин, и чистая вода? Восполнение же человечности невозможно без Пушкина. Во всяком случае я в этом совершенно убежден. Когда я только начинал его переводить, я, пожалуй, даже не думал об этом, но чем дальше, тем больше и сильнее ощущал, что так оно и есть.
А.К.: Кстати, Джулиан, как это вообще случилось? Как Вы открыли для себя Пушкина?
Д.Л.: Благодаря Окуджаве.
А.К.: Вот как!
Д.Л.: Хотя можно сказать и так: все дело в моих генах, а Окуджава лишь разбудил во мне наследственную черту — любовь к русской литературе.
А.К.: То есть?
Д.Л.: Сейчас объясню. Мой прадед, Рафаэль Лёвенфельд, славист, был не «почтовой лошадью», а настоящим локомотивом просвещения: он перевел на немецкий всего Льва Толстого! Он поставил «Власть тьмы» в собственном переводе в Берлине, в основанном им Шиллеровском театре. Он дружил с Толстым, приезжал в Ясную Поляну... Я просто не представляю, как он все успевал — без компьютеров, сканеров и прочих современных изобретений! Это что-то невероятное... Так вот, после его смерти, к власти в Германии пришли фашисты, семья переехала в США. Казалось, на этом связи моей семьи с Россией оборвались. Дедушка мой не знал русского, папа тоже. А папа был профессором, юристом, написал Оксфордский учебник по международному экономическому праву. Папа был очень строгим, я, конечно, его очень любил и уважал, и он меня очень любил, но... при всей любви никаких дебатов по поводу моей профессии не то что не было, но и не могло быть. Посудите сами: дедушка — адвокат, папа — адвокат, дядя — адвокат, сестра — адвокат... Было уже решено. Словом, я стал адвокатом, потому что спорить не хотел. (смеется)
А.К.: Как же проснулись прадедушкины гены?
Д.Л.: Это случилось на втором курсе Гарварда. Я бежал на занятия и вдруг — остановился как вкопанный: у ворот университета седой мужчина что-то пел под гитару. Я спросил, что это за язык, он мне ответил: русский. Не знаю, что со смой сделалось. Я ни слова не понимал: язык был совершенно незнакомый. Но он был настолько прекрасен, страстен, что я понял, что я не смогу жить, если его не выучу. Так и влюбился в русский язык, можно сказать, с первого слуха! Любовь с первого слова! Позже я узнал, что песня была «Молитва Франсуа Вийона»... «....Пока Земля еще вертится...»...
А.К.: Удивительное дело! Я бы сказал, что пушкинское пророчество сбылось:
И славен буду я, доколь в подлунном мире
ЖИВ БУДЕТ ХОТЬ ОДИН ПИИТ.
Гораций — Пушкин — Окуджава — Вийон — безымянный бард и — Джулиан Генри Лоуэнфельд, поэт, благодаря которому Пушкин заговорил на языке Байрона!
Д.Л.: Говорят, язык до Киева доведет, а русский язык непременно доводит до Пушкина. Приводит именно к Пушкину, несмотря на все мое уважение к прадедушке...
А.К.: ... и к Толстому!
Д.Л.: И к Толстому — великому Толстому! Честно говоря, Толстой тоже не чужд был зависти — помните его абсурдную статью по поводу «Короля Лира»?
А.К.: Толстой и Пушкина был не прочь укусить порой!
Д.Л.: Да-да... Так вот к Пушкину я шел долго — лет 10, а то и 15, и, может быть, ничего не случилось бы, если б я не познакомился с удивительной женщиной — Надеждой Семеновной Брагинской, царство ей небесное! Она работала на Мойке, 12. Она была награждена Пушкинской премией и медалью Сахарова — нечасто такое случается, правда? Надежда Семеновна — эталон моральной, интеллигентной чистоты русской души. Она подняла мою любовь к Пушкину просто на другой уровень. Узнав, что я перевожу Пушкина, она пришла в ужас: руки прочь! Но тут впервые я ее ослушался и продолжал свои переводы. Я ведь переводил сначала просто для себя, а потом понял, что это очень нужно.
А.К.: Кому?
Д.Л.: Людям. Понимаете, нормальных переводов Пушкина вообще не было. Над Пушкиным просто издевались — достаточно посмотреть, как переводили «Я вас любил...»! А ведь первый перевод этой жемчужины был сделан еще в XIX веке, но вы бы видели, как в нем изувечен Пушкин. Точнее, от Пушкина там вообще ничего не осталось. Даже Набоков — а уж ему-то, русскому дворянину, широко образованному, писателю, казалось бы, и книги в руки! — из заключительного стиха — «Как дай вам Бог любимой быть другим» — просто выкинул Бога! При всем моем уважении к великому Набокову, ну кто он такой, чтобы Бога убрать?! Это же главное слово! Ведь к этому емкому, огромному слову и устремляется мысль поэта! Вся молитвенность в переводе Набокова пропала. Он переводит «I would like», т.е. «как я бы хотел»: на место Бога он ставит свое «я»! Но это хоть стихи, а другие переводчики делают из Пушкина высокопарного болтуна, а из стихотворения — опереточные куплеты. Пушкинская неслыханная простота, естественность, легкость превращаются в примитивность, пошлость, ходульность.
А.К.: Что же необходимо, чтобы перевод состоялся?
Д.Л.: Все дело в переводчике. Во-первых, оба языка ему должны быть родными. Во-вторых, он должен быть поэтом. Докторская степень тут не поможет. Если ты в жизни ни разу не страдал бессонницей из-за того, что не можешь найти того самого слова — единственного, которое только и может стоять именно в этой строчке! — ничего не получится.
А.К.: Но Набоков-то полностью соответствует этим требованиям, разве нет?
Д.Л.: Безусловно, да. Но! Он не умел забывать себя, проникаться Пушкиным, делать его своим «я».
А.К.: Вторым «я».
Д.Л.: Первым! Единственным! По крайней мере на время перевода. В этом вся соль! Переводчик должен быть именно поэтом, а не знатоком поэтической механики. Потому что иногда нужно знать, когда можно послать к черту правила и предписания, чтобы передать тот самый священный ужас, от которого по коже бегут мурашки. Вообще, я думаю, одна из причин неудачных переводов в том, что переводчики пользуются словарями рифм.
А.К.: А Вы не пользуетесь?
Д.Л.: Нет. Ищу рифму сам. Кстати, открою свою тайну. Если ко мне легкая рифма не приходит (хотя с практикой с этим возникает все меньше проблем), я использую ассоциативную рифму — действует безошибочно! Ухо-то не слышит разницы — ему нужно, чтобы было легко.
А.К.: Но иногда Вы рифму вообще пропускаете.
Д.Л.: Весьма редко. Ну и что? Поэзия — это свобода, свобода во всей своей красоте и естественности, ей чужды никакие оковы, даже изящные оковы рифмы. Вот возьмем вступление к «Руслану и Людмиле»:
Одну я помню. Сказку эту
Поведаю теперь я свету...
Что такой «свет»? Это мир. Но это и свет сам по себе, и слава, красота, великолепие! World, light и glory. Как тут быть переводчику? И таких случаев масса. А кроме того, в русском языке много многосложных слов, они гораздо длиннее английских, хотя мы и используем артикли. При переводе с русског на английский в строке остается место, его необходимо заполнить, чтобы не было пустот. И что я сделал? А я дал все три значения:
I’ve one remembered, and this story
Through me now comes to light, world, glory...
Все! И story получает рифму — glory. Разве плохо?! Понимаю, кто-то может придираться: мол, отсебятина, у Пушкина этого нет и пр. Но разве нельзя чуточку пошалить? Покуролесить?
А.К.: Да Пушкин и сам провоцирует на всякого рода шалости!
Д.Л.: Именно! Поэзия — это свобода! Ей занудство, насупленность, педантизм противопоказаны! Нельзя же все время придыхать: ах! ПУШКИН!!! ах! АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ!!!! Поэзия — это еще и смелость, дерзость! Нет этих качеств — нечего лезть на Эверест, первой же лавиной накроет, и поминай как звали!
Вот, например, мой перевод «Я помню чудное мгновенье...»:
A wondrous moment I remember:
Before me once you did appear;
A fleeting vision you resembled
Of beauty’s genius pure and clear.
(Джулиан читает, «вкусно» выговаривая каждый слог и чутко вслушиваясь в звучание стихов — как музыкант берет аккорды и рассыпает легкие арпеджио, проверяя инструмент: хорошо ли настроен, не надо ли подтянуть или отпустить струну. Чуть жмурится от удовольствия: все так, стройно, ладно, полно.)

“Before me once you did appear” — заметили, да? У Пушкина нет этого once — я добавил! Почему? А потому что Пушкин пишет о чуде! А once — «сказочное» слово: once upon a time — типичное начало английских сказок... Противоречу ли я Пушкину? Ни на йоту. И дальше: «гений чистой красоты» я перевожу как «genius pure and clear». Pure and clear: чистый, прозрачный, ясный, совершенный... Что, хуже стало? Нет! Без этих добавлений просто нет музыки! А значит, и Пушкина. Если б я написал только clear, ничего не получилось бы.
А.К.: Получилось бы плоско.
Д.Л.: Да. Словом, что я делаю? Расширяю, углубляю смысловой объем слова, т.е. иду по направлению, указанному самим Пушкиным! Я следую за его мыслью, за его чувством, за его Музой.
А.К.: Вот тут и появляются мурашки, да?
Д.Л.: Тут и появляются мурашки! Потому что тут я чувствую, я узнаю Пушкина. И еще должно быть ощущение пушкинской небрежности — т.е. будто писать стихи ему никакого труда не стоило.
А.К.: Той изумительной его легкости, когда читатель уверен, что сочинять для Пушкина — просто забава: взял и «начирикал» сколько хочешь! Но стоит взглянуть на черновики Александра Сергеича...
Д.Л.: Да, его черновики — свидетельство работы над каждым словом.
А.К.: Прямо по Маяковскому:
Изводишь слова единого ради
Тысячи тонн словесной руды.
Д.Л.: Работа титаническая. Но для читателя совершенно незаметная. Как весенний дождь. Стоит только подумать, сколько природа потратила сил на то, чтобы испарить воду, поднять в небо, собрать в облака, перенести их на десятки или сотни километров... А мы просто подставляем лица и руки под эти капли и радуемся, улыбаемся, смеемся. То же и с Пушкиным. Мы подставляем ему свои души и становимся свежее, моложе, мудрее — человечнее. И не задумываемся, чего ему стоило написать — сотворить! — казалось бы, совсем незамысловатое:
Мороз и солнце; день чудесный!
А.К.: Джулиан, а какое стихотворение Пушкина вы перевели первым?
Д.Л.: Кажется, «Я вас любил...». (смеется) Это было так нужно мне в тот момент!
А.К.: Личная история?
Д.Л.: Ну да... Хотя я сейчас понимаю, что... так было надо не просто мне — человеку, который, как и все другие люди, чувствует, переживает, разочаровывается, отчаивается... Это было надо в каком-то большем смысле. И хорошо, и правильно, что мой труд начался именно с этого шедевра. Вы подумайте: всего полсотни слов, но... как сказал Сальери, «какая глубина! какая смелость!». С одной стороны, он, конечно, хочет ее опечалить, конечно, ему хочется, чтобы любовь ее хоть чуть-чуть тревожила... И вообще, когда он говорит о любви в прошедшем времени, это вовсе не означает, что любовь действительно прошла — нет же! Он так ее любит, «так искренне, так нежно»!.. И даже когда появляется в последнем стихе другой, мы понимаем, что никакой другой так любить все равно не сможет — хоть он и просит Его об этом чуде. Повтора быть не может. Потому что чудо не может быть тиражировано, чудо единично по своей природе, иначе какое же это чудо! Здесь чувствуется, конечно, и какая-то тень обиды — я же так любил, так любил, а ты!.. И все же, несмотря на эту обиду, — прощение. Он прощает и отпускает ее, хотя и продолжает любить: любовь «угасла не совсем», а значит, горит, греет, даже обжигает, как он ее ни заговаривай прошедшим временем! И тем не менее — отпускает. Любовь — моя, а что ты будешь с этим делать — твоя история, твой выбор...
А.К.: Но ведь позже, в восьмой главе «Онегина», эта история будет рассказана Татьяной — как бы с позиции той, к кому Пушкин обращается в «Я вас любил...»:
Я ВАС ЛЮБЛЮ (к чему лукавить?),
Но я ДРУГОМУ отдана;
Я буду век ему верна.
Д.Л.: Какая грустная формулировка — отдана! Можно ведь понять: не только матерью, но и судьбой, если хотите — самим Богом! Будто сбылось это «как дай вам Бог»... Но — я вас люблю. Одновременно двух любить невозможно: «мне двух любить нельзя», — говорит Лаура (кстати, как раз тогда, когда Пушкин работает над восьмой главой!). И любовь именно та — искренняя (к чему лукавить?), нежная. Вот тут, как мне кажется, самое главное: Татьяна признается в любви к Онегину, но ведь и Онегин признается в любви к Татьяне. Что это значит? А это значит, что они достигли... счастья! Как так? Очень просто: он любит и любим, она любит и любима. Они друг друга любят. И знают об этом. Разве это не счастье: любить и быть любимым? Что будет дальше — какая разница? Подглядывать в замочную скважину — пошло. А Пушкин не может быть пошлым... И еще. Это очень... моральный, нравственный финал.
А.К.: И все-таки Татьяна «другому отдана» — Онегин остается ни с чем...
Д.Л.: Как сказать... А что он хотел? Нельзя же убить друга и ничего за это не заплатить! Убив Ленского, он не может получить Татьяну — таков нравственный закон, природа вещей. Онегин платит по самой высокой цене — невозможностью быть с любимой женщиной... А кроме того Татьяна и не может ему принадлежать. Кто-то сказал, что Пушкин сохранил ее для себя. «Муж в сраженьях изувечен...» И-зу-ве-чен! У них детей нет и, видимо, не может быть. Впрочем, это не так важно. Татьяна — весталка какая-то: хранит домашний очаг, оставаясь при этом девственной...
А.К.: И это Вы называете счастьем?
Д.Л.: Да, это счастливый финал! Потому что они наконец-то друг друга поняли. Счастье — это катарсис, обретение смысла, постижение глубины бытия... Это же не «тормозни — сникерсни»! Счастье — это стать ближе к Богу.
А.К.: Ощущение причастности своей Жизни во всей ее полноте.
Д.Л.: Вот-вот. А жизнь — это далеко не одно удовольствие. Она всякая, очень часто болезненная, мучительная. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Вот оно счастье в русском его понимании. И с этой точки зрения —русского счастья — каждое произведение Пушкина имеет счастливый конец. Даже у «Пиковой дамы». Ведь Германн оказался в сумасшедшем доме — там, где, по сути дела, должен был оказаться, поскольку он давно обезумел. Это его место.
А.К.: И он остается наедине с тайной старой графини, которую выбалтывает если не всему свету, то по крайней мере своим товарищам по... счастью?
Д.Л.: (смеется) Получается так. Недаром на Руси испокон веку безумцев и юродивых называли блаженными!
А.К.: А такой финал тоже можно назвать нравственным?
Д.Л.: Вне всякого сомнения. За счастье надо платить — собой, целиком, иначе нельзя... Кстати, я исследовал случай Германна как юрист — не как русский юрист, а как нью-йоркский. И я нашел аргументы в пользу полного оправдания героя «Пиковой дамы». А затем — аргументы столь же безоговорочного осуждения! Как Пушкин сумел все так выстроить, что плюсы преобразуются в минусы в зависимости от угла зрения?!
А.К.: И читатель в конечном итоге выносит собственный вердикт...
Д.Л.: Разумеется... И тут все зависит от того, чувствовал ли он себя хоть раз в жизни, хоть на единый миг Германном, или Лизой, или графиней, а главное — признается ли он в этом сам себе.
А.К.: Это и есть Пушкин.
Д.Л.: Это и есть Пушкин! Я получил как-то письмо от одного монаха-буддиста из Калифорнии. В двух словах его вывод относительно Пушкина звучит так: Пушкин — дзен-мастер. Потому что дзен — это объединение, совмещение полярностей в себе.
Я вас люблю — хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Труд, стыд, глупость, любовь, бешенство — Боже мой, сколько пируэтов!
А.К.: Особенно последний:
Но ПРИТВОРИТЕСЬ! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Д.Л.: Да-да:
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
Это момент истины — начал-то он с признания: я вас люблю, — а в конце понял, открыл себя — самому себе: это не любовь, несмотря на все ее внешние признаки...А, может, и Любовь... Ведь это не обман, если знаешь, что ты обманутый!
А.К.: Позже он такое состояние описал в «Моцарте и Сальери»:
Представь себе... кого бы?
Ну, хоть меня — немного помоложе;
Влюбленного — не слишком, а слегка...
Д.Л.: Конечно, он Алину не любит, а влюблен в нее, влюблен «слегка». Тут больше самообмана, игры воображения, нежели чувства как такового. Но игры искренней — он играет, как играют дети. Даже его просьба притворитесь! звучит совсем по-детски: давай ты будешь царевна, а я Иван-царевич!.. Он готов отдаться игре целиком... Почти целиком — потому что сохраняет еще и оценивающий взгляд, взгляд со стороны, полный добродушной самоиронии: «я сам обманываться рад»! Он и Алину умоляет не о настоящей взаимности — «не смею требовать любви», «я любви не стою»! — а об игре, о любви понарошку...
А.К.: Но ведь творчество — это тоже игра. И чувства-то — несмотря на «выдуманность» коллизий — настоящие. «Над вымыслом слезами обольюсь...» Слезы — подлинные, тут никакого обмана...
Д.Л.: ... точнее, обман, конечно же, есть, но какой? Возвышающий над «тьмой низких истин»!
А.К.: Опять дзен!
Д.Л.: (смеется): Самый что ни на есть.
А.К.: А может, все дело в том, что, завлекая Алину в игру, Пушкин надеется, что от игры до истинных чувств — один шаг, а то и меньше? Стоит только начать, и...
Д.Л.: Не знаю, не знаю. Это уже ваша фантазия разыгралась. В принципе ничего не имею против — по крайней мере полет воображения при чтении Пушкина sine qua non. Педантизм гораздо хуже. А таким вот педантизмом страдают многие пушкинисты. И знаете почему?
А.К.: Почему же?
Д.Л.: Из-за нехватки чувств юмора. Они просто забывают пушкинское требование: «поэзия должна быть глуповата». Должна быть! Должна! Чувствуете? Не дура, но... чуточку дурашлива, смешлива, наивна, игрива. Как жизнь, которую нельзя вместить в прокрустово ложе какой угодно универсальной схемы, теории, абстракции. Боже мой, да об этом вся русская литература, и Пушкин в первую очередь! А что мы читаем в исследованиях? Вот Пушкин пишет Вяземской: Натали — «замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь». То, что он это написал, — факт бесспорный. А вот то, что он написал, это факт? Это что, он такой зануда, что вел реестр своих любовей? Чепуха!
А.К.: Ну, реестр-то был — знаменитый донжуанский список. Но в нем не 113, а около двацати имен...
Д.Л.: Конечно! «Сто тринадцатая» значит просто «я часто влюблялся» — ничего больше! И не надо делать никаких «оргвыводов», стремясь найти 113 возлюбленных поэта!
А.К.: Думаю, что эта гипербола, 113, — своеобразный оберег. Он будто сам боится придавать своим отношениям с Натали статус серьезности, чтобы не сглазить счастье... К слову сказать, и «донжуанский список» — отнюдь не перечень «побед и одолений», просто шутка...
Д.Л.: ... помещенная, к слову сказать, в альбом Ушаковой — барышни на выданье. Сколь дружескими ни были их отношения, Пушкин очень хорошо чувствовал границы приличий и никаких сальностей, тем более в письменном виде себе никогда не позволил бы... Но пушкинисты такие зануды — все понимают буквально и самым серьезным образом!
А.К.: Мне вообще кажется, что в подавляющем большинстве пушкинских текстов — даже торжественных, порой и скорбных — обязательно есть улыбка, хотя бы отблеск улыбки. Да и о себе лично он мечтал:
... на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
Моцарт говорил, что жизнь — это всегда улыбка, даже если она сквозь слезы. И Пушкин жизнь понимал, видимо, так же, по-моцартовски. Недаром он сделал его героем одной из самых пронзительных своих «маленьких трагедий».
Д.Л.: А знаете, какая у меня есть мечта? Поставить — как следует, в моем понимании, — «маленькие трагедии». Ведь при жизни Пушкин не смог этого сделать: ни поработать с актерами, ни с художниками, ни с композитором... Так что многое вызывает вопросы, скажем, такие ремарки в «Каменном госте», как Лаура поет. Но что? Ясно, что должны быть пушкинские стихи. Какие? На вопрос: «чьи слова?» — Лаура отвечает: «Их сочинил когда-то || Мой верный друг, мой ветреный любовник», т.е. Дон Гуан. Но самих-то слов мы не знаем!.. И мнится мне, что это должна быть «Элегия»: «Безумных лет угасшее веселье...», к которой я сочинил музыку.
А.К.: Тут должна быть ремарка: «Идет к фортепиано. Играет».
Д.Л.: (смеется) Увы, рояля в кустах я не приготовил — просто дарю диск с моей музыкой к Пушкину...
А.К.: А вообще Дон Гуан как автор «Элегии» — неожиданно и... смело. Хотя, если учитывать явный автобиографизм героя «Каменного гостя»... Да и то, что трагедия и «Элегия» — плоды Болдинской осени, то... что-то в этом есть, право слово!
Д.Л.: А вот, если хотите, в определенном смысле параллель — монолог Дон Гуана:
На совести усталой много зла,
Быть может, тяготеет. Так, разврата
Я долго был покорный ученик,
Но с той поры, как вас увидел я,
Мне кажется, я весь переродился.
А.К.: Пожалуй, соглашусь с Вами. А вторая песня Лауры?
Д.Л.: Это — на 100%! — должна быть «Пред испанкой благородной...».
А.К.: Тоже болдинское стихотворение!
Д.Л.: Ну да! А в фильме Швейцера звучит «Жил на свете рыцарь бедный...», но... там ничего испанского — ни в словах, ни тем более в музыке... Самое главное, страсти нет! А ведь эта песня предваряет дуэль Дон Гуана и Дон Карлоса!
А.К.: А как Вам вообще эта постановка?
Д.Л.: (вздыхает): Как бы это сказать? Гениальные актёры, но такое уныние... И даже гениальные актеры ничего не смогли сделать... поскольку «кадры режиссера решают всё»! Увы, в этом фильме нет Пушкина. Нет ни легкости, ни радости, ни света, ни трепета... Нет этого соединения полярностей, объема, нет блеска... дерзновения. Так и хочется сказать: вглядитесь в само определение жанра: маленькие трагедии. Разве трагедии могут быть маленькими? У меня как-то был спор по этому вопросу с одним профессором. Она говорит: «маленькие» — т. е. «краткие». Позвольте, говорю, у Пушкина с русским языком было все нормально: он написал не краткие, а маленькие. Да и каждая из пьес имеет парадоксальное название. Чего стоит «Скупой рыцарь»! Рыцарь — это щедрость, широта, самоотверженность, движение. Скупость же — что-то тесное до удушья и неподвижное, окаменелое...
А.К.: Оксюморон.
Д.Л.: Да. То же мы видим и в других названиях. Короче, Пушкин, как дзен-мастер в притче-коане, хочет устроить то, что японцы называют рукоплесканьем одной руки.
А.К.: Красиво!
Д.Л.: Но эта красота до сих пор была неизвестна миру. Переводы просто никуда не годятся — в таком виде «маленькие трагедии» играть невозможно! Вот простой пример. Последние слова «Пира во время чумы»: «Прости, мой сын», — это говорит Священник — все переводят как «Good bye, my son». Какое там good bye!!!! ПРОСТИ — не прощай! «Прости! Прости, что я не смог вытащить тебя оттуда, из этого мрака, из этой бездны!» И это именно так, потому что конфликт первой пьесы цикла — «Скупого рыцаря» — тоже конфликт между сыном и отцом. Но там — отец и сын по крови, здесь — духовный отец и его духовный сын... Пушкин — виртуоз кольцевых композиций, сведения коллизий в единую точку... А еще он виртуоз вертикалей — не власти, конечно же! Как стрелка компаса всегда смотрит на север, его дух устремлен к небесам, к Богу, высшей правде и красоте... Красоте истины. Словом, я так хочу поставить «маленькие трагедии», что дерзнул написать к ним музыку. Конечно, к «Моцарту и Сальери» я выбрал моцартовские творения. А вот для слепого скрыпача... Впрочем, это сюрприз. Услышите со сцены, если моя мечта сбудется.
А.К.: Надеюсь.
Д.Л.: Я тоже надеюсь!
А.К.: А где хотите поставить?
Д.Л.: В Америке, если получится. Дело в том, что «маленькие трагедии» западному зрителю воспринимать проще. Понимаете, Ра-нев-ска-я, Вер-ши-нин — на одних фамилиях не только язык, но и голову сломаешь! А Иван Николаевич и Николай Иванович? Брррррр! Зато Моцарт, Дон Гуан — все понятно.
А.К.: А уж Вальсингам — совсем «ваше», родное!
Д.Л.: (смеется): Ну да! Поэтому «маленькие трагедии» могли бы послужить пониманию, доброму вниманию к русскому народу и сближению наций, что так необходимо сегодня! Кому-то очень хочется нас противопоставить, отдалить друг от друга. Пушкин же может сблизить... Но в Штатах жуткая бюрократия: можно писать в инстанции до бесконечности и ничего не добиться. Россия другая... Вообще Россия — очень хорошая страна, в ней можно договариваться, если умеешь дружить... Россия... она похожа на Солярис: что захочешь, то и получишь. Только надо сильно любить, и она ответит любовью. Сильно любить Россию. А если говорить ей: «Ужо тебе!»...
А.К.: ...услышишь за собой «тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой»!
Д.Л.: Именно!
А.К.: Джулиан, мне понравилась Ваша мысль о том, что все пушкинские финалы счастливые...
Д.Л.: ... счастливые по-русски!
А.К.: Не хеппи-энды.
Д.Л.: Хеппи-энд — это пошлость, пластмассовое счастье, от которого нормального человека тошнит. Счастье — это редкость. Вот у греков, великих греков, нет ни одного хеппи-энда. Может, Одиссей... И то мы же знаем, что на следующее утро после победы над женихами он должен взять весло на плечо и пойти по миру, пока не найдет человека, который не знает, что такое море, и спросит его, что за лопату он несет! Долго же он будет странствовать, пока с ним не помирится Посейдон!
А.К.: Джулиан, Вы назвали книгу переводов Пушкина «Мой талисман». Это явно неспроста, как я понимаю?
Д.Л.: Конечно. Талисман — это оберег, да? Так вот, чтение Пушкина бережет от очень многого. И сберегает в человеке «чувства добрые» — сберегает человеческое. Если благодаря мне англоязычный читатель почувствует Пушкина, задержится в его мире хоть ненадолго, будет лучше и ему, и миру. И тогда я буду считать, что свою «лошадиную службу» сослужил честно. И буду счастлив.
А.К.: По-русски?
Д.Л.: Да. (смеется) То есть очень краткий миг — до следующих переводов и бессонных ночей.
Иллюстрацию к статье нарисовал Илья diliago Викторов.
Илья, нашей благодарности нет предела!






