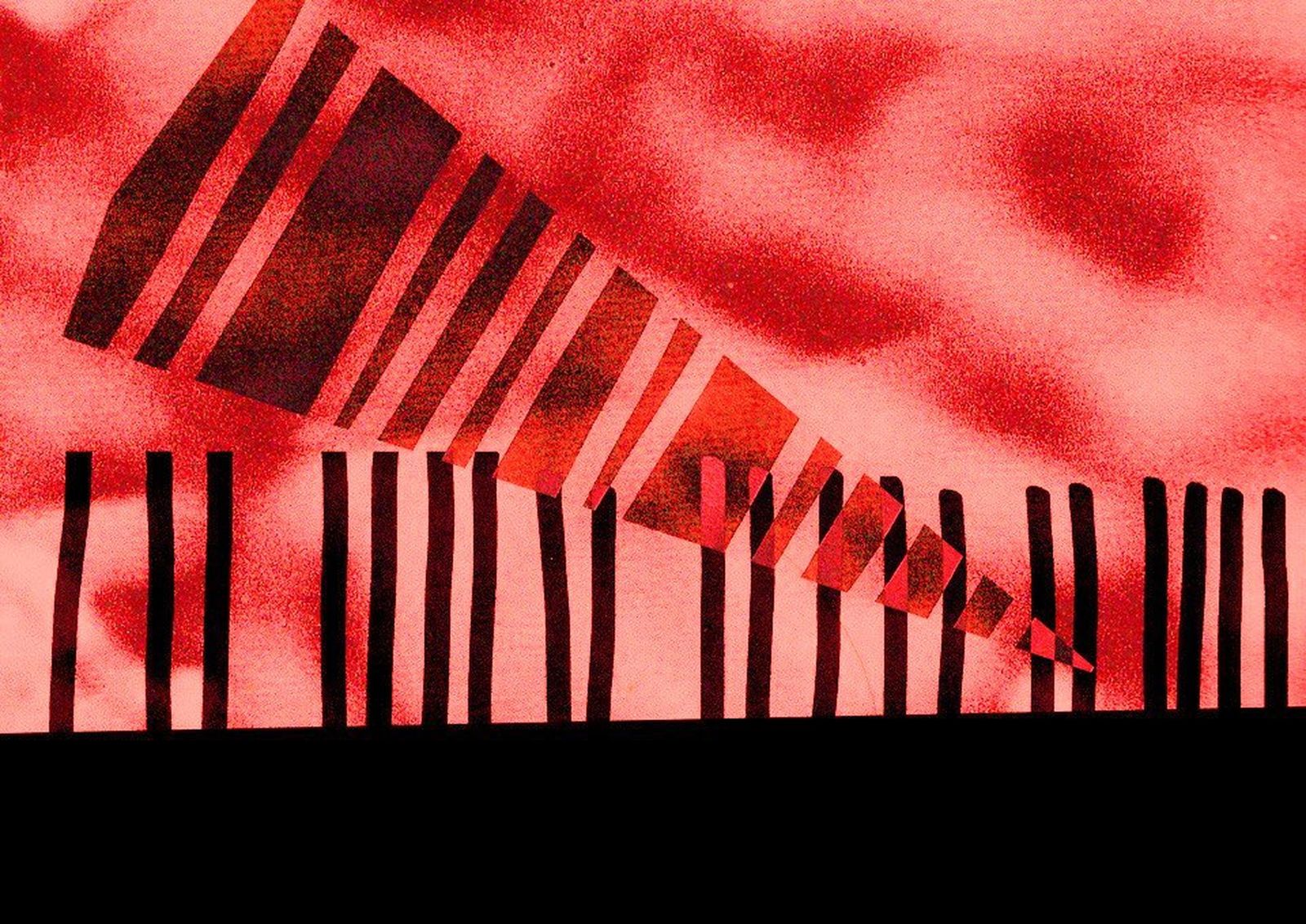Пятый выпуск рубрики «Непрозрачные смыслы» представляет первую часть нового текста Виктора Вилисова «Четвёртый мужчина Николая Вежо» .
Ранняя советская культурная и политическая история, отмеченная радикальным отказом от преемственности, парадоксально оказалась своего рода незанятым полем и пустым знаком, несмотря на идеологическую нагруженность: вместо готовых образцов подражания (вроде Византии или Голландии в прошлые переломные эпохи) человеку открылось только пространство герменевтики марксизма. И если в современном обыденном дискурсе этот знак недвусмысленно помещается в ту или иную мифологию, то неангажированная художественная мысль обращает на него внимание благодаря этому мифологическому потенциалу per se. В данной рефлексии можно обозначить два главных пути: так, во-первых, в дебютном сборнике рассказов Дениса Осокина «Ангелы и революция» эта эпоха (точнее – образ эпохи) освобождает от великорусского христианского нарратива, открывает мифологическую чувствительность, позволяющую снять границы между человеком и миром, поставить под вопрос искусственные иерархии, возвратить субъекту его телесность. Эта чувствительность выражается в «делитературизации» литературы, испытании ее гибкости отменой категории вкуса, вычурного интеллектуализма и жанровых условностей.
Во-вторых – это путь, траекторию которого можно проследить в первой части нового текста Виктора Вилисова.
Путь этот во многом противоположен первому: условность литературы достигает в нем чрезвычайно высокого уровня. Автор словно бы специально подчеркивает ее введением ложных исторических топонимов и катойконимов, неуместных для 1923 года, которым датированы письма главного героя. Она реализуется, во-первых, в духе постконцептуализма второй волны, с помощью комбинирования литературных кодов. В «ЧМНВ» угадываются черты пастиша: это лоскутное одеяло, множество заплат которого состоят из метафорики и мотивов Платонова, Булгакова, Хармса, Фадеева и др. Во-вторых, условность подчеркивается активным использованием таких нарративных гетеротопий, как письмо, интермедия, сон, внутри которого, в свою очередь разыгрывается спектакль, а внутри другого – еще один сон. Подобное дробление текста вводит читателя в растерянность, отбирает у него какую-либо опору в сюжете, убирая линейность сюжета, иерархии в повествовании, проблематизируя границы между персонажем и нарратором. Это значит, что Вилисов проделывает те же операции, что и Осокин, но, в отличие от него, не растворяет субъективное в языческом космосе, а наоборот, представляет субъекта как перегонный куб собственного жизненного мира. Естественно, что подобный разомкнутый субъект способен существовать в еще свободном от новой имперской мифологии советском мире, хотя лучше было бы сказать, что сам этот мир существует в Николае Вежо. Притом всего лишь на правах эмблемы: двигаясь по ступеням архитектоники текста, персонаж в итоге вырывается из этого мира, оставляя за собой и долг партийного функционера, и самообвинения в мелкобуржуазности и мещанстве. Пафос воскрешения субъекта, характерный для постконцептуализма, особенно заметен в завершении первой части «ЧМНВ», которое практически очищенно от советских клише. Вилисов создал драму субъекта, практически детективную историю его генезиса/становления.
Степан Кузнецов
В первой части большой композиции молодого автора присутствуют сразу несколько отправных точек, характеризующих его манеру письма. С дебютной публикации художественных текстов, состоявшейся в четвертом номере литературного журнала «Носорог» («По красному льду»), Вилисов сразу нащупывает свое поле работы. Первый текст представлял из себя попытку внутренних повествовательных сдвигов с использованием теории сновидений, а также разных временных реалий, переплетающихся между собой.
В отличие от первой публикации, «Четвертый мужчина Николая Вежо» представляет собой перенос нарративизации из внутренного плана на все пространство текста: сновидения, посещающие субъекта в тексте «По красному льду», переносятся на уровень структуры всей композиции. Первый фрагмент представляет собой самостоятельный текст и строится по следующей партитуре: письмо героя – сон героя – письмо внутри сна – интерлюдия – письмо – сон. Из данной схематизации мы видим, как автор выстраивает собственную нарративизацию, заключаемую как внутри, так и снаружи текстового полотна. В результате данной операции письмо Вилисова выстраивает такое пространство, в котором соединение различных временных реалий, а также проблематик разных полярностей становится единым целым, тем самым переосмысляя зоны смысла каждого отдельно используемого поля.
В представленном тексте Вилисова ведется работа с ниспровержением смысла, но одновременно автору удается максимально удерживать центральную смысловую точку-границу, находящуюся между реалией и сновидением, на которой только и держится все повествование: здесь и явные ноты ОБЭРИУ (проза Даниила Хармса, один из характерных опусов обэриутской прозы – рассказ Юрия Владимирова «Физкультурник», с его абсурдизацией, вплетающейся в сам процесс построения текста), а также диалог с «театром абсурда» в лице Самюэля Беккета, в частности канонической пьесы для данного направления «Счастливые дни» (1960). Письмо Вилисова приобретает свою ментальность в результате расширения абсурдизации текста и обращения к гендерной проблематике, приближающей тексты автора к опытам как более старшего поколения новейшей литературы (Николай Кононов и его работа с мнемичностью и травматическим опытом истории), проявляющееся у Вилисова в столкновении элементов буржуазной культуры 19 века с героическими двадцатыми 20-ого, так и с молодыми (Станислав Снытко, с проблематизацией абсурдистской парадигмы). Главным отличием такого письма становится проявляющаяся артикуляция гендерной проблематики, ее отчетливый мистериальный характер, теологизация внутреннего адресата и прямое обращение к читателю внутри пересмотренного пространства повествования с использованием минимального концептуального инструментария.
Ян Выговский
Виктор Вилисов
Четвёртый мужчина Николая Вежо
Часть первая
ПИСЬМО ВЕЖО
Миша, рисовый князь, пшеничный мой мальчик. Я в Казахстане, терзаюсь. Эти сволочи поднимают бучу, не дают жизни, плюют в глаза, — куда мне деться? Миша, сахарный мой, я их убью, клянусь. Три дня назад ты снился мне, гигантский. Я валялся у тебя в ногах и нюхал свои запястья, они пахли молоком и елью, ты пах ржаным тестом, я хотел тебя сожрать — и не мог. Чёрт с ним. Жарко — некуда зарыться, мне без тебя холодно, а я горю. Сейчас разлился Иртыш, я вчера ездил смотреть; дождей нету, а он вон как. Хоть бы он всех нас утопил.
Давай по порядку: эта падаль распускает, мол, меня сослали; это неправда, главный меня особо не знает, но удовлетворён, мне рассказывали с собрания, там были: Рыков, Калинин, Андреев, Каганович и Куйбышев. Это доверие, задание. Они хотят, чтобы я собрал всё в один пучок: людей, систему. До сих пор здесь всё работало только на директивах. Это идиоты совершенно эталонные, Миша, они ничего не умеют. Вот разливается Иртыш, я засыпаю под утро, когда дом охлаждается (ну и ещё другое; ниже), ветви лезут в окно и я плачу, плачу, как больное животное, а они хотят, чтобы я разговаривал с людьми и всё-всё здесь делал, сказали: любые меры. Понимаешь, что это значит? Чёрт с ними, это так всё неважно. Там такой обрыв, а под обрывом долгий плоский берег, меня водили, как только приехал. Теперь ничего нет, один обрыв — и тот осыпается. Я смотрю в эту глубину и мне страшно, там плывут все те, кого они изничтожили, плывут и смотрят: ага, Вежо в натёртых сапогах, смотри, скотина, в наши чёрные глаза, их тут тысячи, и в каждом бездна. Но это всё бредни, надо спать больше, а я ещё и болею. Тут поят кумысом, прекрасная совершенно вещь, меня за два дня подняли на ноги. Люди ничего, но мне совсем не хочется никого видеть. Ребята перед этим, между прочим, тянули в Витебск. Предлагали Орёл, Брянск, Северодвинск, Урал, Юго-Восток — выбирай любое. ЦК предложил, не хочу ли перейти на какую-либо другую работу, вроде руководящей советской или хозяйственной. Пока отказался, ну её к чёрту. Так далеко от Москвы, а я там не чувствовал себя таким загнанным, как здесь. Миша, почему ЦК не спросил, хочу ли я, чтобы ты приехал сейчас же и мы сбежали? Миша, я бы сказал им «да».
Со мной здесь Ваня Дементьев, помощник нач.охраны со «Светоча», мы давно знакомы (ещё по Ленинграду). Прости меня, он живёт со мной. Я бы тебе его отдал, если бы ты приехал. Такой мальчик: сильные руки, светленький, высоченный, еле дотягиваюсь. Я бы тебе его отдал, отдал. Слушай, пиши мне. Это всё такая гниль. Задыхаюсь. Ваня всё для меня делает.
3.1923
СОН ВЕЖО
Прожекторы по всему периметру ухнули как-то разом, и грандиозный размерами зал кисло защурился. Со зрителей потихоньку стянули белую полупрозрачную простыню, сшитую из нескольких кусков. Некоторые поддерживали её руками и перекидывали через головы соседей. Кто её снимал — было не видно; полотнище будто подхватило тугим воздухом и мягко сдуло. На сцене четверо толстых мужчин дометали блёстки со вчерашнего. Сбоку танцующей походкой выскочил конферансье в блестящем длинном бушлате. Вяло поругавшись с уборщиками, он проскакал под рампу, выгнул брови и после паузы трагическим голосом сказал:
— Je m’appelle Nikolai Véjo.
Зрители не поверили и захихикали. Через несколько секунд на арьерсцене что-то лязгнуло; из боковых карманов рванула волной стая тощих боевых псин: рыжие, клочкастые. Они занялись мужчиной в бушлате и стали его грызть. Мужчина комически повалился на спину и двигал руками и ногами, будто делает физзарядку. Сбоку кто-то хлопнул, предложив собакам переместить объект интереса. Пока животные тащили конферансье за сцену, он успел пару раз крикнуть про жемапель. Уборщики домели куски одежды, быстро спели какой-то марш и ушли. Коробка стагнировала в тишине. Через некоторое время шторы дёрнулись и на сцену выкатили Вежо — на деревянной подставке с колёсами. Вслед за ним выбежал, отплёвываясь, обгрызенный конферансье, рьяно хлопнул Вежо по спине, чуть не сбив его с подставки, прыгнул на авансцену и заорал:
— А! О!
Заорал:
— Собаки позорные!
Докончил:
— Je m’appelle Nikolai Véjo!
Вежо деликатно выразился:
— Протестую.
Сзади сказали: «Принято». Конферансье замялся. Вежо сказал: «Валюты не наличествует» и ошеломительно улыбнулся жемчужными зубами. Обгрызенный завыл:
— Тю-тю-тю! Тю! Что вы—что вы!
Добавил интимно:
— Мы не по этому предмету.
Пояснил:
— Сначала споём!
Сцену освещают красные и синие фонари, выхватывая куски интерьера; конферансье стоит в драматической позе, смотря вверх; на Николая Вежо натягивают блестящие бирюзовые ботфорты на шпильках, он не перестаёт улыбаться в зал. Цветные фонари меняют на светло-жёлтые, на сцене вспыхивает белый задник. Сверху на резиновых шнурах полукругом медленно спускают смешанный оркестр в цветном гриме; музыканты держат инструменты в руках, замирают за три метра до пола. Снизу выдвигается хор, накрытый красным чехлом.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПЕРСОНАЛИИ:
Кристиан Пендерецкий (конферансье)
Николай Вежо
Хор казаков-трансгендеров
Две певицы в плащах
СЦЕНА ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ:
ПЕНДЕРЕЦКИЙ:
Однажды в саду Николая Вежо
Погода такая стояла:
Светило сияло, и свежесть несло
С ближайшего речки канала.
ХОР КАЗАКОВ-ТРАНСГЕНДЕРОВ:
АХ, СОЛНЦЕ СВЕТИЛО, И СВЕЖЕСТЬ НЕСЛО
С БЛИЖАЙШЕГО РЕЧКИ КАНАЛА!
ПЕНДЕРЕЦКИЙ:
Тот сад у Вежо — он был полон кустов:
Крыжовник там рос и малина,
Росла облепиха, смородина, некоторое количество деревьев сливы, жимолость, рябина красная, черёмуха белая, — простые, в общем, довольно растения, ничего особенного, всё исключительно характерное для русского советского человека и садовода, коим Вежо и являлся.
ХОР КАЗАКОВ-ТРАНСГЕНДЕРОВ:
КОИМ ВЕЖО И ЯВЛЯЛСЯ —
ПАМ-ПАМ!
ПЕНДЕРЕЦКИЙ:
Стояли кусты и давали плоды
И жить никому не мешали;
Срывали плоды и свозили на ры-
нок, где их затем продавали.
ХОР КАЗАКОВ-ТРАНСГЕНДЕРОВ:
МАЛИНА ПО ТРИДЦАТЬ, РЯБИНА — ШЕССЯТ,
НА РАДОСТЬ ГЭБИСТАМ И ВРАГОВ РЕБЯТ!
ПЕНДЕРЕЦКИЙ (тревожно):
Однако вражина не спит, и Вежо
Подвергся вражиной подлянке,
Пока поливал хризантемы и ро-
зы на травянистой полянке.
Раздвинув крыжовник, раздвинув сирень,
Вражина подкрался коварно
И в нежную самую Коли серень
Ворвался, визжа так бесславно.
ХОР КАЗАКОВ-ТРАНСГЕНДЕРОВ (трагическим басом):
О, БЕДНАЯ, БЕДНАЯ КОЛИ СЕРЕНЬ.
ВРАЖИНА ВОРВАЛСЯ БЕССЛАВНО!
ПЕРВАЯ ПЕВИЦА (романтически):
Однажды в саду Николая Вежо
Погода такая стояла:
Стоял у Вежо, и насаживал жо — —
Моряк буржуазный с канала!
ВЕЖО (спрыгивая с подставки):
Моряк буржуазный с канала!!
ВТОРАЯ ПЕВИЦА:
Совдепии гражданам реальный урок:
Чтоб честь вам сберечь социально,
Продукты, в том числе натурпроизводства, следует покупать в специально для этого приспособленных местах, поскольку частные сады с плодовыми растениями — идея глубоко чуждая нашей культуре, идея по сущности своей гнило-капиталистическая; индивидуальные земельные хозяйства следует использовать для выращивания фактически и прагматически полезных культур, а лучше всего — идти на производство машинное, а выращивание живого из толщ земли оставить колхозам и совхозам.
ХОР КАЗАКОВ-ТРАНСГЕНДЕРОВ:
А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО…
ПЕНДЕРЕЦКИЙ (задорно):
…нужно помнить всегда:
Бдительность, бдительность —
Всегда, везде!
Бдительность, бдительность —
Всегда во всём.
Постоянно всюду бди,
Никому не говори — —
ВЕЖО:
Великий вождь! нас всех учил!
И беспрестанно говорил:
Смотри туда, смотри сюда
И выкорчёвывай врага!
ХОР КАЗАКОВ-ТРАНСГЕНДЕРОВ:
СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ! СМОТРИТЕ ТАМ!
ПУСТЬ ВРАГ ТРЕПЕЩЕТ ПО ДОМАМ!
СМОТРИ ТУДА! СМОТРИ СЮДА!
И ВЫКОРЧЁ-ВЫ-ВАЙ ВРА-ГА!
ВЕЖО:
Не давать любой попытке
Проникновенья буржуазной
И-део-ло-гии в нашу молодежь.
Этим ты наши идеи сбережешь!
ОБЕ ПЕВИЦЫ:
Ну, а если буржуазные идеи
Кто-нибудь воспримет,
Надолго тех будем мы сажать,
И в лагеря
усиленного
режима
по-ме-щать.
ВСЕ ВМЕСТЕ:
ДА, ДА, ДА, ДА — САЖАТЬ! САЖАТЬ!
И В ЛАГЕРЯ ВСЕХ НА-ПРА-ВЛЯТЬ.
Оркестр в воздухе делает несколько танцевальных движений и уплывает вверх; хор заковывают в одни огромные наручники и утаскивают со сцены. Свет становится мягче; толстый уборщик увозит подставку Вежо. Зал деликатно ухает в тишину, пространно звенит единственный микрофон. К нему медленно подходит Пендерецкий в сером приталенном костюме.
— Временами Николай Вежо оскотинивался.
Конферансье сделал паузу.
— Оскотинившись, Вежо желал есть людей. Так он прямо и говорил: Ваня, желаю есть людей.
Вежо в углу засветили синим прожектором. Он поднял добрые глаза и сказал:
— Ваня, желаю есть людей.
Свет сменился на красный, Пендерецкий под заигравшую музыку начал петь «To ostatnia niedziela», иногда вклинивая вульгарные строчки на русском языке. Всё зашевелилось.
— …Dziś przyszedł inny, bogatszy, I lepszy ode mnie.
Сбоку бросили тряпичную антропоморфную куклу в человеческий рост. Вежо мягко подошел к ней, держа ладони параллельно полу, присел, деликатно надкусил ей палец и покачал головой.
— …Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę — —
Ещё одна кукла, на этот раз пластиковая, упала Вежо в ноги и также была отвергнута.
— A potem niech wali się świat!
На сцену хлынул целый ряд огромных человеческих кукол разного пола и материала, но Вежо оставался равнодушен. Пендерецкий в faux-волнении обернулся, как бы спрашивая, чего тому хочется.
— Ваня, желаю есть людей, — сказал Николай и улыбнулся.
Пендерецкий, пожав плечами, поднял ладонь вверх и щёлкнул пальцами.
Было, кажется, пятое июня.
Жара.
Жара, да.
Где-то за городом пенсионеры ели борщ с косточкой, он был кипяток, и они включили вентилятор, и направили его на себя, и никто этого не услышал.
Сверху на сцену глухо упал сетчатый мешок, экономно брызнув во все стороны. Николай Вежо провёл рукой по шее и слизнул кровь. Медленно подходя к мешку, он довольно говорил:
— Ваня, Ваня!
Говорил:
— А, Ванечка.
Говорил:
— Вот дружочек, а.
Когда Вежо ножницами принялся разрезать мешок, громко заиграла весёлая музыка, поэтому зрители не услышали его протяжного вопля, когда мешок был вскрыт. Вежо кричал добротно, богато: царапал ногтями лицо, рвал на себе одежду, глотал красные слюни. На полупрозрачный суперзанавес в это время проецировались занятные движущиеся картинки, и в зале думали, что он так кривляется, и так положено. И так было положено, и так было.
Тело было несвежее, но Вежо, успокаиваемый толстыми уборщиками, его целовал и дёргался грудью, сдерживая рвоту. Была жара и пахло. Кое-как его успокоили, затушили музыку, тут же появился Пендерецкий и заорал:
— Меня зовут Николай Вежо! Je veux manger des gens! Ваня, Ваня!
Когда Вежо большой вилкой начал тягать куски помягчевшей плоти из мешка, попеременно плача, здание театра где-то лопнуло и начало потихоньку разрушаться. Люди сидели тишайше и были удовлетворены показываемым. Наконец здание обрушилось совсем, подняв громадную кучу бежевой пыли, которая не пропадала ещё несколько дней. Выбрался ли кто-нибудь из-под обломков — об этом в газетах не писали.
ПИСЬМО ВЕЖО ВНУТРИ СНА ВЕЖО
Жора, сегодня я видел Филатова.
Меня посадили в передвижную клетку, закрыли и занесли в театр на Рю Де Буше. Про ленинградца Филатова я тебе рассказывал: мы служили в одном полку, а потом его убили, то есть мне сказали, что его убили, но вот нет, то есть его всё-таки убили, или он умер сам, я не знаю, господи, но не тогда, не тогда, а вот сейчас. У нас была связь ещё на службе, потом мы разъехались, и мне сказали, что его убили. А 5-го меня занесли, поставили, что-то было, и потом сверху кинули его в мешке, и мне пришлось его съесть. Ты мне не поверишь, у меня пот стекает в промежность и трясутся колени, когда я это пишу, но мне пришлось его съесть, меня заставили — так было написано в сценарии. Я лежу третий день, меня пучит как болото, и я не могу от него избавиться. Я входил в него и был внутри него, а теперь Филатов во мне, Филатов внутри меня, и я даже не помню его имя, чтобы гладить свой живот и обращаться к нему по имени: Лёня, Саша, Вася, Петя.
Этот узкий ломаный нос и тонкие губы, господи.
Эти крупные ступни и длинные пальцы на руках с овальными ногтями.
Оно всё во мне, и я умру вместе с ним, и нас похоронят в одной могиле, но не рядом, а вместе, и мне только и осталось что умереть.
5.1923
ИНТЕРЛЮДИЯ
Каждый день Николай Вежо был приятным человеком, и не было дня, чтобы Николай Вежо был неприятным человеком, потому что всё, чем Николай Вежо был, и чем он являлся, и что Николай Вежо представлял из себя, — был суть приятный человек, и так было каждый день, и так было.
Каждый день Николай Вежо имел отношения с неизъяснимым, и не было не только дня, но и минуты, чтобы Николай Вежо не имел отношений с неизъяснимым, потому что всё, с чем Николай Вежо имел отношения, и с чем Николаю Вежо приходилось сталкиваться, и что Николая Вежо перманентно терзало, — было суть неизъяснимое, и так было не только каждый день, но и каждую минуту, и так было.
Каждый день Николай Вежо заглядывал в будущее, как в чёрный колодец, ничего не имея возможности там разглядеть, и не было не только дня или минуты, но и секунды, чтобы Николай Вежо не заглядывал в будущее, как в чёрный колодец, не имея ни малейшей возможности ничего там разглядеть, потому что всё, что видел Николай Вежо, заглядывая в будущее, можно было сравнить только с чёрным колодцем, в котором Николай Вежо, конечно, ничего не имел возможности разглядеть, — и так было было не только каждый день и минуту, но и каждую секунду, и так было.
Каждый день Николай Вежо был приятным человеком, и не было дня, минуты или секунды чтобы Николай Вежо был неприятным человеком, потому что всё, чем Николай Вежо был, и чем он являлся, и что Николай Вежо представлял из себя, — был суть приятный человек, и так было каждый день, каждую минуту, каждую секунду, и так было, и только благодаря этому своему качеству Николай Вежо способен был каждый день стойко встречать неизъяснимое и, заглядывая в будущее, не пугаться от его безграничного сходства с чёрным колодцем, в котором иди попробуй что-нибудь разгляди, — и всё только благодаря тому, что каждый день Николай Вежо был приятным человеком, и не было ни секунды иначе, и было так.
ПИСЬМО ВЕЖО
Вот посмотри на меня, Яша, во что я превратился этой весной. Посмотри на меня. Я стоял сейчас на крыше и смотрел на этот красный треугольник, разворачивающийся на горизонте. Это там, там для нас готовят смерть и забвение. Заболели глаза, отвернулся. Миша пишет: смотри всегда в другую сторону, там мягкая синева обещает жизнь. Глупости! Глупости!! Там то же самое, там ещё хуже, Яша!
Я чувствую, как меня глотает влажный хлюпающий овраг, не даёт воздуха. Мне становится отчаянно жалко всех, я вспоминаю всё время родителей, мне и их отчаянно жалко. Что это такое? Поставь их сюда, — не подойду, не обниму, буду стоять и жалеть: их, себя; до слёз, Яша. Я хотя бы способен на отчаяние: смотрю назад и вижу один чёрный тоннель, а они даже на отчаяние неспособны: стоят, окружённые вопросами «что это было?», «что это за жизнь?», «зачем она так с нами?»
А у меня один вопрос: что это за гниль сволочная внутри меня растёт?
Эта идиотка, баба Москвина, зовёт всё время жрать и называет «воробышком»: «что ты, воробышек, ешь так мало? докладывай!» Они оба такие отвратительные, что я их убью и себя не пожалею.
Дни длинные, ночи ещё длиннее, письма короткие. Яша, прости меня за всё, я пишу как в дневник. Расскажи про себя?
Сплошное горе, беда.
5.1923
СОН ВЕЖО
Николай Вежо выбрался из катакомбы на свет божий и первым делом принялся отряхивать колени. «Господи, что за чудо — эти крепкие от весны деревья, эта хрупкая земля», — кричало всё внутри у Вежо. Он закусил губу и побежал. Свет был — как в раю, а Вежо точно знал, какой именно в раю свет, — такой, что всё как бы сквозь полупрозрачный суперзанавес из плёнки, всё мягкое и далёкое, и плывут огромные цветы и растения в пятнадцать человеческих ростов, и такое всё прекрасное, что и вообразить себе невозможно, и вот по этой неизъяснимой невозможности бежал стремительно Николай Вежо, срывая на ходу влажные листья и подбрасывая их в воздух. Так бежал Николай Вежо, и так было долго, и так было.
Католическая церковь была пустая и глухо гудела, но Вежо не слышал. Он вошел в проход, запыхавшись, и поднял глаза, и ослеп от разноцветия, и умолк, хотя прежде не говорил ни слова.
Между рядами скамеек Вежо шёл и понимал, куда его тянет.
Воздух ощутимо покачивался.
Перед мраморным постаментом Вежо замер, и задохнулся, и рухнул на колени.
Над постаментом был установлен мраморный же крест. На кресте висел взрослый мальчик, родители которого, должно быть, были уже стары, да и который сам уже мог бы иметь детей, если бы не висел здесь так неприкаянно. У него было бледное тело, на нём были красные плавки.
Губами потянулся Вежо, потянувшись прежде руками, но был окликнут и окрикнут, и судорожно дёрнулись руки, опускаясь, и, закрываясь, сжались сухие губы.
На Вежо смотрела дикими глазами седая женщина. Она не поняла, и он не понял, что она не поняла, и он отошел, испугавшись, а когда обернулся, на месте было бледное тело, но не было ни красных плавок, ни следов от тёмных волос над ними, а был гладкий мрамор старой скульптуры, и она не смотрела на него дикими глазами или любыми другими, потому что была из камня и не имела глаз.
Сзади загудели и кто-то сказал:
— Коля, Коля!
И кто-то ещё сказал:
— Коля!
И ещё кто-то третий тоже сказал:
— Коленька!
Недалеко за стенами запели:
На кресте висит Христос, —
Проведём ему отсос
Николай Вежо обернулся и увидел трёх одинаковых мужчин, он их знал, и они были одним мужчиной, но их было трое. Их было трое, но их стало много, много больше. И всех их знал Николай Вежо, и от них было приятно ему слышать, как они кричали:
— Коля!
и потом кричали снова
— Коля!
и говорили коля
коля
говорили ему и с ним, и ему кричали.
В Николае Вежо было всего-то сто пятьдесят один сантиметр роста, и маленькая голова его закружилась, и всё поплыло перед глазами: гигантские цветы и растения, Ваня Дементьев, вилка с куском мяса, его бедные родители, мёртвый Филатов и живой Яша поплыли перед глазами Николая Вежо, и Иртыш, и обрыв, и чёрные сапоги, и кумыс, воробышек и отвратительная баба, — всё поплыло перед глазами Николая Вежо, а имел он тонкие пальцы и мягко, по-детски, этими своими тонкими пальцами трогал глаза, и, едва-едва надавливая, их протирал, и глаза совсем немножко слезились, и слёзы оставались на кончиках тонких пальцев Николая Вежо, и пахли апельсиновыми деревьями, и пахли такой травой, которая растёт высоко в горах, и по которой никто ещё не ходил, даже босиком, и Николай Вежо нюхает кончики своих тонких пальцев, пахнущие апельсиновыми деревьями и травой, и оттого ещё больше кружится его голова.
Вдруг разом всё смолкло.
Вежо прояснился и стал ровно на ноги. Вокруг было пусто, и свет был незначительный. Вежо обернулся и увидел над постаментом бледное тело в красных плавках. Грудь его вздымалась, и вслед за ней вздымалась грудь Вежо.
Он шёл бесконечно долго, и падал на колени, и снова вставал и опять шёл бесконечно долго. Одежда его истёрлась и он оставил её позади всю. Наконец он оказался у едва покачивающихся ног. На их пальцах были ровные овальные ногти, и это было прекрасно, и так было.
Было тепло, дул ветер, и даже внутри это было заметно.
— Это я, Господи, — сказал Вежо и поцеловал бога в ляжку.
Автор заглавной иллюстрации – Ольга Машинец.