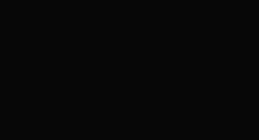Литературовед — не тот, кто знает, в какой статье Аполлон Григорьев написал «Пушкин наше всё», и даже не тот, кто понимает, что именно значит это высказывание, — а тот, кто понимает обусловленность того, что именно в этой григорьевской статье появилось именно такое высказывание. И более того: литературовед — тот, кто понимает обусловленность своей интерпретации этой обусловленности. Поэтому я не притязаю на раскрытие смысла, вкладывавшегося в 1920–30-е годы в понятие «новый человек». Будет сказано лишь о данном и необходимом, обеспечивших это понятие.
Четырехмерный новый человек
О пространстве нового человека в 1900–1930-х годах можно говорить в четырех смыслах, и нет уверенности, что этим тема будет исчерпана. Во-первых, пространство нового человека — это пространство коммуникации, в которой под «новым человеком» понимается «одно и то же». Сергей Есенин очень хорошо ориентировался в этом пространстве, когда писал: «Я — человек не новый…» («Русь уходящая»), он понимал, что существует дискурсивная топографическая оппозиция архаичной, крестьянской деревни и «стали» заводов, автомобилей и железных дорог, а также и то, что эта оппозиция не равна той, что возникла между традиционализмом и новейшей техникой в футуризме 10-х годов. Он определил себя высказыванием, учитывающим творчество «пролетарских» поэтов «Пролеткульта» и «Кузницы» (М. Герасимова , В. Кириллова и др.), которые сами испытывали его влияние. В этом дискурсивном пространстве обмена, где «комсомол» означал наиболее передовых людей, которые меньше, чем их отцы и старшие братья, зависели от формовки в дореволюционном «старом мире», «новый человек» был «человеком нового мира», индустриального, коллективистского и социалистического или социалистически-ориентированного.
Другое пространство — это воображаемый «новый мир», относимый более к будущему, чем к настоящему, но уже созидающийся. В этом воображаемом утопическом пространстве, «новом мире» от «Интернационала» и А. Богданова до наименования «Новым миром» журнала во главе с Вяч. Полонским , новый человек был не только дискурсивным объектом, но и субъектом творчества самого этого мира, новым субъектом истории. Вернее сказать, это было «политическое (собственно, „классовое“) воображаемое создающего самого себя субъекта революции» «в плане эстетизации труда и производства» (Добренко Е., «Политэкономия соцреализма»). То есть мы говорим о не-дискурсивном, которое делает возможным всякое высказывание: об области возможных референтов для этого высказывания. Но воображаемое, о котором идет дело, принадлежит, тем не менее, дискурсу, а не автору или читателю. Герой производственного романа — это и творец нового мира, и создающий сам себя силами сознательности субъект революции, продолжающейся в дискурсе о коллективном, социалистическом труде на великих стройках. Тут через воображаемое преодолевается — посредством телеологического строительства нового мира — детерминизм старого мира (мотивирующий поведение человека не-нового в самом новом человеке), а «ветхий человек» перерождается в нового или исчезает. Новый мир, осуществляясь, приносит новую детерминистскую обусловленность, но слово «детерминизм» не вполне корректно, поскольку проявления нового мира в еще наличном старом мире обуславливают что-либо скорее не сами по себе, а через свой телеологический финал — социализм или, позднее, коммунизм.
Новый человек совершает за счет роста своей сознательности телеологическую метаморфозу и строит новый мир. Эти параллельные процессы, имеющие своими воображаемыми референтами некие «новый мир» и «нового человека», рассматриваются как две стороны одного и того же. Такое возможно, конечно, только в пространстве воображаемого, в пространстве идеалов нового мира и нового человека. Но воображаемое пространство будущего становится коррелятом «реального» дискурсивного, изображаемого, и все феноменально выраженное, в понятиях и формах дискурса, есть образ и частичное осуществление интеллигибельного, трансцендентного воображаемого, его «присутствие».
Поэтому в третьем смысле можно говорить о конкретном изображаемом пространстве, которое дискурсивно интерпретировалось как «реальное» и в условиях которого возникал объект, соответствующий понятию «новый человек». Тут он не был, однако, субъектом, поскольку субъектом оставался автор, изображающий «реальное» пространство и самого нового человека. Эти три пространства отражаются одно в другом, везде найдется и не-новый человек, вроде есенинского лирического персонажа, и машины с их преобразующим воздействием на пролетария, отвечающего им любовью, и многое другое.
Наверное, можно было бы говорить и о реальном без кавычек пространстве «перековки» принудительным трудом на великих стройках, о пространстве пенитенциарном, каторжном, юридически размеченном. Там происходило «перевоспитание» ветхих людей в новых. Но здесь мы выходим за пределы компетентности, требуемой понятием «нового человека». Кто бы осмелился утверждать, что на этих вполне реальных стройках происходили действительные «перековки», т. е. возникал обновленный социалистическим, коллективным трудом человек какого-то особого типа? «Новый человек» – понятие, отсылающее к воображаемому, а не к реальному. Другое дело — «свидетельства» таких песен, как «На Молдаванке музыка играет…» и даже «Мурка», сюжеты которых — превращение вора или воровки в «героя трассы», «ударника» или агента ЧК. Эти свидетельства, хотя и неофициальные, согласуются с конкретным «реальным» пространством перековки и обновления в литературе. Это сцены-локусы: Одесса, Молдаванка, пивная; Беломорканал, «у лагерных ворот»; хаза и «шикарный ресторан». Поэтому, наверное, разумнее говорить о материальном пространстве, где совершается акт высказывания о новом человеке, будь оно двухмерным листом бумаги или трехмерной средой произнесения в речи или в песне.
На деле, следовало бы серьезнейшим образом рассмотреть, что означает «отражение» пространств, одного в другом. Очевидно, что энгельсовский принцип отражения действительности в сознании был перенесен Лениным на отражения действительности в литературе и, шире, культуре («Философские тетради» Ильича и его «Лев Толстой как зеркало русской революции»). Правда, отражению приходилось всё равно пройти через сознание, и даже «классовое», но не в этом сложность, а в том, что сознание, строго говоря, ничего не «отражает». Воспринимаемое и мыслимое, cogitatum , находится на некой грани воспринимающего субъекта и предстоящего ему объекта, грани хотя бы иллюзорной. То, что происходит на этой грани, – взаимодействие субъекта и объекта восприятия, природа какового взаимодействия остается спорной.
К нашей теме это имеет прямое отношение. Как связаны были между собой коммуникационное, воображаемое, гипотетическое «реальное» и материальное пространства высказываний о новом человеке и новом мире? Например, пространства в гипотетически «реальном» смысле и в смысле его воображаемого коррелята должны неодинаковым образом соприкасаться с дискурсивным пространством, которое само занимало по отношению к материальной «среде» высказывания неодинаковое положение, в зависимости как от формы дискурса, так и от варианта среды. Опрометчиво сказав, что они «отражали» друг друга, мы нащупали истинную проблему.
Поскольку мы говорим не о вещах, а словах, постольку конструкты высказываний и уровни их пространственного существования как-то «отражаются» друг в друге только при условиях, что речь в сходных понятиях идет «о том же самом» и у речи одни и те же или сходные инстанции и стратегии (М. Фуко , «Археология знания»). Но вряд ли когда-либо можно убедиться в том, что речь действительно идет о «том же самом». Само утверждение «Это — то же самое» подразумевает преодолеваемую нетождественность «этого» и «того же самого», иначе приравнивающее утверждение не имело бы смысла. Поэтому Мишель Фуко прибегает к понятию сосуществования, взаимной допустимости дискурсов. При некоторой нетождественности объектов, высказывания о них взаимно допускаются, и разница становится иррелевантной. Тем не менее, это еще не ответ о пространствах высказывания, как отличаемых нами от дискурсивно-коммуникационного, так и о самом дискурсивно-коммуникационном.
По направлению к воображаемому зеркалу
Что достаточно легко установимо, так это литературная топография конкретного «реального» пространства, территории великих строек. Заброшенные в глушь, окруженные враждебной природной дикостью и сопротивлением местных обитателей, эти стройки всегда находятся на оси с Москвой, ее «светочем». Строится или восстанавливается технологический объект (завод, гидростанция, плотина, канал), преображающий природу и человеческие отношения в отдалении от Москвы и других центров культуры. Что ни откроешь — «Цемент» Гладкова, «Гидроцентраль» Шагинян , «Соть» Леонова, «День второй» Эренбурга, «Время, вперед!» Катаева и т. д. — всюду мы обнаруживаем пространство естественной стихийности, включающей природу и людей. Даже Коломна становится глухоманью, живущей своей древней, утробной жизнью, в «производственном» романе Бориса Пильняка «Волга впадает в Каспийское море».
«Перековка» ветхого человека в нового происходит в «производственных» романах 20-х–начала 30-х годов на стройке, где кандидат в новые люди втягивается в коллективистское пространство публичности, само коммуникационное оформление которого принадлежит трудовой коллективистской сознательности. Михаил Рыклин называет это место дискурсивным «пространством ликования», основанного на ужасе. Этому пространству противопоставлено пространство свободы, в том числе сексуальной: Старый дом в «Мы», квартира вдовы Прокопович в «Зависти», коммуна в «Машинах и волках» Пильняка, общежитие, где вредитель Бадьин берет Полю Мехову, в «Цементе», а также комната вредителя Шрамма в Доме Советов, где Бадьин пирует по ночам с хозяином и товарищами; квартира начальника стройки Левона Давыдовича в «Гидроцентрали», Томск для Володи Сафронова в «Дне втором», казачья деревня во «Время, вперед!» – место возлияний, и т. д. Пространство свободы подразумевает свободу уединенного индивида или индивидов, не объединенных строительным трудом, растворяющим человека в себе. В конечном итоге, это пространство природы, парадоксально ставшей «свободою».
Между тем, учитывая, что сам уединенный индивидуум конституируется в таком своем качестве коллективом и подвергается изоляции, для которой пространство свободы — некая резервация, это пространство дискредитируется как локус опасной стихийности и ее коррелята — «неразумия» личной рефлексии. Такое недоверие к пространству свободы вызывает в ряде случаев его разрушение или репрезентацию его как разрушающегося и разрушающего (так, в общежитии происходящее между Бадьиным и Полей подслушивается обособленным интеллигентом Сергеем Ивагиным, а в Доме Советов разговоры Бадьина и Шрамма — охранником Цхеладзе; психическая устойчивость Поли, а отчасти и Сергея подорваны). На деле же смерть и увечье несет как раз противоположное публичное пространство массового труда («Соть», «День второй», «Человек меняет кожу» и др.), что, кстати, не скрывается авторами, от Гладкова до Ясенского . Так же смертоносно публичное пространство детского дома, где погибает дочь Чумаловых («Цемент»).
Сцена действия, на которой мы видим проявление нового человека в человеке ветхом, очерчена и отделена расходящимися концентрическими кругами, периферией, от еще более широкого пространства стихии. Интересно, что именно так обстоит и в (анти)утопии Замятина «Мы», и в фантастическом романе Е. Зозули «Мастерская человеков», где действие по производству нового человека разворачивается в Москве, в замкнутом пространстве эксперимента, но сам новый человек появляется не в московской мастерской человеков, а на отдаленной стройке, которую мы вправе представить по образцу «Соти» или «Человек меняет кожу» Бруно Ясенского, но которая остается сугубо воображаемым, а не «реальным» пространством. В случаях Замятина и Зозули, при тех же принципах топографии, само возникновение нового человека уходит от показа (showing) и служит предметом более или менее короткого рассказа, резюме (telling). Иначе дело обстоит в строительных романах, где «новый человек» все яснее очерчивается в человеке не-новом, а новый мир уже мерцает как утопическое инобытие старого мира. Показ осуществляется, но… не завершается, как не завершается становление «нового человека». Отнести к человеку не-новому или человеку новому те или иные артикулированные признаки, действия, слова персонажей — задача, решаемая только через обращение к воображаемому («дали социализма», коммунизма), всегда ускользающему от позитивной интерпретации. Но «реальное» пространство, таким образом, взаимно обеспечено пространством воображаемого. Их корреляция — условие их существования.
Заметим, что противопоставляя «рассказ» и «показ», мы противопоставили типы заполнения материального пространства текстом. Показ занимает больше места, чем резюмирующий рассказ, по крайней мере — в упомянутых случаях. А тем временем, фантастико-утопическое, будучи описанным, – «реально», но границы реального и воображаемого здесь размываются в самом утопическом «реальном» при показе. Так, персонажи «Мастерской человеков» приезжают в Москву из некой буржуазной европейской страны, без точного прообраза. Сам глава «Московского филиала Мастерской человеков», Капелев — уже новый человек, поскольку он был растерзан при погроме и оживлен изобретателем Латуном. И, тем не менее, в этом новом человеке живет человек прежний, ветхий, как и в созданных Капелевым помощниках.
Таким образом, в литературе мы находим непростое соответствие между воображаемым, «реальным» и материальным пространствами. В концентрических мирах романа «Мы» и романа «Мастерская человеков» – та же разметка «реального» пространства, что и в производственных, на деле – строительных романах. Фантастическая деятельность мастерской человеков всегда формирует вокруг себя замкнутый участок чудесного, где «реальное» пространство как бы насыщается воображаемым. Будучи перенесенной в Москву, мастерская еще и образует ось с единожды упоминаемой стройкой. Но и сама стройка у Зозули и в «производственных» романах нужна для того, чтобы ставить реальное, реально-бытовое под сомнение посредством воображаемого. Топография стройки обладает призрачным временем. Как писал Михаил Рыклин о «метродискурсе», дискурсе, оформлявшем строительство московского метрополитена, «это бегство из настоящего в парадоксальное грамматическое время, предвосхищенное будущее, будущее-в-настоящем; точнее, это настоящее время в той мере, в какой оно не растворилось в своих конкретных проявлениях, сохранив утопический потенциал» («Пространства ликования. Тоталитаризм и различие»).
Итак, понятие «нового мира», задающее «реальное» пространство стройки, покрывает в разных текстах разные по размеру сегменты пространств. У Пильняка мы больше узнаем о мире старом, сопротивляющемся индустриализации и коллективному труду («Волга впадает в Каспийское море»). В меньшей степени вкрапления старого мира показаны в «Дне втором» Эренбурга, но и там его материальное пространство велико. За охватывающим кругом периферийной уединенности этого неэластичного, враждебного старого мира оказывается новый мир в своем становлении. Или иначе — старый мир выкраивает отдельные участки в становящемся новом мире, (пред)социалистическом и коллективистском. То, что в «Мы», как и в богдановской (анти)утопии «Красная звезда», замятинском источнике, новый мир реализован как данность, корректируется тем, что в обоих текстах заходит разговор о распространении пределов этого нового мира — у Богданова обсуждается возможная колонизация марсианами Земли и начинается частичная колонизация Венеры, у Замятина таинственная машина «Интеграл» должна распространить упорядоченную, унифицированную жизнь нового мира на всю Вселенную. То есть даже в (анти)утопиях мы обнаруживаем новый мир в изоляции и в пространственном становлении. На любой из великих строек «производственных» романов персонажи обязательно скажут (если это не сделает рассказчик), что строится не просто завод или плотина — строится социализм, т. е. создается новый мир. Но тут дискурсивное граничит с воображаемым. Самого нового мира мы еще не видим текстуально созданным — только устремление и приближение к нему.
В антиутопии и фантастике, в философской и нефилософской публицистике новый мир вполне может быть текстуальным и дискурсивным, но там, как только говорится о «реальном» пространстве, наличие нового мира как частично уже осуществившегося ставит себя под вопрос, выдавая этим свою неподлинность, переносится в воображаемое. Ибо подлинна только жизнь как таковая, которая не может поставить себя под вопрос — за нее это делают другие.
Бытие и вещи
Текст, как и всякая вещь, созданная человеком, страдает дефицитом бытия, который восполняется его чтением или произнесением и слушанием. Нечитаемый кем-либо текст ни в коем случае не сохраняет той же степени своей материальности, какую, как нам обычно кажется, сохраняет непрерывно бумага со значками, образующими этот текст. Дело в том, что бумага со значками и текст — это разные по своей функциональной структуре материальные объекты. Вспоминается легенда о скандальном романе поэта Василия Комаровского «До Цусимы», который якобы скурил, вертя самокрутки, критик Дмитрий Святополк-Мирский во время Гражданской войны, уже после смерти Комаровского. Неизвестно, были ли у этого текста читатели, ознакомившиеся с ним полностью. Призрачность подобного романа — даже если его не скурил Святополк-Мирский, даже если он спокойно, позабытый, хранится в каком-то архиве — весьма ощутима. Неведомого шедевра не существует. И его материальное, но никому не известное наличие не меняет ситуации, поскольку не имеет функциональной формы. Но, не затевая долгих онтологических рассуждений, следует сказать, что текст как материальный объект, пространство знаков, следов высказываний, которые могут быть реактивированы при чтении, не может притязать ни на какую тотальность. Его редкость хорошо видна из учета тотальности жизни, изобилующей не-текстами.
Но даже и не вдаваясь в исследование текста как вещи, можно оказаться лицом к лицу с эфемерностью материального — с хорошо известными текстологическими проблемами. Так, «Гидроцентраль» М. Шагинян вышла отдельным изданием летом 1931-го года, когда на нее и откликнулся из Парижа раздраженный Адамович. Однако еще до этого роман печатался в периодике, а под доступным сейчас текстом стоит датировка «1928–1948». Следует, видимо, говорить о череде текстуальных пространств; но что касается дискурса — «Гидроцентраль» в достаточной мере соответствует структуре «производственного», а вернее строительного романа 1920–30-х годов. И таких текстологических и пространственных вопросов возникает множество. И относительно вариантов «Мурки» (все-таки «Там сидела Мурка в кожаной тужурке» представляется более ранним), и относительно двух редакций «Вора» Леонида Леонова, одна из которых относится к 20-м, а другая к 50-м годам. Это роман о мучительном и безуспешном движении — и топографическом тоже — бывшего красного командира, а теперь вора Дмитрия Вершина к «новому человеку» в себе, а потому, конечно, касается нашей темы.
Специфично то, что в дискурсе о новом человеке и новом мире определяющими оказываются атрибутивные высказывания о старом и новом, т. е. высказывания, которые устаревают каждую минуту и компрометируют свои понятия старого и нового, которые уже не будут «теми же самыми» в последующем тексте. Материальный «след», текст или запись речи или песни, неизбежно соотносится с дискурсивным — как следствие того, что высказывание имело место быть. Тут наблюдается некая механистичность соотношения. Но с воображаемым и «реальным» текст соотносится иначе. «Реальное» пространство может сводиться к минимуму в публицистике, а соотношения следа и дискурса останется тем же самым. Воображаемое по своей природе нетекстуально, однако возникает как бы в пространстве между дискурсивным и «реальным». Проталкивание избыточного воображаемого за текст, под текст, излюбленная забава филологов, не отменит того сурового факта, что воображаемое не может быть додискурсивным, если оно соотносится с материальным текстом и «запечатленным» дискурсом. За текстом и под текстом оказываются лишь проекции воображаемого, которым реципиент щедро наделяет автора или дискурс, что, конечно, одно и то же в данном случае.
При этом между материальным пространством текста, «реальным», дискурсивным и, наконец, воображаемым существует связь, которую тонко чувствует и описывает Егор Егорыч, рассказчик в «У» Всеволода Иванова (один из рассказчиков этой пародии на производственный роман). Показ «реального», московского пространства протекает во времени повествования. Само же время повествования, время, о котором повествуется, может сжиматься и растягиваться относительно времени самого акта рассказывания, т. е. времени, сопоставимого с реальным временем чтения; их отношение образует темп повествования (Жерар Женетт, «Повествовательный дискурс»). Так, сцена или описание (случаи показа) обладают меньшим темпом, чем резюме (рассказ) — за счет большей протяженности текста в их случае. Эта величина выражена в материальном количестве знаков, а оно, в свою очередь, зависит от стилистики: сцена или описание могут быть краткими, а могут быть замедленными, не столько из-за детальности, сколько из-за длины фразы. Стилистика входит в пространство стратегий дискурса, и тут материальное пространство смыкается с дискурсивным. Что касается воображаемого, то его обычная судьба — сокращаться по мере чтения, насколько дискурс уточняет и приводит воображаемое к «реальному» пространству изображенного. Но воображаемое в советском романе — потенциал, который не может иссякнуть.
Между тем, Егор Егорыч указывает на скрытую прерывистость своего повествования, прерывистость, остающуюся интеллигибельной: это прерывистость событий в «реальном» пространстве. Оказывается, события, объединенные компетентностью рассказчика, занимали три месяца, но были произвольно водворены Егором Егорычем в границы пяти дней. Второстепенные ходы фабулы просто подверглись исключению из показа в сюжете, о них лишь упоминается или они подразумеваются; и таким образом, между сценами возникают незримые лакуны. В свою очередь, события пяти дней подверглись вторичной деформации стилем: посредством отступлений и длиннот, т. е. ретардации. История с бывшей секретаршей Шкловского, разбившей некое не разделенное знаками препинания повествование Егора Егорыча на короткие фразы, что привело к большему успеху машинописи у редактора, — обнаруживает, что иная синтаксическая сегментация дает некоторый выигрыш. Но все равно остается, видимо, ощущение неправдоподобия, которое возникает якобы из-за плотности событий в сюжете, т. е. из-за его модернистской прерывистости. Круг смыкается: ретардирующий стиль соответствует постоянно откладываемому сбору московских обывателей для отправки их на уральский Шадринский комбинат, где им предстоит перековка. То, что «перековка» не наступает и события никуда не ведут, и есть «неправдоподобие», с социалистической, телеологической точки зрения: «реальное» пространство «У» не есть пространство возникновения «нового человека» и «нового мира». Возникает корреляция между стилистической ретардацией и неправдоподобием. Сама «правда» «реального» зависит от близости воображаемого «нового человека» и воображаемого «нового мира», движение к которым в текстах Егора Егорыча приторможено противонаправленной телеологией стиля — дискурсивной стратегией; связь «реального» московского и воображаемого уральского пространств вообще под угрозой.
Мы можем легко убедиться, что пространство «нового человека» раскрывает связь между «новым человеком» модернистов — от «Новой Евы» Вилье де Лиль-Адана и ницшеанского сверхчеловека до марсиан богдановской «Красной звезды» и жителей замятинской (анти)утопии — и «новым человеком» социалистической литературы. В «Новом человеке и его дискурсе» мы склонны были придавать большее значение различию: мы были пойманы в ловушку хронологии, расставленную словами «старый» и «новый». Постаравшись уйти от временных характеристик и обратившись к топографии, мы уменьшили разрыв, но не отказались, конечно, вполне от дифференциации. В «Новой Еве» Вилье нужно подземное фаустовское обиталище Эдисона; Богданову нужен Марс. А производственным романам и другим текстам о «новом человеке» 20–30-х годов нужно «реальное» пространство стройки. Значимость сходства трудно переоценить. В обоих случаях «реальное» пространство со своими событиями овладевает большим текстуальным объемом, будучи ограничено не резюмированным «реальным» пространством стихии, а воображаемым, где задается, с одной стороны, враждебная стихийность, с другой стороны — дивный новый мир.