Как социальная справедливость стала новой религией, а культура отмены — метафорой смерти, исследуют культуролог Хелен Плакроуз и математик Джеймс Линдси в книге «Циничные теории. Как все стали спорить о расе, гендере и идентичности и что в этом плохого». Критикуя исследование американских ученых о цинизме и гуманизме в постмодернистской культуре, философ Сергей Стрельников выясняет, как связаны новая общественная мораль и академическое знание, каким образом эпидемия COVID-19 политизировала науку, а также почему новая этика радикализует общество и стигматизирует меньшинства, а не решает их реальные проблемы.
В российском интернете уже больше года повсеместно обращается слово «повесточка»: в пабликах, в фейсбучных дискуссиях и даже в среде любителей компьютерных игр. Этим определением, как правило, называют различные проявления политкорректности и отказ от явного или предполагаемого угнетения меньшинств в науке, политике, искусстве и культуре. Критики использования такой формулировки считают, что она подчеркивает незначительность имеющихся в обществе проблем. Так как речь во всех случаях идет о возможных ответах на философский вопрос «Как жить?», совокупность таких ответов иногда называют «новой этикой». Как сторонники «новой этики», так и их оппоненты концептуализируют свои мысли и аргументируют позиции. Противниками новой системы этических норм считают себя американские ученые Хелен Плакроуз и Джеймс Линдси, авторы книги «Циничные теории. Как все стали спорить о расе, гендере и идентичности и что в этом плохого», вышедшей на русском языке в издательстве Individuum в 2021 году.
О чем новая книга Хелен Плакроуз и Джеймса Линдси?
Книга представляет собой сумму аргументов, доказывающих бесполезность и даже прямой вред некоторых социальных исследований. Во введении задаётся общее настроение и обозначается позиция авторов: они определяют своих оппонентов («защитников идей социальной справедливости», «академических активистов», «Теоретиков», «постмодернистов») как представителей иной культуры, для коммуникации с которыми следует лучше понимать предпосылки формирования их мышления. Такой подход предопределяет видение книги авторами: «Эта книга — руководство по языку и обычаям, которые в настоящее время широко продвигаются под приятным глазу брендом „Социальная Справедливость“». Заметим, что здесь заглавные буквы используются, чтобы обозначить понимание термина оппонентами.
Различия в понимании проявляются и в определении постмодернизма, и в изначальной позиции, которой придерживаются авторы:
В своей основе постмодернизм отвергает так называемые метанарративы — масштабные, целостные объяснения того, как устроены мир и общество. Он отвергнул христианство и марксизм. Он отвергнул науку, рациональное мышление и столпы западной демократии, созданные эпохой Просвещения. Постмодернистские представления сформировали то, что с тех пор чаще всего называют Теорией. Теория с заглавной буквы Т (и связанные с ней слова, такие как Теоретик и Теоретический) будет означать подход к социальной философии, вытекающий из постмодернизма.
Исследователи признают, что довольно сложно определить этот термин, хотя делают несколько попыток. Например, авторы понимают постмодернизм как:
- определенный подход к социальной философии;
- совокупность идей и способов мышления как ответ на определенные
- исторические обстоятельства;
- определенный набор убеждений;
- доминирующую культурную тенденцию;
- глубокий кризис доверия и аутентичности;
- быстро эволюционирующий вирус;
- реакцию, отрицание модернизма и модерности.
Хелен Плакроуз и Джеймс Линдси рассматривают все тезисы о постмодернизме как своеобразную религию, что определяет содержательно и тактически всю их контраргументацию установок сторонников и активистов. Непосредственная цель книги, по словам авторов, — «рассказать историю о том, как постмодернизм воспользовался своими циничными Теориями для деконструкции так называемых старых религий человеческой мысли, включающих в себя традиционные верования, такие как христианство, и светские идеологии, такие как марксизм, а также связанные между собой системы модерности, такие как наука, либеральная философия и прогресс, — и заменил их новой религией под названием Социальная Справедливость». Однако их интерпретация истории и предпосылок возникновения направления представляется неполной, как и само понимание постмодернизма. Для наглядности позиции Плакроуз и Линдси приведём их схему возникновения и развития постмодернизма и его постепенного распространения в исследованиях общества и социальном активизме:
Чтобы понять, как развивались три фазы постмодернизма, представьте себе дерево, глубоко уходящее корнями в леворадикальную социальную теорию. На первой, или деконструктивистской, фазе в 1960 —1980-е годы (обычно называемой просто «постмодернизмом») вырос ствол дерева: Теория.
В ходе второй фазы с 1980-х до середины 2000-х годов, которую мы называем прикладным постмодернизмом, у дерева появились ветви — более применимые на практике Теории и исследования, в том числе постколониальная Теория, квир-Теория, критическая расовая Теория, гендерные исследования, исследования человеческой полноты, исследования инвалидности и россыпь критических исследований всего подряд.
На нынешней, третьей фазе, начавшейся в середине 2000-х годов, Теория превратилась из предположения в Истину, принимаемую как должное. Тут дерево покрылось листвой академических исследований Социальной Справедливости, по мере необходимости объединивших предшествующие подходы. Константой всех трех фаз была Теория, воплощенная в двух постмодернистских принципах и четырех сюжетах.
Два принципа можно изложить следующим образом:
принцип знания, основанный на радикальном скептицизме в отношении возможности получения объективного знания либо истины и культурной обусловленности любых суждений;
принцип политики, исходящий из понимания общества как набора структур и иерархий, определяющих, кто и что именно может знать.
Четыре сюжета, в свою очередь, таковы:
«Размывание границ». Границы определяются предельно широко: между знанием и незнанием, религией и наукой, человеком и животным и т. д.
«Власть языка». Языку придаётся высокое значение, особенно в вопросе отношений власти и угнетения.
«Культурный релятивизм». Знанию приписывается дискурсивная природа, потому что оно всегда формируется в рамках некой культуры. Значит, пытаться понять человека с другими дискурсами, сформированными иной культурой невозможно, а критика собственной ограничена тем, что все инструменты критики сформированы в рамках дискурса.
«Утрата индивидуального и универсального». Индивидуальность и универсальность полагаются в качестве дискурсивно сформированных конструкций. Вместо этого следует сосредоточиться на локальных группах, которые и выступают проводниками знания.
Примечательно, что при описании содержания Теории авторы пользуются довольно постмодернистским (в той степени, в которой постмодернизм связан с филологией и текстами вообще) термином «сюжет».
Применяя эти два принципа и четыре сюжета, Плакроуз и Линдси последовательно анализируют и критикуют содержание теорий, посвященных пониманию общества с позиции угнетения: западными людьми восточных, белыми людьми чёрных, здоровыми людьми инвалидов и т. д. В фокусе критики находятся работы ученых Хоми Бхабха, Джудит Баттлер, Кимберли Креншоу, Аннамари Джагоз, Ричарда Дельгадо, Шарлотты Купер и других. В последних двух главах книги исследователи обращают внимание на общественную опасность такого развития постмодернизма в современных условиях и манифестируют собственное отношение к основным проблемам, представляющим предмет спекуляции постмодернистских Теоретиков и активистов. Хелен Плакроуз и Джеймс Линдси строят манифест на основании точек соприкосновения с этими общественными проблемами и определяют неприемлемые для себя способы решения, которых, как нетрудно догадаться, придерживаются активисты.
Почему книга не так хороша, как кажется?
Прежде всего, важно отметить, что авторы — сознательно или неосознанно — упрощают историю, говоря о возникновении постмодернизма. Постмодернизм не возник ниоткуда, и не является исключительно и только реакцией разочарованных французских филологов, коренящейся в «антипросвещенческих» настроениях, на социальные и экономические изменения в послевоенном мире. Он базируется на всей истории европейской философской мысли, течении экзистенциализма и связан не только с гуманитарными, но и с естественнонаучными исследованиями. В частности, с теорией относительности Эйнштейна, ставящей протекание некоторых физических процессов в зависимость от наблюдающего субъекта, а не наблюдаемой объективной реальности. Важность языка определяется восприятием мира как текста, следовательно, понимать его нужно как текст, а это — герменевтика, которая корнями уходит в патристику и анализ священных писаний. В свою очередь, скепсис в отношении устоявшихся истин — это двигатель любой рациональной мысли. Ученые связывают возникновение философского мышления с моментом, когда человек начал сомневаться в мифах как объяснительной системе древности.
В книге ничего не говорится об экзистенциализме — философском течении, которое, поставив субъекта в центр внимания философов, выступило основой для становления постмодернизма. Иррационализм, довлеющий с конца XIX в. как реакция на смену политических режимов, стремительную урбанизацию, отчуждение человека, вызвал к жизни экзистенциализм как значимое философское направление, которое продолжило свое развитие и в XX в. Есть точка зрения, что сквозной характер проблем, поставленных экзистенциализмом, объединяет его с постмодернизмом, отражает изменения европейского интеллектуального ландшафта конца XIX — середины XX вв. Постмодернизм здесь выступает если не логическим продолжением экзистенциализма, то одним из направлений, осмысляющих те же проблемы. Он не антигуманен по своей сути: его призыв не только к деконструкции, но и к игре представляет собой один из возможных вариантов ответов на будоражащие человека вопросы, в том числе и о смысле его существования, поиске той самой аутентичности бытия, утрату которой артикулировали экзистенциалисты.
Примечательно, что ни один из тех, кого авторы уже по традиции относят к основоположникам постмодернизма (будь то Мишель Фуко, Жан Франсуа Лиотар, Жак Деррида), не обозначал себя так и не называл свои взгляды постмодернизмом. Кроме того, существует мнение, что важно отличать постмодерн как комплексное описание состояния общества и (или) искусства и постмодернизм как познавательную рамку. В таком случае иногда разворачивается дополнительная дискуссия о том, что следует за постмодерном: метамодерн, неопостмодерн, постпостмодерн или что-то ещё похожее, что может говорить об изрядном интересе к этому вопросу в сочетании со слабостью результатов сущностного понимания общества. Эта позиция также не обозначена в книге.

Следует сказать, что Плакроуз и Линдси несколько раз, включая англоязычное название книги, упоминают о цинизме как свойстве постмодернизма. Однако неясно, в чем же заключается цинизм? В отрицании идей Просвещения и прогресса? Неоднократно такие идеи ставились под сомнение, но это не делает сомневающихся циниками. Или, может, имеется в виду цинизм в значении близости к идеям Диогена? Но такая связь не следует из текста. Возможно, авторам следовало бы говорить о том, что постмодернизм циничен, поскольку поощряет человеческую безответственность? Однако постмодернизм в качестве одного из своих выводов в сфере онтологии предполагает ответственность человека, его обязанность осознавать обусловленность своего познания культурными и прочими факторами, готовность меняться (или же оставаться тем, кто он есть) и нести ответственность за этот выбор, который меняет его самого как субъекта.
Также нужно сказать о таком явлении, упоминаемом в книге, как академический активизм. Авторы не дают ему собственного определения, что не мешает выделять академических активистов как действенных субъектов общественного процесса. Исследователи упрекают сторонников постмодернистских теорий в стремлении видеть отношения власти и угнетения везде, а также склонности политизировать любые общественные отношения. Ими декларируется недопустимость такого подхода к процессу преподавания, которым занимается значительная часть академических активистов:
Хотя ученым, разумеется, допустимо быть активистами, а активистам — учеными, совмещение этих двух ролей чревато проблемами, а в ситуации преподавания политических взглядов в университетах склонно приводить к ортодоксии, которую нельзя подвергнуть сомнению. Между активизмом и образованием лежит принципиальное противоречие: активизм предполагает, что знает истину в достаточной мере, чтобы действовать в соответствии с ней, в то время как образование осознаёт, что не знает наверняка.
При этом авторы открыто объявляют себя сторонниками либерализма, который не менее политически насыщен.
Защищая свободу слова как один из механизмов выработки совместного решения, авторы приводят в качестве аргумента высказывание классика либерализма Дж. Стюарта Милля о принципиальной возможности критики теории Ньютона. Далее исследователи совершенно верно указывают на то, что она была опровергнута Эйнштейном именно благодаря существованию возможности критики как таковой. Заметим, что теория Ньютона в определенных масштабах продолжает применяться и работать, равно как до определенной степени верно утверждение о плоской Земле. Более подробный разбор манипуляции фактами и фактологических ошибок, встречающихся в книге, был дан в обзоре исследования, сделанном нашими коллегами из журнала DOXA.
Надо отдать должное авторам: они вовсе не считают, что проблемы притеснения меньшинств в обществе надуманны. По мнению исследователей, обсуждение этих проблем в контексте «новой этики» и по лекалам «повесточки» не привносит в общественный диалог ничего конструктивного, не способствует реальному решению указанных проблем, дополнительно стигматизирует эти меньшинства, радикализует общественные настроения и создает нехватку доверия как по отношению к академическим институтам, так и к политической активности и борьбе за гражданские права. Мысль о кризисе этих институтов прямо в книге не артикулируется, но подразумевается как два ключевых фактора, обусловивших появление «повесточки». Не углубляясь в причины кризиса политического активизма (это отдельная, очень сложная проблема), о кризисе институтов производства знания следует рассказать более подробно.
Какие ещё проблемы поднимает книга?
Книга «Циничные теории» поднимает сложную тему существования Академии как института производства научного знания в современном мире. Если в идеале знание всегда политически нейтрально в силу своей объективности, то в условиях информационного общества и принципиальной значимости информации во всех процессах невероятно актуализируется положение субъекта, обладающего таким знанием.
Более того, обмен информацией с другими субъектами может существенно её политизировать. При этом знание не обязательно должно производиться в контексте общественных наук. Например, пандемия COVID-19 проблематизировала и политизировала темы возникновения вируса, возможных мер противодействия его распространению, последующего изучения вируса и разработки вакцины. Можно ли сказать, что все эти процессы были возможны без информации, которая появляется в результате научной деятельности? Что принимаемые по результатам анализа этой информации решения не имели политического характера?
В очередной раз показана важность не только существования социального института науки, но и протекающих в нем процессов, где не последнюю роль играют все те же вопросы распределения ресурсов, принятия решений, кооперации с другими акторами общественной деятельности, в общем, вопросы власти. Примером может служить рост доходов министра здравоохранения Татьяны Голиковой за последний год, директора НИИ им. Гамалеи, а также значительный рост капитализации компании Pfizer. В то же время, очевиден вред экономике, нанесенный вводимыми из-за пандемии ограничениями (мерами, которые позиционировались как научно обоснованные). Пандемия подтвердила справедливость двух свойств научного знания: профанируемость и его принципиальную эксплуатируемость.
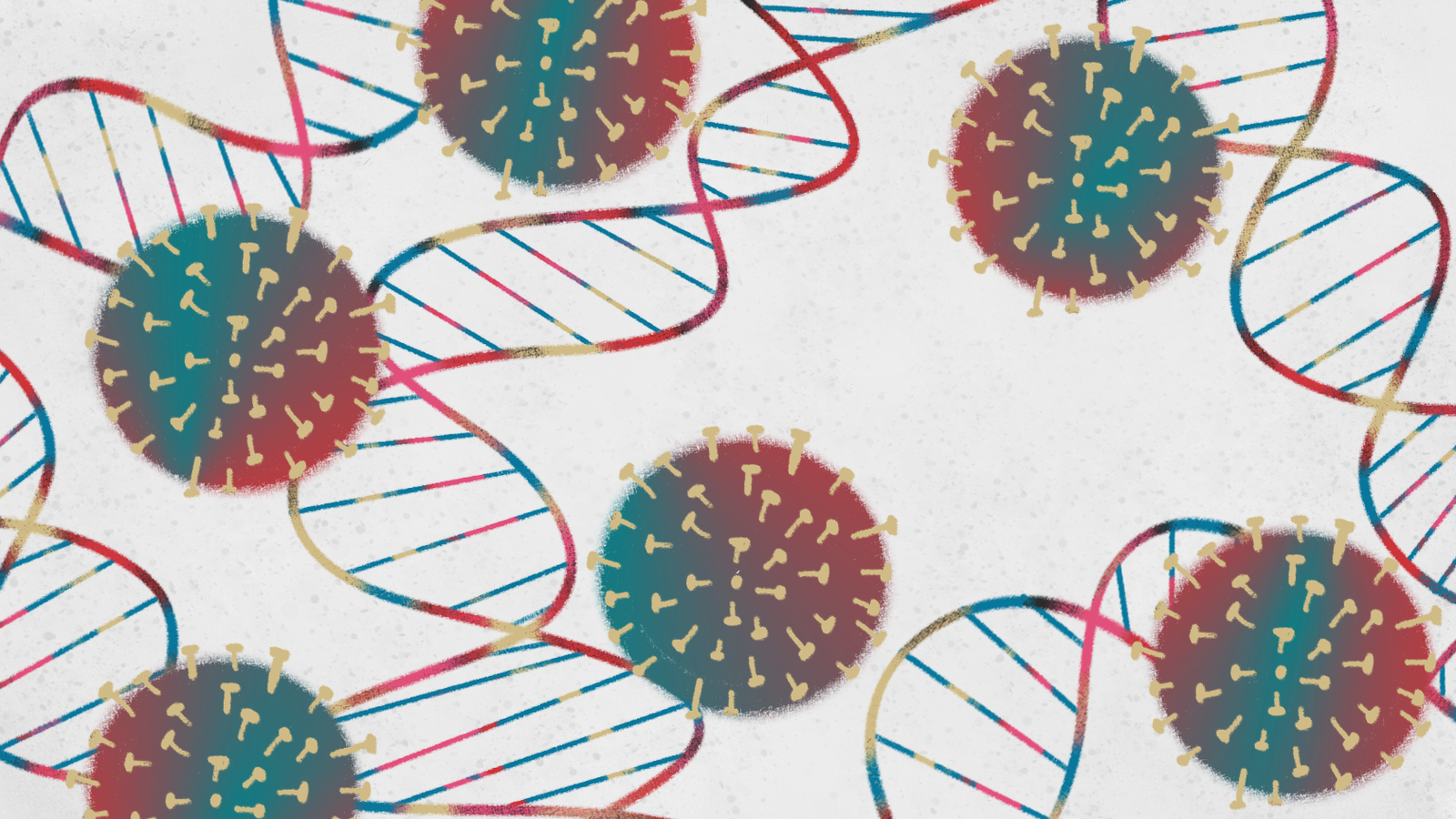
О профанации научного знания, её предпосылках и последствиях на Дискурсе уже было сказано. Повторимся, наука — это один из способов описания реальности, который, претендуя на объективность, все же существенно зависит от субъекта познания и в норме предполагает существование того, кому это знание будет адресовано. Вопрос о том, как этот субъект знанием будет распоряжаться, как его интерпретировать и применять, представляется не менее, а зачастую и более важным, нежели о том, насколько знание объективно. Это обстоятельство и проблематизирует постмодернизм: не то, что мы называем объективным знанием, а то, что следует из его статуса. Искаженное, профанированное научное знание, в случае его распространения, зачастую может иметь сравнимое влияние на общество. Яркий пример — доводы противников вакцинации, базирующиеся на результатах научных исследований, которые, однако, воспринимаются ими некритически.
Второй признак научного знания — это его эксплуатируемость, прежде всего, в целях установления и поддержания определенного общественного порядка и власти. Можно было бы сказать, что это развитие постмодернистского сюжета (или принципа) установления властного дискурса, однако эта идея высказывалась не только постмодернистами. Вряд ли можно отнести к постмодернистам ученого и публициста С. Г. Кара-Мурзу. Тем не менее, он объясняет роли науки через концепцию идеологии в постмодернистском ключе. Кара-Мурза прямо пишет, что наука стала инструментом господства, и объясняет это так:
Каким же способом власть использовала и использует науку в этих целях? Вместе с наукой, как ее «сестра» и как продукт буржуазного общества, возникла идеология. Она быстро стала паразитировать на науке. Основа, в которую надо закладывать свои идеи-вирусы, построена из знаний о мире (и самом человеке) и из обмена сообщениями (информацией). Любая идеология стремится объяснить и обосновать тот социальный и политический порядок, который она защищает, через апелляцию к естественным законам — такова природа человека.
Правда, сам учёный, симпатизируя Советскому Союзу, тактично умалчивает о советских практиках манипуляции сознанием и подчинения науки идеологии, хотя все основные положения вполне применимы к этому периоду истории страны.
Именно свойства эксплуатируемости и профанируемости научного знания отражены в фильме «Не смотрите вверх», который получил общественный резонанс и вызвал бурную дискуссию. По сюжету астрономы открывают новую комету, которая стремительно несётся к Земле, угрожая уничтожить человечество. Получив объективные доказательства её существования, учёные пытаются сообщить об этом правительству, людям и бизнесу. Но целевые аудитории факт приближения огромной кометы как будто не замечают, а концентрируются на том, что можно извлечь из сложившейся ситуации. Кинокритики часто сравнивают этот фильм с «Идиократией», где человечество также испытывает угрозу — глобальный голод, с которым оно не может бороться из-за массового снижения уровня интеллекта. Однако люди в мире «Идиократии» сохранили установку о том, что более умный человек может решать проблемы и для этого его нужно наделить формальной властью. Объективная демонстрация результатов деятельности этого человека убеждает остальных в его правоте и создаёт кредит доверия. В мире «Не смотрите вверх» люди не очень-то озабочены решением проблем и поиском тех, кто может его предложить. Однако возможно ли такое решение в принципе?
Содержание недавнего фильма МакКея изначально не предполагает позитивного исхода: до этого он уже обращался в своих работах к проблемам, которые представляются принципиально нерешаемыми. Например, цикличность функционирования капиталистической финансовой системы в фильме «Игра на понижение» или стремление к усилению исполнительной власти американской политической системы в фильме «Власть». Пессимизм режиссера прослеживается и в его новой картине уже в масштабах целой планеты. Проблема заключается не столько в том, что человечество не способно дать ответ на глобальную угрозу и работать сообща, сколько в том, что сами ученые не могут принять неизбежного, а значит — наука не может дать людям успокоение.
Однако наука вполне может дать человеку все средства, чтобы он если и не успокоился сам, то хотя бы отвлекся и занял некую сторону. Но здесь возникает проблема более тонкого плана — вопрос человеческой идентичности.
Насколько реально отнесение себя к сторонникам одной из теорий?
Следующее важное измерение проблемы — это вопрос искренности в отнесении себя к сторонникам какой-либо теории, в частности, к условному постмодернизму. Почему мне следует считать, что человек действительно разделяет эти убеждения? Не является ли это такой же игрой? Хорошим критерием здесь был бы ответ на вопрос: готовы ли нынешние постмодернисты, либералы умереть за свои идеалы? Однако в современном мире осознанное принятие смерти за собственные убеждения становится не таким уж пригодным «пробирным камнем» для определения искренности разделения идеалов.
С позиции либерализма человеческая жизнь становится абсолютной ценностью по сравнению с какими бы то ни было идеями. С точки зрения постмодернизма смерть за идею открывает возможность интерпретации её как неоригинального перформанса, одного из многих, и мало что способного изменить. В настоящее время физическая смерть заменяется своеобразной смертью информационного тела, исключением, «отменой», которую можно назвать современным актом остракизма или, если подниматься до высот пафоса красноречия, «общественной смертной казнью». Определяя токсичность того или иного высказывания конкретной персоналии, её затем отчаянно «деплатформят», лишая права голоса и возможности каким-то образом заявлять о себе, даже если её высказывания будут касаться совершенно нейтральных тем.
Современный мир прочно завязан на создание информации, генерацию потока искусственных знаков. Впервые обычный человек может производить информации больше, чем воспринимать и анализировать.
Дело здесь в новых технологиях, и не только в пресловутых социальных сетях. Мы продуцируем большие объёмы информации даже тогда, когда сами этого не хотим: перемещения по городу учитывает смартфон, сердечный ритм и фазы сна считывает фитнес-браслет, а вездесущие камеры видеонаблюдения распознают скрытые намерения по позе, походке и выражению лица. Чтобы создавать контент, необязательно делать это целенаправленно, потому что вся наша жизнь стремительно оцифровывается: в широкий обиход входят понятия «цифровой след» и «цифровой двойник», Марк Цукерберг заявляет о создании метавселенной (в которой тут же начинают распространяться хулиганские практики, как правило, ограничиваемые в несовершенном физическом мире).
Неудивительно обращение исследователей к постмодернистским теориям, которые фокусируются на статусе физического тела в социальных взаимодействиях и соотносимости человеческой идентичности с его параметрами и режимами существования. Примером может служить недавно изданная работа австралийского философа Дэвида Чалмерса, где он рассуждает о соотношении телесного и виртуального миров и приходит к выводу, что различать идеальную компьютерную симуляцию и наш мир не так важно, потому что принципы объективной реальности моделируются, а взаимодействия в виртуальной вселенной влияют на опыт не меньше реальных.
Когда идентичность может быть текучей, а условия взаимодействия между людьми относительно произвольно меняются, особую остроту принимает вечный философский вопрос «Кто я?». В цифровом мире телесность отходит на второй план, и привязка к биологически обусловленным параметрам идентификации снижает собственную актуальность. Наиболее ярко проявляется сущность человека как совокупности культурно определенных паттернов поведения. Можно ли сломать эти паттерны и сформулировать на их основе нечто новое? Да, причем как либеральная идеология, так и постмодернизм признают эту возможность: постмодернизм предлагает метод деконструкции, а либерализм исходит из возможности человека влиять на ход социальных процессов, в том числе на себя самого.
Нельзя сказать, что либерализм не даёт ответов на цифровые вызовы современности в том, что касается коллективного действия и принятия политических решений. В технологиях блокчейна исследователи видят выражение политических идей автономности и способности принимать решения, при этом исключая возможный волюнтаризм и иррациональность поведения людей за счет участия компьютеров. Это открывает возможность для реализации политической теории блокчейна. В цифровом обществе само существование человека становится информационно обусловленным и информационно насыщенным. Радикальные действия активистов социальной справедливости могут быть проявлением агрессивной реакции на такие изменения, страхом утраты самости, субъектности, контроля над производимым контентом. По всей видимости, именно от этого страха возникают попытки ограничить других, создать «сэйф спэйсы», иными словами, найти место, где будет безопасно и где тебя примут всяким (не «таким, какой ты есть», а именно «всяким, каким я захочу себя обозначить»). Поэтому авторы книги «Циничные теории», описывая постмодернистов, употребляют метафору: «Люди таких взглядов могут физически находиться рядом с нами, а интеллектуально — в какой-то другой вселенной». Вероятно, они все находятся в метавселенной? Вполне может быть, что ими движет желание построить в ней принципиально новый мир, в котором не будет места расизму, сексизму и прочим «-измам».
***
Книга Хелен Плакроуз и Джеймса Линдси может быть хороша для базовых дискуссий на тему толерантности, свободы слова и возможной организации общества, однако участие в таких дискуссиях в последнее время становится всё более и более бесплодным — оно превращается в соревнование нарративов и перформанс-манифестаций, где роли людей заранее известны. Возможно, это симптом осознания невозможности воздействовать в полной мере на окружающий нас мир или того, что люди уже не ищут объективности. Вместо этого им как никогда нужно успокоение. Способом этого успокоения становятся попытки создать мир, где нет смерти, которой боятся больше всего, даже больше угнетений всех возможных видов.
Примером такой попытки может стать один из случаев моделирования поведения уже умершего человека на основе записей текста его голоса. Метавселенная как возможность сохранить свой образ наряду с постмодернистской концепцией понимания мира как текста представляется заманчивым способом преодоления страха смерти. Ведь если считать, что человек — не более, чем набор нарративов, а цифровые алгоритмы анализируют наше поведение и ведут записи, то почему бы не сделать собственного цифрового двойника в определенном возрасте?
Если представить, что такой двойник сможет «взаимодействовать» с другими двойниками, обучаться на том материале, который они предоставляют — то чем это будет не жизнь после смерти? Всё дело в том, что в этих условиях «новая этика» обретает второе дыхание, ведь телесность как одна из основ угнетения теряет значение. Однако вопрос свободы слова и языка как ещё одного инструмента угнетения обостряется донельзя, чего не могут не понимать администраторы и владельцы метавселенных. Возможность регулировать язык и контент открывает для них все те же вопросы баланса публичных и частных интересов, а также наделяет невиданной властью. Действительный деплатформинг в этих условиях будет больше похож на смерть, чем те действия в рамках «культуры отмены», которые практикуются сейчас и выглядят лишь метафорой казни.
За иллюстрации к материалу огромное спасибо Саше Роговой






