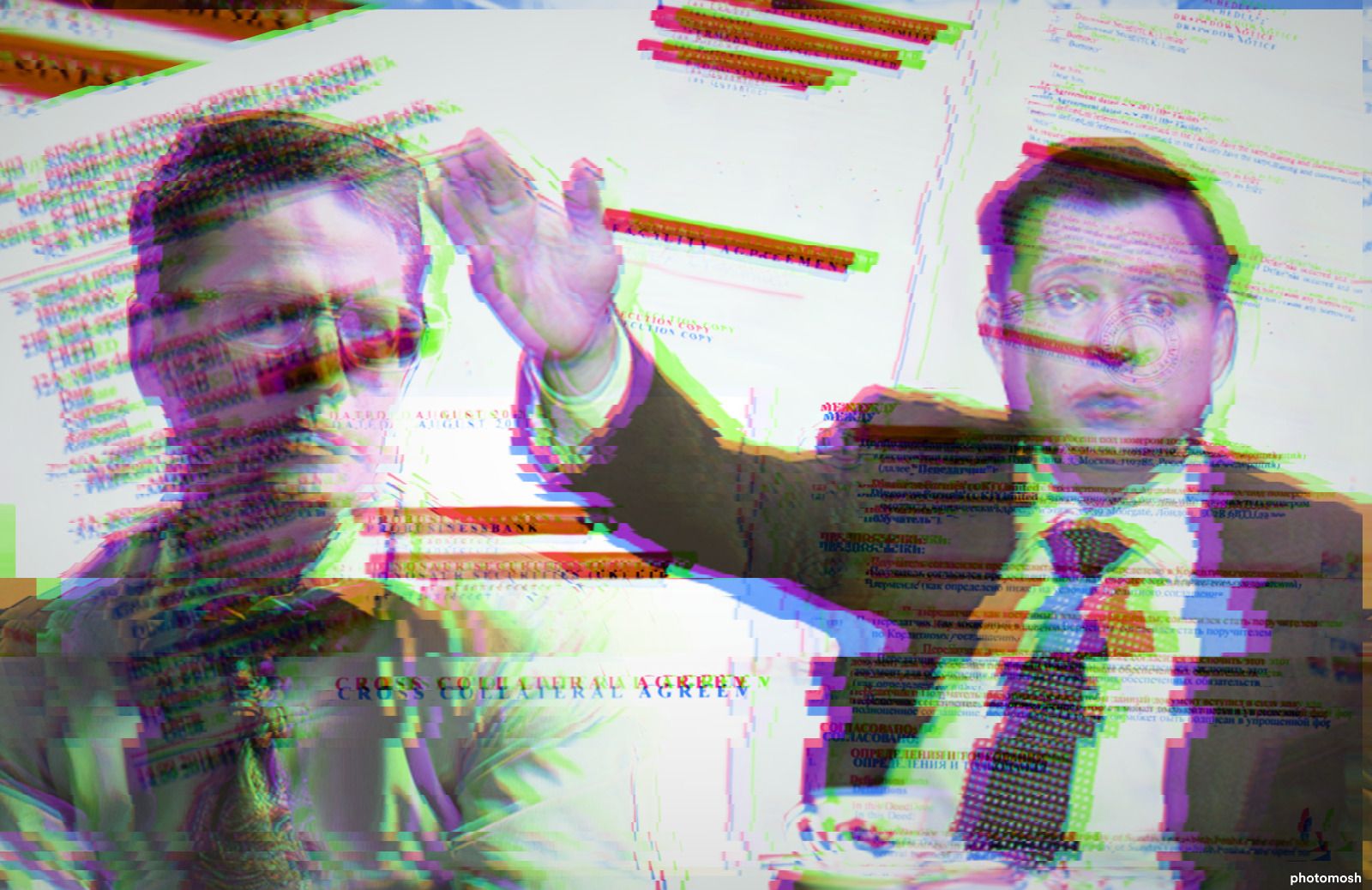В российской оппозиции опять волнения, и опять из-за сомнительных связей Фонда по борьбе с коррупцией. Обвинения на этот раз более серьёзные, чем помощь продолжающим сотрудничать с российской властью олигархам избавиться от евроатлантических санкций. Теперь ФБК уличили в содействии буквально жуликам и ворам. Так по крайней мере утверждает Максим Кац в своём расследовании о том, как владельцы Пробизнесбанка сначала обворовали вкладчиков, а затем использовали ФБК для отбеливания своей репутации на Западе.
Об уровне причастности ФБК к этому делу говорить пока рано — стоит дождаться обещанного официального ответа Фонда. Но скептически относиться к расследованию о самом Пробизнесбанке нет никаких причин, считает юрист Владислав Крамер. В своей колонке он помогает разобраться с этим расследованием и вычленить из него самое важное — то, что делает его полезным не только как элемент одного спора оппозиционеров, но и помогает понять, как банковская коррупция работает в России в целом. А именно: кто такие банкстеры, как их распознать, как работают их воровские схемы, как устроен банковский контроль, почему банкстеры стали изображать из себя жертв российского режима и как они это делают.
Содержание
❷ Как убедиться, что расследование Каца достоверно
❸ Что за документы использованы в расследовании
❹ Как такие документы попадают в публичный доступ и как их верифицировать
❻ Как Центральный Банк (не)противодействует банкстерам
❼ Почему банкстеры изображают из себя жертв режима
❽ Почему такая тактика отбеливания репутации пока ещё работает
Главная проблема в расследовании Каца в том, что оно предельно убедительно, но требует специальных знаний, чтобы понять, почему оно так убедительно. Все выводы Каца о хищениях в Пробизнесбанке основаны на железных доказательствах, но само расследование связано с банковской системой, а она сложная и непонятная. То есть причина, по которой расследование имеет железную доказательную базу, — это также и причина, по которой оно сложно для понимания.
При этом схема, раскрытая в расследовании уже давно не нова и довольно примитивна. Пробизнесбанк — далеко не единственный пример в этом наборе кейсов о современных российских банкстерах. Пользуясь отсутствием у широкой публики специальных знаний, банкстеры (до поры до времени в связке с российскими коррупционерами) проворачивают незаконные сделки, которые просты по сути, но сложны в доказывании. Даже несмотря на то, что банковская сфера крайне зарегулирована и следы незаконных операций банкстеров остаются повсюду и могут быть полностью сокрыты.
А когда банк рушится, та же сложность позволяет банкстерам манипулировать общественным мнением. Они рассказывают о больших проектах банка, угробленных ЦБ. Но вместо первичных учётных документов демонстрируют публике цветные буклетики и журналистские статьи самого общего характера. Вместо норм права, запрещающих определенные банковские операции, ссылаются на благую цель этих операций. Минимум фактов, максимум риторики.
Как убедиться, что расследование достоверно?
Самый простой путь верификации расследования — стороннее мнение публичного эксперта, которому вы доверяете. И хотя это апелляция к авторитету некорректна с точки зрения формальной логики, мы часто прибегаем к мнению публичных экспертов с репутацией, потому что не можем быть специалистами во всём. В данном случае таким экспертом может быть Сергей Алексашенко, бывший замминистра финансов и бывший зампред ЦБ, который подтвердил, что расследование Каца имеет весомую доказательную базу.
Но если мы не доверяем мнению эксперта, то можем и прибегнуть к перекрестному сопоставлению фактов. Например, если банкстеры из Пробизнесбанка считают, что материалы расследования фальшивы или истолкованы неверно, то зачем им в 2017 году нужен был аффидевит от (на тот момент) исполнительного директора ФБК Ашуркова о том, что банкиров преследуют по политическим причинам? Они использовали это письмо, чтобы застопорить рассмотрение иска АСВ в Лихтенштейне, хотя могли просто прийти в суд, представить свои доказательства, заявить ходатайства о проведении экспертиз по спорным вопросам и получить решение в свою пользу, став честными людьми со справкой без всякого политического беженства.
Есть и более сложный путь верификации расследования: углубиться в в документы и алгоритмы работы ЦБ и АСВ.
Для начала разберемся, как именно формируются и утекают в паблик документы, на основании которых ЦБ и АСВ ведут работу по рухнувшему банку.
Как же они формируются?
Пока банк ещё жив, все операции, которые он проводит, заносятся в АБС. Именно через АБС вам проводят платежи, когда вы перечисляете деньги через приложение банка. Именно в ней ведутся ваши счета по вкладам, которые вы принесли в кассу в виде кровных наличных. Именно в ней фиксируются ваши паспортные данные, когда вы меняете валюту в кассе. Это электронное сердце банка.
Каждая операция, которая проводится в АБС, сопровождается бумажкой. Если это внесение денег в кассу при обмене валюты, то вам выписывают кассовый ордер. Если вы предприниматель, которому надо перевести деньги поставщику, то вы выписываете банку платежное поручение на перевод. Сегодня многие из этих бумажек имеют вид электронного документа с цифровой подписью, но это суть та же бумажка.
Когда у банка отзывают лицензию, ЦБ назначает временную администрацию из числа своих сотрудников или возлагает это на АСВ. В этот момент банк передаёт администрации копию АБС и все документы, сформированные в период своей деятельности. Это бесконечные коробки с миллионами бумаг.
Конечно, банкстеры, пытаясь скрыть нелицеприятные операции, иногда искажают данные АБС или скрывают документы. Но смысла в этом мало, ведь АБС банка в режиме реального времени передаёт данные на сервера ЦБ. Также доступ к движениям по счетам имеет налоговая служба. Отдельные сведения могли выдаваться банком специальным субъектам: прокурорам, судам, следствию, арбитражным управляющим. Сведения об операциях через онлайн-банкинг находятся в в клиентской части программы у клиентов банка. То есть следы остаются повсюду далеко за пределами самого банка.
Например, Железняк и Леонтьев перечислили $195 млн. из Пробизнесбанка во вполне реальную зарубежную брокерскую фирму DMBL, которая по их просьбе далее перечислила деньги компании-пустышке VERMENDA, принадлежавшей банкстерам. А чтобы DMBL не задавала лишних вопросов, банк дал своё поручительство за VERMENDA, но не показал это поручительство ЦБ. Далее VERMENDA переводила деньги на счета сети оффшорных пустышек, которые гоняли их между собой, чтобы запутать следы. А в итоге все выведенные из банка суммы уходили на счета банкстеров в Лихтенштейне.
Естественно, уважаемая брокерская фирма и её банк не согласятся фальсифицировать свои документы ради российского банкстера, использовавшего их для хищения. Поэтому платёж остался в АБС, договор о поручительстве остался в DMBL, факт получения DMBL денег от банка отражён в отчётности компании, а платежи в адрес компании VERMENDA отражены по счету DMBL в своём банке. Подтверждающие всё это документы можно увидеть в расследовании Каца: трёхсторонний договор между DMBL, VERMENDA и Пробизнесбанком; одну из платёжек на внесение Пробизнесбанком $20 миллионов На счёт в DMBL; и поручительство Пробизнесбанка за VERMENDA перед DMBL.
Могли ли банкстеры удалить платёж банка в адрес DMBL из копии АБС, которую передали временной администрации? Могли. И тогда данные в АБС не сходились бы с данными ЦБ. Ведь все операции, которые осуществляет банк в течение дня, в конце дня обобщаются в общие показатели отчётности, уходящие в ЦБ. Было бы полным безумием удалять операции на $195 млн., потому что фальсификация АБС автоматически означает субсидиарную ответственность по долгам банка и много вопросов от следствия (ведь АБС любого банка сертифицируется ФСБ).
Таким образом, когда вы имеете систему, где каждый объект определяет и определяется состоянием других объектов на момент времени, вы не можете бесследно изъять объект из системы. И ключевые слова здесь — «не сходится».
Как все эти документы оказываются в публичном доступе и как их верифицировать?
Когда банкротится банк, вокруг него формируются разные заинтересованные группы: обманутые вкладчики, должники, сотрудники органов, судьи и сотрудники судов, рассматривающих дело о банкротстве банка, юристы как банкстеров, так и вкладчиков и должников банка, журналисты и многие другие.
Все они имеют те или иные связи друг с другом. И все имеют процессуальный статус, позволяющий получить те или иные материалы. Между ними всегда циркулируют документы, которые сливает та или иная группа. Это настолько неконтролируемая среда, что назвать документы банкротного банка материалами ограниченного доступа можно с большой натяжкой.
Рассмотрим самый простой механизм слива самой существенной информации на самом раннем этапе банкротства банка.
Сначала приходит временная администрация, назначенная ЦБ после отзыва лицензии, и работает примерно год. По итогам её работы формируется заключение, которое содержит в себе финансовый анализ всей деятельности банка и описание того, как банкстеры выводили из него деньги.
Далее временная администрация просит арбитражный суд признать банк банкротом и сдаёт это заключение в материалы дела. Вкладчики знакомятся с материалами дела, получают заключение, узнают схемы вывода активов банка и сливают в паблик.
Начав погружаться в историю банкротных банков, вы обнаружите, что Железняк и Леонтьев — это не пионеры в деле обворовывания вкладчиков. Такие персоны обнаруживаются, пожалуй, в деле каждого банка, потерявшего лицензию. А скандал с Пробизнесбанком бомбанул только потому, что это канал Максима Каца и это проблемы ФБК.
Если сейчас кейс ФБК научит журналистов разбираться в том, как работает банковский контроль и как выводятся деньги вкладчиков, нас ждёт большая череда расследований в отношении и других банкстеров, внезапно ставших «жертвами режима» (например, Пугачёва, Юрова, Бажанова).
Но у всех этих банкстеров плюс-минус общая история воровства.
Как выглядит эта общая история воровства?
Банк — это хаб, через который проходят огромные потоки денег вкладчиков, которые преобразуются в огромные потоки выдаваемых кредитов. Потом возвращенные кредиты снова преобразуются в возвращённые вклады. То есть существенная часть поступающих в банк денег ему не принадлежит. В этой цепочке банк зарабатывает деньги на разнице между процентом по вкладу и процентом по кредиту, который был выдан за счёт этого вклада. Ещё банк зарабатывает на комиссиях, когда проводит платежи клиентов, открывших счёт в банке. А ещё на всяких специфических услугах вроде аренды банковских ячеек, выдачи банковских гарантий, открытия аккредитивов и так далее.
Часть этих процентных и комиссионных заработков банка идёт на налоги, зарплаты сотрудников банка, аренду и содержание помещений банка, а также прочие операционные расходы. Что-то из этих денег покрывает невозвращенные кредиты. Это к вопросу о том, почему такие высокие ставки по кредитам.
Всё, что остаётся после расходов, может быть получено банкиром в виде зарплаты председателя правления или совета директоров либо через распределение дивидендов, если он просто акционер.
Но когда банкир видит, какие крупицы он получает, сидя на гигантском потоке бабла, он начинает задумываться о высоком. О своём месте в экономике. О смысле жизни своего банка. Короче, о выводе активов через технические кредиты на подставные компании.
Центральные банки всех стран знают о такой слабости большинства банкиров. Поэтому кредиты, выдаваемые заёмщикам, связанным с банкиром, понижаются в категории качества ссуды.
Категория качества ссуды определяет, какую сумму собственных средств банк должен заморозить. Собственные средства или собственный капитал — это буквально собственные средства банка, которые получены не от вкладчиков или клиентов и на которые никто не претендует. Банк держит их на своих счетах в ЦБ или других банках. Часто это бывают не деньги, а векселя, облигации, металлы и тому подобное.
В зависимости от качества выданного кредита именно эти средства банк замораживает, как бы гарантируя вкладчику своими деньгами, что сотрудники банка не выдадут его вклад в виде кредита жулику, который не вернёт этот кредит.
Эти замороженные собственные средства банка называются резервом на ссудные риски. Если кредит становится невозвратным, банк использует резерв для исполнения своих обязательств перед вкладчиками. Чем менее качественные кредиты выдаёт банк, тем больше резерв и тем меньше у банка свободных денег для развития своей деятельности.
Допустим, банк выдает кредит рисковому заёмщику (а аффилированный с банкиром заёмщик считается таким). Значит, банк должен показать ЦБ, что у него лежат нетронутыми деньги или активы на какую-то часть этого кредита — в зависимости от качества ссуды.
Если есть залог по кредиту, то эта сумма ниже, а ссуда считается более качественной. Если поручительство — тоже. Поэтому банкстеры, выдавая кредиты подставным заёмщикам, рисуют договоры залога, по которым передаётся всякий переоценённый хлам, и договоры поручительства, в которых поручитель — это водитель банкстера Жора, через счёт которого прогнали деньги банкстера, чтобы изобразить какой это богатый поручитель.
У вас, смертных, будьте уверены, банк попросит реальный дорогостоящий залог и реальных платежеспособных поручителей.
И, естественно, банкстер прячет свою связь с подставным заёмщиком, чтобы ЦБ не обязал его заморозить ещё больше резерва на ссудные риски.
Железняк и Леонтьев, например, выводя деньги из Пробизнесбанка, пытались изобразить обычную рыночную сделку (см. скриншоты выше). Они не перечислили деньги банка в качестве кредита в зарубежную компанию с директором Железняком А.Д. на жутко инновационный суперприбыльный бизнес в Лихтенштейне. Они почему-то использовали DMBL, VERMENDA и сложную сеть последующих оффшорных компаний (для запутывания схему путём перемешивания денег) как прокладки, чтобы скрыть конечного получателя денег — Леонтьева со счётом в Лихтенштейне.
Что делает Центральный Банк, когда видит вывод денег из банка?
ЦБ регулирует банки с помощью так называемых нормативов. Достаточность собственного капитала — это норматив, обозначаемый «Н1».
ЦБ отзывает лицензию у банка, если видит, что банк грубо нарушает эти нормативы. Например, если кто-то настучал в ЦБ, что банкстер выдал кредит подконтрольной фирме, формально не связанной с ним, то ЦБ может потребовать пересмотреть категорию качества кредита и доначислить резерв на ссудные риски. А если собственных средств на это доначисление нет, ЦБ может и лицензию отозвать.
Сведения о движении денег поступают из АБС в виде электронных данных в режиме реального времени. Анализ сведений из банка производит не человек, а программный алгоритм. Он основан сугубо на цифрах. Цифры формируются на основании большого массива документов. Поэтому если вам говорят, что лицензию банка отозвали по беспределу, скорее всего, вам врут. Это подтвердят цифры, а в дальнейшем — пакеты документов в судах и следствии. Как те, что использовал Кац в своём расследовании.
Беспредел начинается не в момент отзыва лицензии, а в момент, когда жулику, встроенному в коррупционную систему, выдают лицензию, потому что он чей-то родственник, кум, партнёр и просто хороший человек.
Потом ЦБ видит состояние банка в режиме онлайн и видит несоответствие финотчетности банка нормативам, и к банкстеру приходит условный полковник Черкалин, у которого потом находят квартиру, забитую баблом. Он предлагает за откат закрыть глаза на раздербан банка на какой-то период времени. И беспредел продолжается.
Когда же происходит отзыв лицензии, банкстер уже находится за рубежом с выведенными деньгами и начинает легендирование своей истории.
Как банкстер легендирует свою историю?
Стал ли беглый банкир гонимым оппозиционером или нет, легенда всегда строится по принципу «золотой середины»: сохраняй баланс между стройной общей концепцией твоего преследования государством и минимумом фактов и документов, кроме тех, что подтверждают твою концепцию.
Именно поэтому они оказываются политическими диссидентами. В политике документы никто не читает, и всё неудобное можно заглушить ором.
Так получилось, что по негласному соглашению российские беглые банкстеры эпохи «мадам банковской гильотины» (Набиуллиной) сформировали большую историю о том, как государство в лице лично Набиуллиной стало по беспределу зачищать банки.
Естественно, наш банкстер *вписать нужное имя* попал под «банковскую гильотину», а банк обанкротился именно в тот момент, когда ЦБ отозвал лицензию и ввёл временную администрацию. Она-то всё и испоганила, хотя банк вот-вот должен был вернуться к тем показателям нормативов, на которые указывал ЦБ. За счёт чего? Естественно, за счёт супер-прибыльного бизнеса подставных заёмщиков, который перестал работать из-за отзыва лицензии и прекращения кредитования.
Например, в 2017 году представитель фактического владельца банка «Югра» Алексея Хотина рассказывал, что ЦБ по беспределу обязал банк доначислить резерв на ссудные риски, отчего банк и обанкротился. При этом ЦБ не согласовал Хотина план погашения долгов перед вкладчиками за счёт собственных средств. Это сейчас, когда Хотин получил-таки 9 лет колонии, мы знаем, что банкстер ровно так же выводил деньги в виде кредитов подконтрольным компаниям, через которые он занимался нефтяным и недвижимым бизнесом. Этот бизнес и должен был стать источником погашения долгов перед вкладчиками. Хотин не успел сбежать и даже погасил часть требований вкладчиков. И получил срок. Впрочем, это нетипичная история. Обычно разумный банкстер покидает территорию РФ, когда условный Черкалин посылает тайный сигнал о предстоящем отзыве лицензии.
В какой-то момент ЦБ и АСВ обнаружили, что банкстеры безнаказанно скрываются за рубежом с наворованными деньгами, а у АСВ не отработан механизм поиска заграничных активов беглецов. И, естественно, начали формироваться инструменты выкуривания их из зарубежных юрисдикций.
Примерно, в 2019–2020 годах охоту на беглых банкиров за пределами РФ постарались поставить на поток. АСВ привлекло компанию «А1», которая специализируется в том числе на поиске и отсуживанию зарубежных активов. «А1» принадлежит Михаилу Фридману, — тому самому, который тоже пытался окуклиться в российского оппозиционера, чтобы избежать санкций, но вернулся в Россию.
Вскоре банкстерское сообщество почувствовало, что АСВ таки научилось судиться в иностранных юрисдикциях. Например, у банкстера Пугачёва отобрали и продали с торгов лондонский дом Old Battersea House, который раньше принадлежал Форбсу, создателю одноименного журнала.
И тогда банкстеры решили сыграть на конфликте демократий и авторитарных режимов. Пошла мода на политический протест и политическое беженство. Пугачёв ограничился байками о Путине на канале Дмитрия Гордона, и этого оказалось недостаточно. Суды продолжаются даже сейчас, в момент войны, а активы банкстера продолжают отжиматься.
А вот Железняк и Леонтьев пошли дальше. Они получили официальный аффидевит от одного из первых лиц ФБК Владимира Ашуркова, что косвенно означает и нагрузку безграничным авторитетом Навального. Эта железная бумажка, она же броня, позволила застопорить судебные процессы в Польше (по экстрадиции вице-президента банка Алексеева) и Лихтенштейне, где АСВ отказали в рассмотрении иска к банкстерам по существу, ссылаясь на политическое преследование со стороны РФ.
Неужели это работает?
Пока что, как мы видим, да — в первую очередь за счёт того, что большинство не понимает, с чем имеют дело и куда смотреть. А банкстеры прилагают все усилия, чтобы сохранить такое положение дел. Чтобы сохранить своё право на использование такого политического инструмента в чисто экономических и уголовных процессах, им важно держать под контролем общественное мнение. Поэтому факты, касающиеся деятельности банка до банкротства, подаются в минимальном объёме.
Обычно банкстер рассказывает о том, как самоотверженно работал ради «больших проектов будущего», «современного банкинга», «финансирования инноваций» и тому подобное. А документы по конкретным кредитам и данные финансового анализа не раскрываются, чтобы не обрушить легенду.
Когда документы всё-таки попадают в открытый доступ или в суды (в том числе зарубежные), банкстер формирует альтернативную реальность, в которой этих фактов либо не существует, либо они поддельные, либо «это же российские суды», либо мы все слишком тупые, чтобы понять смысл операций.
Как сожалению, последнее не далеко от правды, потому что система банковского регулирования сложна для неспециалиста, а Центральный Банк не выпускает брошюру «Нормативы ЦБ для дошкольников».
Ярким примером манипуляции сознанием неспециалистов является «ответ Кацу» бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова на канале Плющева (Юров также был упомянут в расследовании Каца и тоже изображает из себя «жертву режима»).
Этот ответ выдержан в чётком соответствии с описанной выше схемой легендирования: дескать, Набиуллина зачищает поляну, банкир не может грабить свой банк 20 лет, суд не доказал факт хищения (Юров забавно отрицает присвоение денег, потому что «декларировал свои доходы» — как любой российский чиновник). Да и вообще его с 2007 года преследуют вместе с Ходорковским.
Но сам же Юров говорит, что его дело было рассмотрено по существу Высоким судом Лондона, который, видите ли, не установио, что Юров присвоил себе $900 млн., а всего лишь растратил. Если что, и присвоение, и растрата — это преступления. Поэтому теперь Юров в любом случае сертифицированный вор, который растратил деньги вкладчиков.
Окей, про банкстеров понятно. А что с ФБК?
Кац вывел в публичную плоскость доказательную базу, которую должны были рассмотреть, но не рассмотрели по существу западные суды. И теперь под ударом не только финансы Железняка и Леонтьева, но и политический вес ФБК, в наблюдательном совете которого состоят Юлия Навальная, бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт, писательница Энн Эпплбаум и философ Френсис Фукуяма. Потому что аффидевит от Ашуркова стал ключом к схеме банкстеров.
ФБК теперь могут заявить, что не знали о реальном положении дел, но факт остаётся фактом: Железняк и Леонтьев использовали политический вес ФБК и Навального, чтобы застопорить судебные процессы.
Кац поставил перед ФБК вопрос о мерах по отношению к банкстерам, а перед Ашурковым — об отзыве аффидевита, что позволит рассмотреть по существу следующий иск, предъявленный уже не АСВ, а лично вкладчиками.
Из-за полного игнорирования сигналов о наличии вора в органах управления фондом, у ФБК теперь не осталось хороших путей отхода. Либо лишиться крупного донатора и признать позорную ошибку, либо попытаться оправдаться.
Какие-то выводы о ФБК можно будет сделать только после публикации обещанного официального ответа Фонда (которого мы ждём уже третью неделю), а пока остаётся только надеяться, что ФБК не станет пользоваться риторикой самих банкстеров и пытаться перекричать факты ором фабрики эльфов.