Почему одни авторитарные режимы держатся считаные месяцы, а другие выживают десятилетиями? Зачем тираны проводят выборы, создают парламенты и партии? Как деспотии используют интернет в своих целях? В симуляторе диктатуры политолог Илья Надпорожский увлекательно рассказывает о стратегиях удержания власти и предлагает каждому поставить себя на место тирана. Подробный гид объясняет, за счет чего сегодня сохраняются автократии, что входит в меню манипуляций и «пакет бонусов» для авторитарных правителей, из-за чего элитам выгодно давать населению социальные гарантии вроде бесплатной медицины, бензина, электричества, откуда исходят наибольшие угрозы тиранам и как эффективнее всего справляться с оппозицией и недовольными гражданами.
Услышав словосочетание «авторитарный режим», многие до сих пор представляют себе деспотичного адмирал-генерала Аладина в исполнении Саши Барона Коэна. Шестисерийный фильм от Netflix «How to become a tyrant», почему-то названный документальным, советует вожделеющим тиранического правления сокрушить противников, править с помощью террора, манипулировать информацией и создать новую структуру общества. Возможно, такие советы действительно помогли достигнуть власти Адольфу Гитлеру или Саддаму Хусейну, но современным автократам они могут разве что навредить. На самом деле порой гораздо более выгодным оказывается не подавление потенциальных оппонентов, а их включение в органы власти; не опора на репрессивный аппарат, а удовлетворение базовых потребностей населения. Автократии XXI века сложнее, интереснее и утонченнее.
Нельзя сказать, что современная политическая наука игнорирует репрессивные аппараты авторитарных режимов или работу пропагандистских машин. Это все еще крайне важные для анализа темы. Но сам исследовательский фокус сместился на исследование более сложных «правил игры» в несвободных странах. Еще социолог и политолог Самуэль Хантингтон в своей работе «Политический порядок в меняющихся сообществах», впервые изданной в конце 60-х годов, отмечал, что особенности и потенциал развития страны зависит не от того, является ли она формально демократической или авторитарной, а от того, каким именно образом власть управляет обществом. И хотя Хантингтона интересовало преимущественно влияние функционирования институтов (например, партий и политических лидеров) на модернизацию, он внес важнейший вклад в переход от огульного рассмотрения автократий по методу «одной гребенки» к более подробному анализу организации политической сферы в несвободных сообществах. И действительно, со временем исследователи выяснили, что если поместить авторитарные режимы под микроскоп, там можно обнаружить не только полицейскую дубинку и газету «Правда», но также сложные системы патрон-клиентских отношений, институты представительства и участия. Изучение устоявшихся «правил игры», которые позволяют отдельным автократиями сохранять устойчивость на протяжении десятилетий, — одна из важнейших задач современной политологии.
Макиавелли писал «Государь» как наглядное пособие по захвату и удержанию власти даже вопреки нормам классической морали. К счастью, современная академическая политология далека от таких задач, однако, разбирая стратегии поведения автократов, политолог неминуемо задается вопросом о том, какие из них наиболее эффективны для выживаемости режима. Этот текст — попытка кратко изложить хотя бы малую часть того, что политическая наука знает о способах достижения автократиями устойчивости. Мы поговорим о том, зачем современные диктаторы проводят выборы, почему созывают парламенты; какую роль в их судьбе играет международное окружение, экономическая конъюнктура и многие другие факторы. При этом, в отличие от Netflix, мы будем опираться не на сомнительные факты из биографии Ким Ир Сена, а самые цитируемые исследования современных политологов.
Давайте представим, что завтра утром вы просыпаетесь не в своей квартире, а в роскошной (и наверняка безвкусно обставленной) спальне авторитарного лидера страны N. На завтрак уже съедено несколько младенцев, теперь пора задуматься и о делах державных. С чего надо начать?
Погоны, партийные билеты или персоналистская власть?
В первую очередь советую вам осмотреться по сторонам. Если на вешалке возле постели висит мундир со звездами на погонах, то у меня для вас плохие новости. Военные режимы, то есть те, в которых группа офицеров определяет, кто будет руководить страной, — одна из наименее надежных форм автократий. С точки зрения политолога Барбары Геддес, профессиональные офицеры придают самое большое значение выживанию и эффективности самих вооруженных сил. Это может быть обусловлено как представлением о том, что миссия по защите нации осуществима только при условии существования хорошо оснащенной и независимой армии, так и тем, что сильный институт вооруженных сил может стать хорошей основой для личного обогащения. Так вышло, что политики любят власть и стремятся ее максимизировать, поэтому в любом режиме рано или поздно возникает внутриэлитный раскол.
Военные режимы — не исключение. Отличие от других типов автократий заключается в том, что офицеры не готовы допускать ситуацию, при которой одна армейская группировка будет открыто противостоять другой. Барбара Геддес утверждает, что, если обстановка становится критичной, военные предпочитают не вступать в политическую борьбу, а вернуться в казармы и отказаться от публичной власти. Более того, как правило, все, кроме высших должностных лиц режима, могут вернуться к обычной воинской службе без ущерба для карьеры, а новое правительство еще и наверняка увеличит финансирование армии, опасаясь новых политических интервенций. Впрочем, будем честны, у вас совсем немного шансов оказаться в военной автократии. Они были достаточно распространены во второй половине XX века, особенно в Латинской Америке, однако теперь практически исчезли с политической карты. Самое яркое исключение — режим в Мьянме, где генералы отстранили от власти нобелевскую лауреатку Аун Сан Су Чжи в 2021 году.
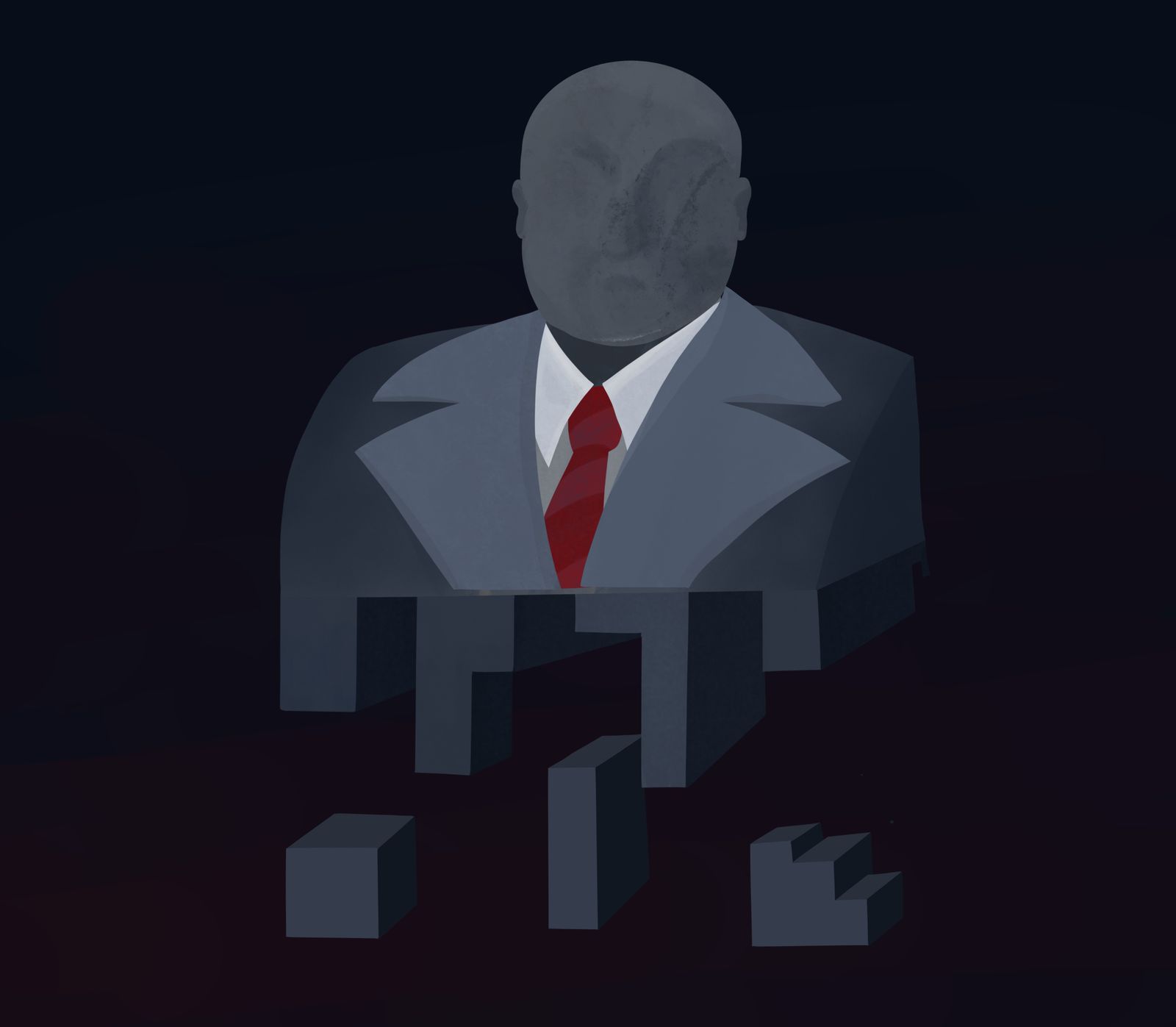
Если же вы обнаружили в своей визитнице карточку с красивой должностью в духе «Генеральный секретарь партии свободы/процветания/единства/благополучия и т. д.», то вам повезло гораздо больше. Однопартийные режимы— почти что рай для диктатора. Здесь важно сделать ремарку: они часто оказываются схожими с режимами доминирующей партии. В отдельных случаях в стране действительно запрещена деятельность других партийных организаций. Например, в Советском Союзе существование даже номинальных альтернатив КПСС было немыслимым. Вместе с этим есть примеры политических систем, в которых одна и та же партия из раза в раз манипулирует выборами, ограничивает возможности своих оппонентов и добивается контроля над правительством и парламентом. Яркий образец — Институционально-революционная партия (ИРП), которая была абсолютным гегемоном в мексиканской политике с первой половины XX века вплоть до 1997 года, когда ИРП все же потерпела поражение на парламентских выборах.
Какой бы ни была «правящая партия», интересы элит в таком режиме гораздо более прозрачны. Они не заботятся о сохранении единства военной корпорации, а просто хотели бы оставаться у власти как можно дольше. Конечно, внутренние конфликты случаются и в однопартийных режимах, но гораздо более выгодно решать их в рамках противостояния, которое не подразумевает исключения одной из противоборствующих фракций из правящей коалиции даже в случае ее поражения. Переход в реальную оппозицию означает для членов фракции снижение доступа к ресурсам и влиянию, а это слишком большой риск. В начале внутриэлитного конфликта никто не представляет, чем все закончится, поэтому отличной идеей кажется создать такие условия политической борьбы, в которых даже проигравший сохранит доступ к власти.
Для элит в однопартийных режимах самой выгодной стратегией является сотрудничество, а не борьба на уничтожение.
Статистический анализ той же Барбары Геддес демонстрирует, что однопартийные режимы гораздо более долговечны, чем военные. Забегая вперед, отметим: их сильная сторона заключается еще и в том, что партийная структура позволяет эффективно распределять блага между сторонниками, включать в систему власти потенциальных оппонентов или подавлять их с помощью партийных активистов.
Наконец, выглянув в окно, вы вполне можете обнаружить на помпезном дворце большой плакат со своим портретом. В таком случае, скорее всего, вы проснулись в персоналистской автократии: режиме, где доступ к власти контролируется одним лидером. Вы можете быть военным или создать для укрепления своей поддержки партию, но последнее слово всегда будет оставаться за вами. Вероятно, вас окружает группа приближенных, в которую входят ваши друзья или даже родственники — им вы доверяете больше всего. Ваше окружение привязано к вам еще и из-за осознания того, что своим продвижением по службе, доступом к власти и материальным благам они обязаны только вам.
Несмотря на эти благоприятные условия, персоналистские режимы оказываются лишь чуть более долговечными, чем военные, но значительно уступают однопартийным автократиям. Почему так происходит? Барбара Геддес предполагает, что персоналистские диктатуры сталкиваются с тремя рисками. Во-первых, серьезные предпосылки для разрушения режима создает смерть лидера. Умирает человек, который служит главным связующим звеном правящей коалиции и, возможно, пользуется народной поддержкой. Не факт, что его окружение сможет оперативно найти замену. Во-вторых, часто персоналистские режимы опираются на достаточно узкие слои населения. Массовая партия универсальна, она готова предоставить крупицу доступа к власти и ресурсам всем лояльным гражданам, тогда как лидеры-персоналисты склонны делать бенефициарами ограниченную этническую, территориальную или клановую группу. У других групп постоянно возникает соблазн начать борьбу за эти эксклюзивные блага. Наконец, персоналистские режимы особенно уязвимы к экономическим потрясениям, которые не позволяют им продолжать содержать силовой аппарат и чиновников.
Отдельно стоит сказать и несколько слов об авторитарных монархиях, которые, хотя и могут быть схожи с персоналистскими режимами с точки зрения концентрации власти в одних руках, но принципиально отличаются тем, что монарх получает власть по наследству. Сразу несколько авторитетных исследователей фиксируют особенную устойчивость авторитарных монархий даже в сравнении с однопартийными режимами. Например, во время Арабской весны ближневосточные монархии почти повсеместно сохранили контроль над властью. Причина кроется в том, что большая часть современных монархий богата природными ресурсами. Обильная нефтяная или газовая рента позволяет Кувейту или ОАЭ обменивать материальные блага на лояльность населения и содержать эффективный силовой аппарат. Более того, такие страны, как Саудовская Аравия, Катар и Оман, являются стратегическими партнерами США, которые готовы приложить массу усилий для сохранения внутренней стабильности на территории союзников, позволяющих размещать военные базы или влиять на рынок нефти. Одним словом, монархия — ваш лучший шанс удержать власть. Обидно, что построить ее с нуля почти невозможно.
Вы могли заметить, что почти во всех рассмотренных случаях предполагаемая долговечность режима объясняется за счет возможных стратегий поведения элиты. Почему же мы сбрасываем со счетов тех, кем эти элиты управляют? Ведь интуитивно кажется, что диктаторы смертельно боятся масштабных протестов. Вероятно, действительно боятся. Но статистика неумолимо говорит о том, что главные угрозы автократам исходят от их же окружения. Политолог Милан Сволик проанализировал 303 случая потери власти авторитарными лидерами и пришел к выводу, что только 62 из них были связаны с той или иной формой народного давления. Примерно две трети лидеров лишились своих постов из-за действий приближенных, правительства или силового аппарата. Так что в какой бы стране вы не проснулись, не поворачивайтесь спиной даже к самым близким союзникам.
Бороться с демократией её же оружием: почему автократии тоже голосуют
Модная обновка современных автократов — выборы. Они могут проводиться почти в любом режиме: будь он персоналистским, партийным или даже монархическим. Недемократические режимы, которые допускают существование номинальных политических альтернатив и возможность выбора между ними, называются «электоральными». Не пугайтесь, процедуру народного волеизъявления можно поставить под контроль. Комплекс мер, используемых для этого автократами, с легкой руки политолога Андреаса Шедлера получил в политологии название «меню манипуляций». К примеру, вы можете ограничить доступ к участию в выборах представляющим реальную угрозу оппозиционным партиям, лишив их источников финансирования или просто отказав в регистрации. Даже если им удалось добраться до бюллетеней, в ход можно пустить административное давление на избирателей, работающих в подконтрольном государству секторе экономики, или напрямую купить их голоса. Предположим даже, что вы имеете дело с особенно строптивыми гражданами, которые готовы лишиться зарплат, но все равно проголосуют за ваших реальных оппонентов. В таком случае ничего не остается, кроме как запустить машину фальсификаций и «нарисовать» нужный результат. Готово, вы справились с угрозой! И это лишь малая доля стратегий, доступных автократам для выхолащивания содержания формально демократических институтов.

Но зачем вообще нужны такие сложности? Разве не проще учредить пост «вечного президента» и не заморачиваться с покупкой голосов и вбросами бюллетеней? Часто существование института выборов в автократиях объясняется тем, что за их счет элиты обеспечивают себе дополнительную легитимность. Что, как не народная воля, пускай и искаженная манипуляциями, может лучше всего обосновать вашу власть? Другое объяснение связано с международной репутацией режима. Утверждается, что выборы нужны автократам, чтобы создать «ширму» и убедить либеральные демократии в необходимости оказать стране финансовую помощь или же осуществлять инвестиции. Вряд ли эта мотивация в действительности играет для диктаторов ключевую роль. О манипуляциях быстро становится известно журналистам и правозащитным организациям, а в отдельных случаях автократы и вовсе не имеют никакого желания получать поддержку от «уважаемых западных партнеров».
Сегодня политическая наука концентрируется на более сложных объяснениях полезности выборов для автократий. Один из самых ценных ресурсов любой власти — информация. Вам нужно знать, кто из чиновников выполняет свою работу качественно, а кого лучше отправить в отставку; в какую сферу экономики стоит направить ресурсы в первую очередь, а где дела и так идут неплохо. Демократические режимы достаточно прозрачны: такой информацией вас могут снабдить свободные медиа, политические оппоненты и независимые аналитические центры.
Автократы своими же руками душат свободу слова и лишают себя привилегии доступа к объективной информации.
Этот феномен получил название «дилеммы диктатора»: каждый ваш подчиненный утверждает, что абсолютно лоялен и работает на благо режима, но вы никогда не можете быть до конца в этом уверены. Выборы смягчают эту проблему. Например, результат правящей партии в регионах страны может быть метрикой компетентности назначенных вами губернаторов. Если партия показала достойный результат, глава региона либо пользуется популярностью у населения, либо может эффективно манипулировать избирательным процессом. Оба сценария могут устраивать диктатора. В противном случае следует задуматься об отставке нерадивого руководителя.
Вам не стоит недооценивать конкурентность выборов в автократиях. Иногда за мандат депутата парламента борются сразу несколько сильных игроков. Победу, скорее всего, одержит тот кандидат, который сможет наиболее эффективно убедить или подкупить избирателей. В глазах диктатора это — отличный показатель влиятельности. Таким образом, даже относительно конкурентные выборы могут помочь вам допустить до власти и распределения ресурсов только тех политиков, которые действительно могут обеспечить вам поддержку «на местах». Конечно, это работает только при том условии, что вы убеждены в лояльности любого возможного победителя выборов.
Более того, как и в любой другой политической системе, авторитарные элиты склонны вступать друг с другом в конфликты. При отсутствии установленных правил разрешения споров политика быстро превратится в войну всех против всех. Выборы — отличный способ согласовывать интересы элит и вырабатывать компромиссную позицию, играя по относительно понятным для всех участников конфликта правилам.
Наконец, выборы могут иметь важное значение для формирования представлений о текущей политической ситуации как у элит, так и у избирателей. Уверенная победа на выборах доминирующей партии или действующего лидера (каким бы способом она ни была достигнута) служит для граждан сигналом о том, что поддерживать политические альтернативы просто не имеет смысла — у них нет шансов на победу. Гораздо комфортнее присоединиться к базе поддержки партии-победительницы и рассчитывать на получение вознаграждения. Банкиры и медиамагнаты также отказываются от мысли о переговорах с оппозицией, ведь преимущество правящих элит слишком велико.
Одним словом, выборы могут дать автократу много приятных бонусов. Тем не менее прежде чем принимать решение об их проведении, вам следует внимательно проанализировать текущую политическую ситуацию. Если избиратели уже не питают к вам теплых чувств, то явные манипуляции в ходе избирательного процесса могут подорвать политический режим. Люди не любят, когда их голоса пытаются украсть. Если не верите, можете спросить у Александра Лукашенко, Эдуарда Шеварнадзе или Сооронбая Жээнбекова, которые столкнулись с масштабными протестами после явных фальсификаций результатов голосования.
Разделение власти или подавление?
Мы уже знаем, что угрозы автократу в первую очередь исходят от его же окружения, некоторую опасность представляют и массовые протесты. Поговорим о двух стратегиях, с помощью которых лидер может подавить недовольство. С одной стороны, вы можете вкладывать деньги в силовые структуры: содержать большой штат «правоохранителей» и платить им достойную зарплату. Это может помочь как бороться с уличными выступлениями, так и проводить точечные репрессии представителей элиты, которые, с вашей точки зрения, угрожают монополии на власть. Главный подводный камень такой модели — амбиции самих силовиков. Если власть опирается только на насилие, то со временем высшие полицейские или военные чины могут прийти к закономерному выводу о том, что для управления государством и получения разнообразных благ им не нужен политический лидер. Следствием таких мыслей может стать если не лишение вас власти, то переход значительной части потоков ренты под контроль силовиков. На штыках долго не усидишь.
Авторитарные режимы всё чаще используют для укрепления господства стратегию кооптации, то есть включение недовольных граждан и потенциальных оппонентов в саму авторитарную систему.
Собственно, именно потребностью в кооптации многие политологи объясняют существование в автократиях выборов, партий и парламентов. Почему эти институты могут умерить амбиции элит и успокоить протест? Отвечая на этот вопрос, политологи Пшеворский и Ганди вводят понятие «институциональных окопов». Элиты могут стремиться к власти или обогащению, следовательно, автократу выгоднее своими руками допустить их в парламент или правительство. В противном случае элиты могут попытаться забрать власть самостоятельно. Это «окоп» первого уровня. Если же угрозы исходят от гражданского общества, то логичный шаг для авторитарного лидера — создать одну или несколько партий, которые могли бы послужить инструментами частичного удовлетворения запросов общества. Например, они могут предоставлять ресурсы тем гражданам, которые будут готовы демонстрировать лояльность, а в отдельных случаях — напрямую представлять интересы людей и добиваться частичных уступок от власти. Если с помощью таких мер все же не удалось полностью стабилизировать ситуацию, с помощью партийной структуры можно мобилизовать сторонников автократа для противостояния протестующим.
Другое полезное свойство парламентов и прочих институтов представительства в автократиях — снижение значимости проблемы информационной неопределенности. Мы уже знаем, что в недемократических режимах существуют сложности с доступом к объективной информации. Это приводит к тому, что лидер никогда не может быть до конца уверен в намерениях элит: вдруг им придет в голову совершить государственный переворот? С другой стороны, сами элиты живут в постоянном страхе репрессий со стороны лидера. Используя парламент как переговорную площадку, представители элиты узнают гораздо больше о намерениях друг друга, что позволяет снизить чувство неопределенности. Из похожей предпосылки исходит политолог Беатрис Магалони, которая видит сущность кооптации в создании параллельной системы распределения доступа к власти и государственным привилегиям. К примеру, вы беспокоитесь, что автократ в любой момент может отнять ваш бизнес и отправить за решетку. Членство в доминирующей партии и мандат депутата делают ваши активы немного более защищенными и укрепляют уверенность в завтрашнем дне.
Конечно, стратегии подавления и кооптации — два идеальных типа. Сложно опираться только на один из них и полностью игнорировать другой. Опытный диктатор стремится включить в систему власти как можно больше потенциальных оппонентов, но не забывает и об укреплении силового аппарата. Иногда у вас может просто не хватить ресурсов и депутатских мандатов, чтобы удовлетворить потребности каждого. Тогда «каждый» может попытаться взять власть своими руками.
Ренту надо использовать с умом
Едва ли не самый важный повод для вашего беспокойства — это экономика. Политологам удалось установить четкую положительную связь между демократией и уровнем экономического развития. Интуитивно кажется, что улучшение благосостояния населения и является причиной демократизации. К примеру, рост доходов позволяет удовлетворить первичные потребности и задуматься о постматериальных ценностях, а также повышает уровень образования, что часто подразумевает запрос на либерализацию. Однако политическая наука очень осторожна при рассмотрении этой возможной причинно-следственной связи. Считается, что авторитарные режимы могут разрушаться по самым разным причинам, а существующая связь между экономическим развитием и демократией во многом объясняется тем, что уже установившиеся демократические режимы практически никогда не разрушаются после того, как достигают определенного уровня экономических показателей. Политолог Дэниел Трейсман и вовсе писал о том, что, хотя в среднесрочной перспективе (10–20 лет) экономическое развитие действительно повышает шансы на демократизацию, в краткосрочной перспективе экономический рост укрепляет выживаемость авторитарного правителя.
Другой ясно установленный факт заключается в том, что резкие экономические спады приводят к повышению вероятности краха любого вида режима. Таким образом, автократам тоже может быть выгодно поддерживать приемлемые показатели экономического развития.
Улучшение благосостояния населения способствует укреплению лояльности, а отсутствие спадов защищает от проявлений недовольства.
Механика этой связи достаточно прозрачна. Авторитарные режимы часто обеспечивают гражданам широкие социальные гарантии. Например, во времена правления Уго Чавеса в Венесуэле бензин и электричество были практически бесплатными, а бедные люди получали щедрые государственные пособия. Экономический рост также позволяет дать возможность для личного обогащения элитам, что снижает их желание ставить верховенство лидера под сомнение.
Получится ли у вас обеспечить стабильный экономический рост в автократии — совсем другой вопрос. И чаще всего ответ на него строго отрицательный. Нет такого диктатора, который бы не грезил лаврами Ли Куан Ю — сингапурского автократа, при котором город стал одним из важнейших мировых финансовых центров. Однако на один Сингапур приходится с десяток тираний, которые едва-едва сводят концы с концами. Каждый случай успешной авторитарной модернизации объясняется сложной совокупностью факторов, которые невозможно искусственно воссоздать в любой другой стране. Тот же Сингапур, во-первых, выгодно расположен географически — еще в XX веке здесь останавливались на дозаправку торговые суда, шедшие из Европы и США в Азию. Во-вторых, это одно из самых маленьких государств в мире, что значительно упрощает управление.
Вашим выигрышным лотерейным билетом может стать богатство природными ресурсами. Обильная нефтяная рента дает возможность покупать поддержку населения, предлагать щедрую материальную компенсацию потенциальной оппозиции или содержать мощный силовой аппарат. Помимо этого, у режимов-рантье нет постоянной потребности договариваться о выплате налогов с экономическими элитами и населением — денег и так хватает, даже если ставки налогов для физических лиц и компаний достаточно низкие. Это снижает переговорное плечо гражданского общества, а также сокращает количество потенциально конфликтных ситуаций. У рентоориентированной экономики есть и оборотная сторона. Цены на природные ресурсы часто меняются. Для уже упомянутой Венесуэлы снижение цен на нефть стало причиной масштабного экономического и политического кризиса: в какой-то момент стране не хватало денег для оплаты печати собственной валюты. Поэтому более дальновидные автократы пытаются использовать хотя бы часть ресурсной ренты для заблаговременной диверсификации экономики, то есть расширения спектра наиболее развитых отраслей народного хозяйства. Яркий образец — Саудовская Аравия, где в 2016 году была анонсирована программа Vision 2030, нацеленная в том числе на развитие альтернативной энергетики.
В редких случаях (например, Китай) авторитарным режимам удается построить экономическую модель, которая относительно независима от цен на полезные ископаемые. Но, повторимся, это скорее исключение, подтверждающее правило. Экономические перспективы автократа туманны и таят в себе немалые риски.
Игнорировать международный контекст — опасно
Диктатору не помешают знания в области международных отношений. Более того, позиции страны на международной арене — вероятно, один из наименее контролируемых вами факторов. Если тип режима, экономика или институты еще могут быть худо-бедно отрегулированы, то вряд ли вам удастся одномоментно разрушить, к примеру, многолетние связи вашей страны с западными либеральными демократиями. В фундаментально важной работе «Соревновательный авторитаризм» политологи Стивен Левицкий и Лукан Вэй утверждают, что устойчивость автократии зависит от трех параметров: связанности со странами Запада, наличия рычагов давления и организационных способностей. Впрочем, последний из них мы уже успели отчасти осветить в предыдущих разделах, поэтому не будем останавливать на нем внимание.
Связанность с Западом — это в первую очередь интенсивность торговли, миграционные и туристические потоки, совместное членство (в том числе потенциальное) в международных организациях. Если страна тесно связана с устойчивыми демократиями, то им не составит труда создать условия для либерализации режима. Одними из возможных инструментов могут стать санкции или предложения о выгодном партнерстве при условии соблюдения демократических требований. Левицкий и Вэй считают, что именно по этой причине большая часть восточноевропейских посткоммунистических государств быстро перешла от мягких форм авторитаризма к демократии. Слишком многое в экономике условной Словакии или Румынии было завязано на сотрудничество со странами Западной Европы, а потенциальное членство в ЕС было соблазнительным как для элит, так и для населения.
Однако даже если ваша страна тесно связана с демократическим Западом, у вас всё еще остаются шансы на устойчивость.
Спасением могут стать характеристики страны, которые делают ее неуязвимой к демократизирующему давлению. В их числе: доступ к ядерному оружию, наличие сильной самодостаточной экономики или природных ресурсов. С ядерным арсеналом все просто — вряд ли кто-то осмелится на прямую интервенцию в страну, которая может стереть с лица земли половину мира. Гораздо интереснее ситуация с природными ресурсами: США и странам ЕС может быть выгодно сотрудничество с рядом ближневосточных автократий. От них зависит мировая конъюнктура цен на нефть и газ, в которых либеральные демократии остро нуждаются. Даже если вам не повезло, и страна бедна на ядерные боеголовки и полезные ископаемые, попробуйте найти на глобусе сильный авторитарный режим, который может обеспечить вам защиту в обмен на сотрудничество. Автократии, покровительствующие другим более слабым автократиям-сателлитам, получили в политологии название «черные рыцари». Наиболее близкий и понятный всем нам пример, это, пожалуй, Беларусь, режим которой сохраняется во многом благодаря тесным связям с Россией.
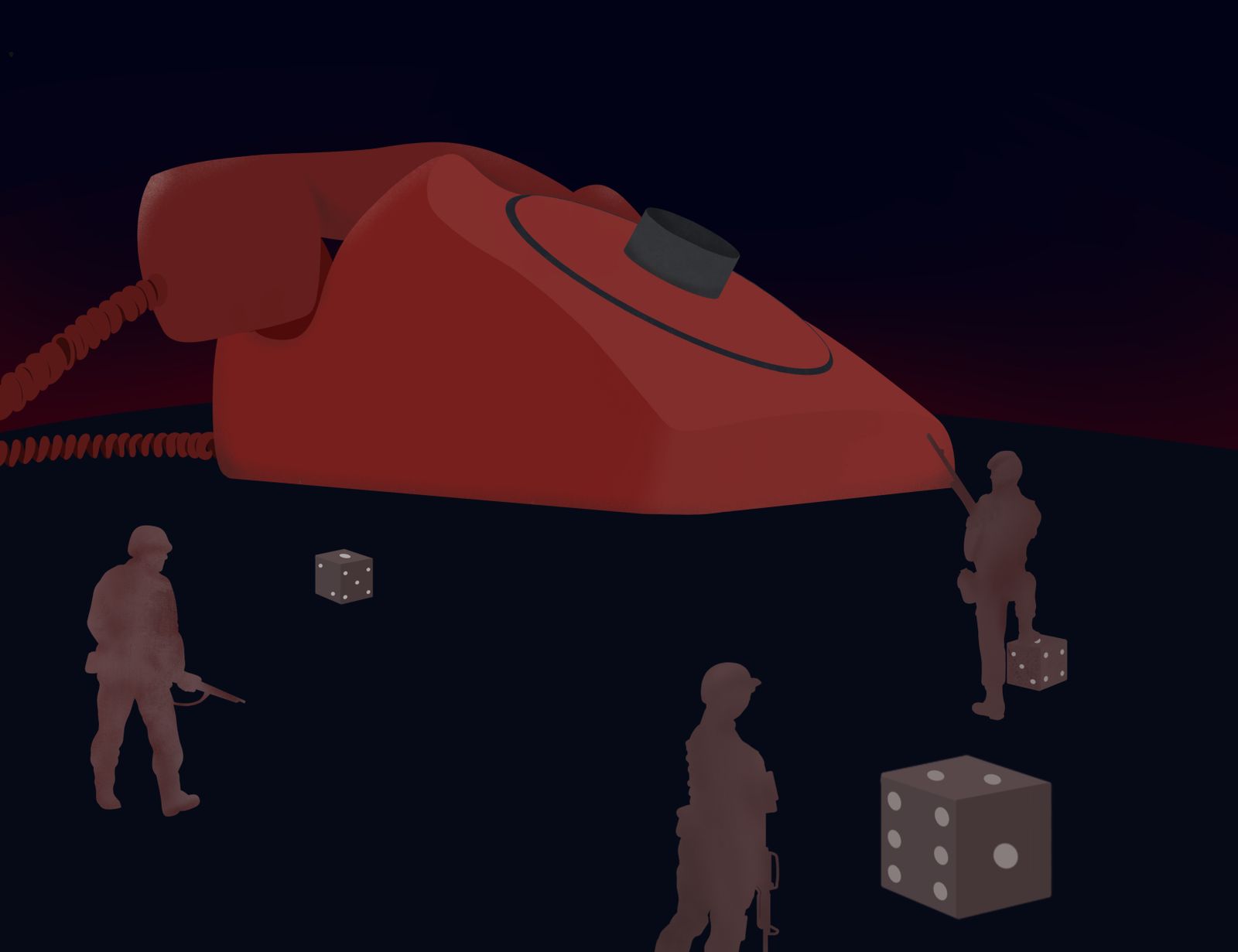
Кроме того, помимо глобуса в вашем кабинете надо найти место еще для двух предметов: телефонного аппарата и телевизора с доступом к новостным каналам. Телефон понадобится для регулярных разговоров с коллегами по авторитарному цеху. Можно позвонить и справиться о здоровье, а можно поинтересоваться, почему в его или ее стране последние несколько месяцев не прекращаются протесты. Вы должны постоянно учиться на опыте других автократов, тем более — это уже давно и успешно делают сами участники уличных демонстраций. В политической науке для описания этого процесса используется понятие «диффузия протеста». Вы могли замечать, что время от времени волна антиправительственных выступлений охватывает целые регионы. Нет сирийской или ливийской весны, есть Арабская весна, которая охватила почти весь Ближний Восток в 2011–2012 годах. Ученые неоднократно отмечали, что протестующие в разных странах, особенно культурно близких, заимствуют друг у друга тактики и даже слоганы протеста. Ровно то же самое происходит и с авторитарными лидерами — они внимательно присматриваются к негативному опыту других диктаторов и пытаются предотвратить аналогичные события у себя в стране. Запрещают международные НКО, увеличивают финансирование силовых структур или заблаговременно отправляют потенциальных лидеров протеста за решетку.
Интернет — инструмент, а не «прививка либерализма»
Наверняка вы наслышаны о том, что интернет — худший враг диктатуры. Действительно, глубокое проникновение социальных сетей может, например, способствовать росту протестных настроений. Для оппозиционных движений снижаются затраты на координацию и мобилизацию сторонников, по сети быстро распространяется информация о коррупционных скандалах и полицейском насилии. Помимо этого, благодаря интернету потенциальные протестующие могут видеть, как много людей вышли на улицы — всегда проще присоединяться к большинству.
Однако в политической науке восприятие интернета как априори способствующего демократизации явления сильно устарело. Интернет — это просто инструмент: он может быть использован для хороших или плохих с точки зрения развития демократии целей. Одна из самых популярных теорий, объясняющих отношения диктаторов с информационными технологиями, была создана экономистом Сергеем Гуриевым и политологом Дэниэлом Трейсманом. По мнению исследователей, современные автократы удерживают власть за счет убеждения граждан в своей компетентности. Основные каналы донесения такой информации — откровенно пропагандистские и формально независимые СМИ. Чтобы система работала, режиму нужно подкупить или подвергнуть цензуре информационные элиты, которые пользуются популярностью в медиапространстве. Ранее мы уже говорили о кооптации потенциальных оппонентов в парламенты или правящую партию — фактически Гуриев и Трейсман пишут об аналогичном процессе в информационном поле.
Безусловный лидер мира цифрового авторитаризма — Китай. Местная система контроля над интернетом получила неформальное название «Великий китайский файрвол». Здесь заблокировано большинство западных социальных сетей и медиа, осложнен анонимный доступ в интернет, а за критику правительства в сети могут отправить в тюрьму. За последние несколько лет ситуация только ухудшилась. Данные из соцсетей используются при оценивании благонадежности граждан в рамках системы социального кредита, а притесняемые властями уйгуры, тюркский коренной народ Восточного Туркестана, сталкиваются с тотальной цифровой слежкой. За поддержание лояльности в блогах и на интернет-форумах отвечает гигантская армия оплачиваемых правительством комментаторов. Интересный факт: предположительно, они не вступают в споры с критиками режима, а просто наводняют комментарии информацией, которая отвлекает пользователей от основной темы обсуждения.
Китай не только контролирует онлайн-активность своих граждан, но и экспортирует авторитарные технологии за рубеж. В 2018 году здесь проводили семинары для иностранных журналистов, посвященные слежке и цензуре в интернете. Неизвестно, насколько это связано с «благотворным» воздействием КНР, но цифровой авторитаризм уверенной поступью движется по планете. В 2021 году военная хунта блокировала доступ к интернету в Мьянме, в Уганде правительство наводнило соцсети fake-news, а в Беларуси пользователей арестовывали за публикации в сети. Как видите, в распоряжении автократа есть масса инструментов для того, чтобы сделать интернет комфортным для себя пространством. Если вдруг у вас все еще нет понимания подробной стратегии действий, просто звоните Си Цзиньпину — он все расскажет и покажет.
Стоит ли игра свеч?
Этот текст мог бы быть в разы больше. Свежеиспеченному автократу стоило бы знать, что высокая концентрация населения в городах способствует накоплению напряженности и облегчает протестные коллективные действия. Что этнические и религиозные меньшинства, будучи маргинализованными, часто бросают авторитарным режимам вызов, но, если вам удастся их кооптировать, станут надежной опорой. Что повышение уровня образования в некоторых случаях приводит к активному политическому участию и выдвижению демократических требований;, но иногда наиболее образованные слои населения, напротив, уходят во «внутреннюю эмиграцию» и самоустраняются из политики.
Выборы, экономика, международные связи, этническое многообразие и даже урбанизм — автократ должен контролировать все эти факторы для укрепления режима. Задача не из простых. Особенно если помнить, что многие из описанных выше стратегий могут приводить как к выигрышу, так и к проигрышу авторитарного лидера. Например, проведение выборов позволяет кооптировать элиты, но манипуляции в ходе голосования часто становятся причиной массовых протестов.
Автократ живет в постоянном страхе. Приближенные могут воткнуть нож в спину, оппозиция — вывести людей на улицы, либеральные демократии — наложить санкции. Да, вероятно, ваши дети обзаведутся парой особняков в Лондоне, и даже условный шурин сможет получить какой-нибудь захудалый самолетик Bombardier. Но у вас не будет спокойной старости. Статистически, ваша добровольная отставка имеет высокие шансы завершиться изгнанием, заключением в тюрьму или физическим уничтожением. Если же вместе с вами по каким-то причинам падет и сам авторитарный режим, риски возрастут еще больше. Поэтому, если вы неожиданно обнаружили себя в теле диктатора и пока не успели натворить бед, — попытайтесь невероятным усилием воли отказаться от абсолютной власти и начать политические реформы. В отличие от вторжения в соседние страны, это — отличная историческая миссия, которая надолго сохранит вас в памяти потомков. Диктаторов жалко. Не хочется желать кому-то такой судьбы.
Иллюстрации для самиздата сделал Артём Беляев














