Продолжая «собирать земли русские», Иван Данилович I, прозванный некоторыми Добрым, а православной церковью причисленный к лику святых, прибирает к рукам соседние поселения и возвышает Москву. О том, как князю удалось проложить дорогу в века своему государства, и почему уже в те времена Москва слезам не верила, обильно проливая кровь в соседских княжествах, — рассказывает историк Дмитрий Левчик в новой статье из цикла о правителях Руси и их правлении.
К моменту вокняжения в качестве правителя Москвы Ивану Даниловичу стукнуло сорок. Он был уже не молод. За плечами — опыт удельного княжения в Переяславле-Залесском, наместничества в Новгороде, а также слава толкового организатора городской обороны Москвы. В его «послужном списке» — удачно проведённая операция по обороне Переяславля в 1304 году, когда тверские войска три дня держали в осаде город, да были биты. А с 1319 года Иван являлся фактическим хозяином Москвы. Я не сомневаюсь, что он любил город. Я не сомневаюсь, что он хотел обустроить его и изукрасить. И я не сомневаюсь, что ради этой цели он был готов на преступление.

В нашей литературе, учебниках, журналистике укоренилось мнение, что Иван Калита был этакий удачливый торгаш, дававший в Орде налево и направо взятки, скупавший на украденные из ордынской дани деньги земли соседских князей, по-барски раздававший милостыню на папертях московских церквей юродивым и нищим из своего кошелька (калиты). Такую картинку нарисовал, например, Н. Карамзин. Ну, одним словом, купчина толстобрюхий. И митрополит Пётр переехал к нему, в Москву, так как княжество стало тогда лидером Руси. Так говорят учебники.При этом уверяют нас учебники и в том, что Иван был жалобщик, наветчик на соседних (в основном, тверских) князей, а также погромщик Твери, которую он обокрал и повывез оттуда все богатства в Москву.При всём при этом Ивана Калиту русская православная церковь причислила к лику святых.
Я не сторонник альтернативной истории и не пытаюсь начать рассказ о правлении Ивана Калиты со слов «а на самом деле было так…», но я очень прошу вас, уважаемые читатели, проследить вместе со мной за жизненным путём князя Ивана.
Итак, в 14 лет Иван Калита был назначен наместником своего отца в Новгороде. По современным меркам — замминистра обороны Новгородской республики. И ничего. Справился. Помните, что «Гайдар в 16 лет полком командовал»? Ну, Иван — не хуже. Потом — война с Тверью. Всех Даниловичей тверичи отлупили. И Юрия, и Бориса, и Афанасия. Но не Ивана. Он одержал блестящую победу над тверскими войсками под Переяславлем. А годков ему тогда было всего 22.
Далее — 1322 год. Афера с тверскими деньгами, точнее — тверской данью Орде, которую Юрий и Афанасий Даниловичи отдали в рост новгородским купцам под нехилые проценты, не удалась. Вот тут бы и раскрыться купеческому таланту Ивана Калиты. Ан нет! Не доверили братья ему деньги. Видно, по мнению братьев-Даниловичей, не его это было призвание — деньгами ворочать.
Итак, афера рухнула. Великий хан всё узнал. Со страху Афанасий уходит в монастырь. Юрий отказывается ехать в Орду и прячется в Новгороде. У Москвы отнимают право собирать дань, а у московских князей — титул Великого князя. В будущей столице нашей Родины воцаряется страх, и все с минуты на минуту ждут карательной экспедиции со стороны Орды и Твери. Кто в этой ситуации остаётся в Москве? Иван Калита. И что он делает? В экстренном порядке укрепляет город, строит дубовый Кремль, закладывает в центре Кремля каменную цитадель (Успенский собор), а сам, пока идёт строительство, пока город не готов к обороне, едет в Орду. Договаривается. Проявляет недюжинный талант переговорщика и дипломата. Результат — карательной экспедиции не было.
Ну, кто перед нами? Воин и дипломат или купчина и торгаш? Очевидно — первое.

Попытаемся ответить на главный вопрос: был ли Иван Калита богат? Возьмём его духовную грамоту (завещание) от 1328 года. И вот какое удивительное открытие (!) — да не был особо богат князь! Если вычленить из завещания движимое имущество Калиты, то получится, что своими праведными трудами он нажил всего: 12 золотых цепей, 6 золотых ковшей, 11 золотых чаш, 1 золотое блюдо, 9 серебряных блюд, 15 серебряных обручей, 1 ожерелье и 1 монисто. А денег всего сто (!!!) рублей. Не густо! Это после семи лет княжения! Это во время владения семью городами (Москвой, Коломной, Можайском, Серпуховым и т. п.), а также 95 селами и слободами?! На какие же шиши он скупал города? Якобы скупал. Неужто из Твери ничего не упёр во время разгрома восстания тверичей против Чолхана в 1327 году? Всё по-честному отдал в Орду? Или милостыню раздал московским бомжам (как это умильно описал Карамзин)?
А большая ли армия была у Калиты? Исходя из того же завещания, нетрудно прикинуть, что в 95 сёлах и слободах жило максимум пять тысяч человек. В семи городах — максимум девять тысяч человек. Итого — не более 14 тысяч человек подданных. Армия при такой численности будет полторы-две тысячи человек. Любой соседний князь мог завоевать Москву. А Москва — никого. Надежда была только на дипломатические усилия и помощь Орды.
В 1325 году в Москву переехал митрополит Пётр. Большая дипломатическая удача Ивана. Вопрос: а куда Петру было деваться? Он был поставлен митрополитом на галицко-волынские деньги. За него в Константинополе «проплатился» король Руси Юрий Львович. Ему Пётр обещал вернуть митрополию в Киев. И вернул — в 1308. На год. А потом — переметнулся к московскому Юрию Даниловичу. Опять уехал во Владимир. И верой, и правдой служил князю Юрию. Громить тверичей помогал. Да так усердно, что тверские религиозные власти даже в патриарший суд на него подавали жалобу в 1311 году. Суд его оправдал, но после этого в тверских владениях Петру были не рады. И когда в 1325 году тверской князь Александр вновь стал Великим князем, Петру места на Руси почти не оставалось. Во Владимире и Новгороде — власть тверичей (как и в самой Твери). Там ему просто угрожают. В Галиче и на Волыни его считают предателем. Куда податься? Выбор невелик — только в Москву.
Одним словом, трудные были 1325–1327 и для Ивана, и для Петра. Но случай помог. В 1327 году в Твери вспыхнуло антитатарское восстание. Тверичи убили посланника Великого хана Чолхана («Щелкана»). Чолхан не был баскаком в собственном смысле этого слова. Скорее, он был послом с полномочиями баскака. А в переводе на современный — аудитором, налоговым инспектором и налоговым полицейским в одном лице. И послан он был в Тверь, дабы разобраться, могут ли тверичи выплатить дань с учётом штрафных санкций, наложенных ханом. И, если могут, то в какие сроки. Аудиту подверглось всё тверское хозяйство.
Уважаемые читатели! Вы любите аудиторов, налоговых инспекторов и налоговых полицейских? Так вот, тверичи их тоже не любили. И, когда возник конфликт (в общем, из-за пустяка, из-за кобылы) между каким-то тверским попом и каким-то татарином, попик кликнул на подмогу мужиков. Татарин — своих татар. Татары за сабли. Мужики — за топоры и оглобли. Тверичей было больше. Они загнали татар в посольскую избу и спалили. Бунт, уголовщина, убийство.

И не успели головешки от той избы остыть, как из Твери в Москву поскакали шпионы с радостным для московского князя донесением о тверском бунте. Последний, видимо, сходу помчался в Орду, чтобы лично, да ещё и с приукрашенными подробностями, рассказать Великому хану об измене Твери и о том, что это «не случайно» и что за этим стоит тверской князь Александр. Заговор, одним словом. Хан, естественно, смерть посла без наказания оставить не мог. Но и ушлому Ивану Калите полностью доверить карательную экспедицию не мог. Он прекрасно понимал шкурные интересы Ивана. И они вовсе не совпадали с интересами Орды.
Иван хотел уничтожить конкурента, а Орда — всего лишь наказать строптивого князя. Иван хотел разгромить Тверь, а Орда — устроить публичную порку. Орде вовсе не нужно было сокращать свою налогооблагаемую базу и резать курочку, несущую золотые яички (т.е. Тверь).
И хан Узбек принял очередное мудрое решение. Да. Войска Калиты пойдут наказывать Тверь. Но пойдут не одни. С ними вместе пойдут суздальцы (наказывать Великого князя должен князь, следующий за ним по старшинству лествичного права, а таковым был суздальский князь). А за ходом наказания будут следить татарские войска. То есть Великий хан был уверен, что в этой ситуации Тверь будут бить «больно, но аккуратно».
Хан ошибся. Хан не понял, что имеет дело не с торгашом, а с воином Иваном Калитой. А воин Иван Калита знал, что главное на войне — сломить дух противника, а вовсе не ограбить его дом. И потому отдал приказ своим войскам не столько грабить город, сколько поглумиться над жителями. Запугать до смерти. Да так, чтобы потом от имени москвича их в дрожь бросало. Так, чтобы и не смели думать о сопротивлении Москве! И головорезы Ивана выполнили приказ. Погром Твери был страшен именно тем, что погромщики не брали ничего, а лишь издевались над жителями. Как проклятые солдаты РОНА в беззащитной Варшаве, как мерзкие каратели Блюхера и Тухачевского на Тамбовщине. Дух независимой Твери был растоптан.
И так — с предсмертными хрипами изнасилованных тверских купчих, с матерщиной и проклятьями, застывшими в устах убитых простых тверских мужиков, что пытались защищать своих близких с ослапами против копий и сабель москвичей, с бессильными слезами тверских ратников, которым приказали открыть ворота и не сопротивляться, с горячей молитвой оставшегося в городе князя Константина (сам Великий князь Александр из Твери сбежал), понимающего, что это — конец величию Твери, — так был создан фундамент возвышения Москвы. Вся Русь поняла: с такими головорезами спорить нельзя!
Самое удивительное, что хан Узбек тоже понял это. И не оценил «усердие» Ивана Калиты и его солдат. Такого князя-палача он презирал.
Ярлык на великое княжение был отдан в Суздаль князю Александру. По лествичному праву.
Александр Суздальский как Великий князь был самым неавторитетным великим князем за всю историю Руси. Как Великого князя его не признали новгородцы. Фактически не признали и москвичи. Но он с этим мирился. Он был плох. И боролся не столько с врагами своего княжения, сколько со своими недугами. Последние победили.Его княжение продолжалось всего четыре года. Если учесть, что в те времена дань в Орду отсылали зачастую раз в пять лет, то можно предположить, что он вообще её не собирал. На эту же мысль наталкивает то, что в Суздале в те годы ничего нового и не построили. Не было у неё столичного лоска.
В 1331 году Великим князем наконец-то стал Иван Калита. Во-первых, по лествичному праву, во-вторых, не было на Руси тогда более проордынского князя.
Но Узбек, как я уже писал, князя Ивана недолюбливал. И потому формально власти надавал ему с три короба, а реальной поддержки — с напёрсток. Конечно, после разгрома Твери Ивану отдали одну из традиционных вотчин Даниловичей — Костромское княжество, включавшее на тот момент и Городецкое. Иван получил тогда ярлык и на Новгород. То есть восстановил под своей эгидой (правда, отчасти) всё то, что принадлежало Даниловичам в десятые годы XIV века. Но оставалась одна проблема. Новгородцы Калиту не признали и в город не пустили. А армия у москвичей тогда была не столь велика, чтобы Новгород штурмовать. И татары не помогали. Оставалось искать союзника.
И князь Иван, как опытный дипломат, попытался найти союзника в лице Великого Литовского князя Гедимина.

Гедимин — личность полулегендарная. Современник и Калиты, и Узбека, фактический основатель литовской княжеской династии, в те годы хотел решить две задачи: расширить свои владения на восток и отбить поляков, досаждавших ему с запада. Иван Калита уверил его, что и та, и другая задача могут быть решены — стоит ему, Гедимину, только признать власть Великого хана, стать данником Орды. Великий хан позволит и захватить ему вместе с московским войсками Новгород, где можно будет организовать московско-литовское совладение, и пошлёт свою несметную армию против поляков, поможет разбить короля Казимира III. Только присягни Орде — и вместе с москвичами разбей новгородцев!
Гедимин подумал…и согласился! Более того — даже его сын Юрий (Болеслав) Галицкий (король Руси) тоже согласился стать данником татар. А залогом крепости такого союза стал брак сына Калиты Симеона и дочери ГедеминаАйгусты. Иван Калита был счастлив!
Но тут вступили в игру два фактора, не предусмотренные московским Великим князем: хитрость новгородцев и воинская бездарность Узбека. Узбек просто проиграл войну Казимиру. При этом новгородцы, которые поняли, что против объединённых литовско-московских сил им не устоять, решили разрушить союз Москвы с Литвой и «перекупить» Гедимина. Они предложили отдать под контроль Литвы «великий северный пушной путь», крепости и города по маршруту поставок пушнины в Новгород, а гарантией тому — поставить Гедиминова сына Нариманта наместником в Изборск. То есть предложили Гедимину без боя получить «вкусный кусок» новгородчины. Но не входить в союз с Москвой. И не становиться данником Орды.
Гедимин подумал…и опять согласился! Он отказался от союза с Москвой и не стал платить дань Орде. Не стало платить дань Орде и королевство Русь. При этом получилось, что Гедимин и поляков отчасти испугал (они не стали нападать на Литву, предпочли оккупировать часть королевства Руси, начав войну за галицкое наследство), и без боя часть пушного новгородского сбора получил. Молодец! Калита от неудачи локти кусал! Ненужную в большой политике бедняжку Айгусту потом в монастырь упрятали.
Великий московский князь Иван Калита при жизни так и не стал реальным владетелем Новгорода. Но его дипломатические усилия, его попытка расширения данников для Орды не осталась незамеченной в Сарае. Под конец своей жизни, уже после смерти Ивана Калиты в 1340 году, Узбек делает подарок Москве — государственный переворот. Он нарушает все предыдущие договорённости с русскими князьями, отменяет лествичное право при наследовании Великого княжения и вводит на Руси майорат. Право наследования от отца к старшему сыну. Для этого проводит съезд князей в Орде, где передаёт ярлык не по старшинству, не по лествичному праву, а по праву майората. Передаёт ярлык на Великое княжение сыну Ивана Калиты — Симеону. Тот был счастлив и горд! Так и вошёл в историю — Симеон Гордый.
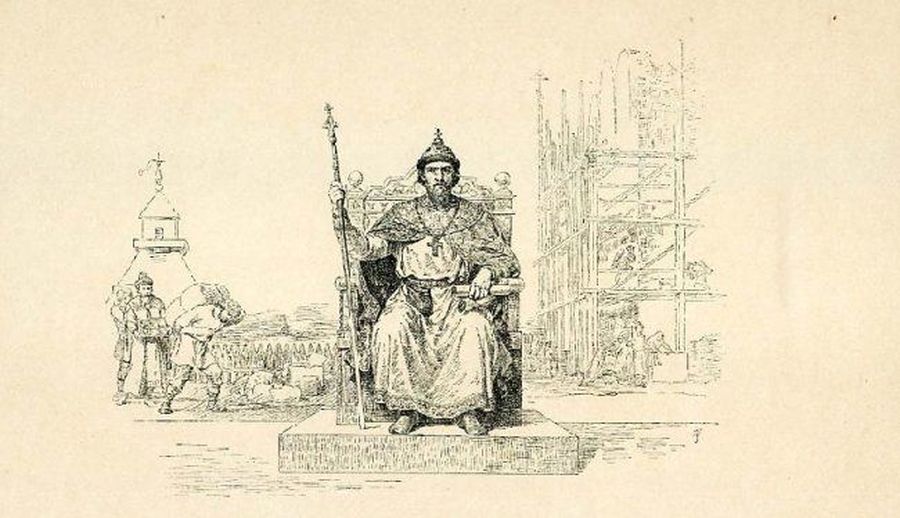
Да…и последнее. О якобы прикупленных Калитой городах и деревнях. Не верю я в это. Думаю, что были они вписаны в его завещание последним абзацем, дабы оправдать экспансионистскую политику его внука, Дмитрия Донского, который, как Д`Артаньян, «дрался везде, где можно, но и тем более там — где нельзя» ….
Я не считаю Ивана Калиту карамзинским богатеем-спонсором московских нищих и подкупателем ордынских мурз. Он — воин, дипломат, палач.
И, увы, совсем не святой.




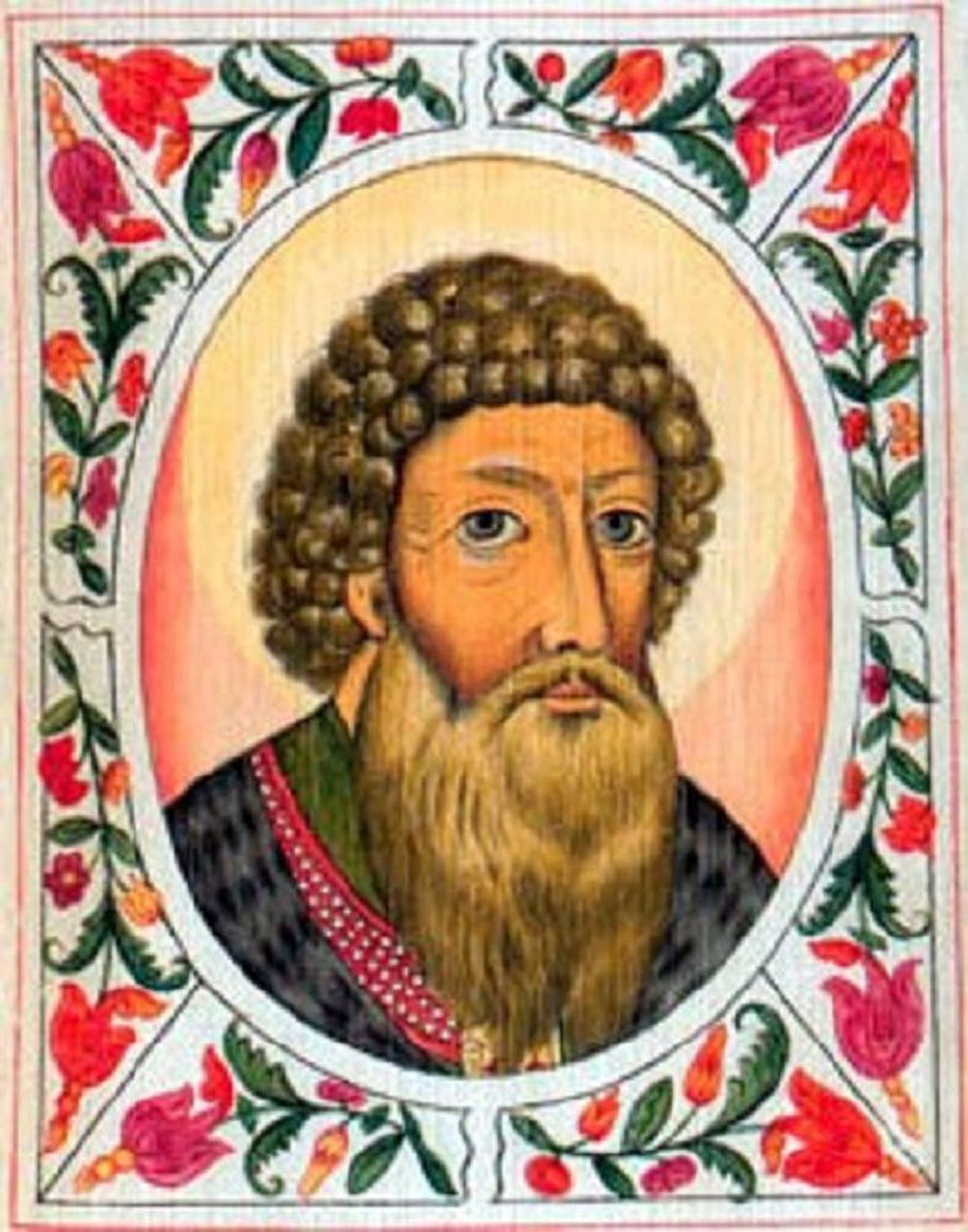








Пока никто не предлагал правок к этому материалу. Возможно, это потому, что он всем хорош.
Предложения
Оригинальный текст