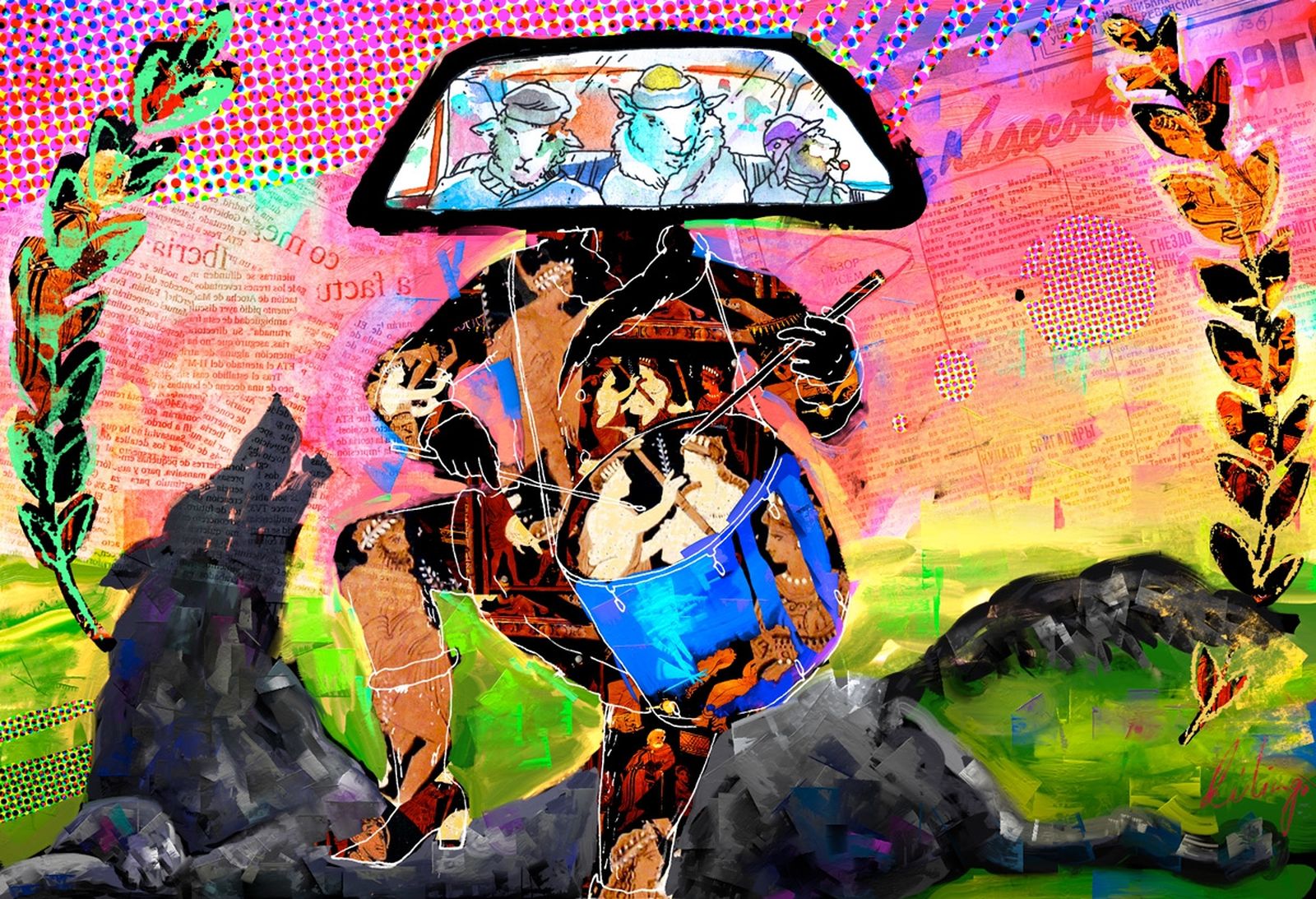В Издательском доме Высшей школы экономики вышла новая книга профессора НИУ ВШЭ, доктора политических наук Светланы Шомовой «От мистерии до стрит-арта. Очерки об архетипах культуры в политической коммуникации». О том, почему политика — тоже текст и почему нам так важно научиться этот текст «читать», с «Дискурсом» беседует автор.
— Самая первая глава книги начинается с рассказа о необычной политической акции: норвежский политик целый день инкогнито проработал водителем такси, чтобы узнать, что думают простые горожане о его делах на посту премьер-министра… Такое «хождение царя в народ». Вы интерпретируете эту историю как проявление в политике наднациональных, общекультурных сюжетов. А в нашей собственной культуре они встречаются?
Специалисты называют их точнее — «блуждающие» (или бродячие) сюжеты, потому что они словно странствуют по культуре разных стран и эпох. Со времен древней сказки о Гарун-аль-Рашиде, который неузнанным ходил по земле, чтобы испытать людей, эти истории воплощали в себе мечты о мудром властителе: стоит ему только узнать правду о нелегкой жизни народа — и справедливость будет восстановлена… Конечно, и в российской культуре известны те или иные интерпретации подобных фабул о «царе-избавителе», воплотившиеся, например, в легенды о Димитрии-Самозванце. Но меня интересовала не столько фольклорная или мифологическая составляющая этого феномена, сколько то, как используют его в своих коммуникациях современные политики. Почему они снова и снова воспроизводят этот — или иные — ведущие сюжеты культуры в наивных, но действенных PR-акциях? Зачем вообще нужен такой политический «сторителлинг»? На мой взгляд (если говорить очень коротко), это связано с апелляцией к коллективной культурной памяти, подсознательно «узнающей» черты мифологической или сказочной истории в публичных действиях политика и — в идеале — переносящей на него симпатию к культурному герою. Эксплуатация подобных повторяющихся (архетипических) сюжетов в политике — одно из любопытных проявлений горячей «пульсации» в ней культуры, той самой пульсации, различным вариантам которой и посвящена вся книжка в целом.
— Но, если я не ошибаюсь, понятия «архетипический сюжет» в базовом списке архетипов Юнга нет…
Не ошибаетесь. У родоначальника теории архетипов вообще очень жесткий и краткий список тех главенствующих образов, которые он считал выраженным проявлением коллективного бессознательного: это Анимус и Анима, Мать, Дитя, Персона и еще несколько. Однако многие последующие исследователи, уже почти вне связи с юнгианством, говорят об архетипах не просто как о «молекулах бессознательного», но как о неких базовых матрицах культуры, ее универсальных и первичных символах, даже фундаментальных механизмах шифровки культурного опыта людей. Поэтому у Мелетинского, например, появляется понятие уже упоминавшегося нами архетипического сюжета, у Элиаде — архетип неба, а у кого-то еще — архетипы дороги или света… Я следую именно такому, более широкому пониманию термина, и в ходе изучения коммуникативных стратегий современных политических лидеров крайне интересным было наблюдать, какие именно архетипы — намеренно или неосознанно — оказываются «вкраплены» в их взаимодействие с публикой.
— А это можно сделать «намеренно»?
Ну, еще со времен знаменитых работ Кассирера известна мысль о том, что политические мифы, например, не возникают спонтанно — философ утверждал, что они могут являться плодом усилий «умелых и ловких мастеров», которые создают их так же и в соответствии с теми же правилами, как любое другое современное оружие, будь то пулеметы или самолеты… Моя первая книга на эту тему вышла еще тринадцать лет назад, и тогда мне было важно посмотреть, как в политических технологиях (особенно выборных) оказываются задействованы самые разные константы культуры — от хорошо исследованных к тому времени мифа и ритуала до таких универсальных вещей, как время, пространство или текст. Однако архетип оказался более глобальным понятием, тем инвариантом, который способен глубже и объемнее объяснить многие загадки политического сознания и поведения. С ним «умелые мастера» политических коммуникаций тоже, конечно, активно работают, но чаще политик «проговаривается» посредством архетипа, выбирая те или иные выражения в речи или утверждая определенные сценарии собственных PR-акций. Дело в том, что политика ведь сама по себе тоже текст — «рекрутируя» в нее, в свои слова или действия, те или иные архетипические конструкции, каждый действующий политик формирует нечто вроде целостного повествования, создает особое «длинное высказывание», иногда очень протяженное во времени, которое нужно уметь прочитать. Способность адекватно воспринимать такое высказывание, понимать зашифрованные в нем древние коды человеческой культуры, с одной стороны, помогает увереннее чувствовать себя в мире политических ритуалов и символов, а с другой — служит своего рода «интеллектуальным противоядием» от разнообразных попыток манипулировать сознанием человека.
— Речь идет об архетипических образах — например, образе Героя, — которые политики так любят воспроизводить в своих имиджевых построениях?
Не только. Образ — самый, пожалуй, простой, даже «лобовой» вариант эксплуатации архетипа в политической коммуникации. Гораздо тоньше и интереснее политика работает с такими, скажем, вещами, как архетипическая метафора, архетипический запрет, архетипическая тайна… Когда начинаешь разбираться, почему тот или иной лидер в своей риторике так активно использует, например, метафорические сравнения с болезнью или смертью, становятся лучше «видны» его подлинные, скрытые верхними слоями политической корректности, взгляды на предмет разговора. Точно так же перестаешь изумляться, отчего столь популярны у некоторых сегментов молодежной аудитории акции движения «Наши», как только сумеешь разглядеть за их сценариями и структурой попытку повторить тайные ритуалы древних элевсинских мистерий… Слой за слоем снимая шелуху внешнего обрамления политических акций, добираешься до их скрытого смысла и начинаешь понимать, как устроены механизмы их влияния на человека — так проявляются, при правильном алгоритме действий, рисунки на детских переводных картинках.
— Прокремлевское молодежное движение «Наши» — и античная мистерия… Довольно неожиданное сочетание.
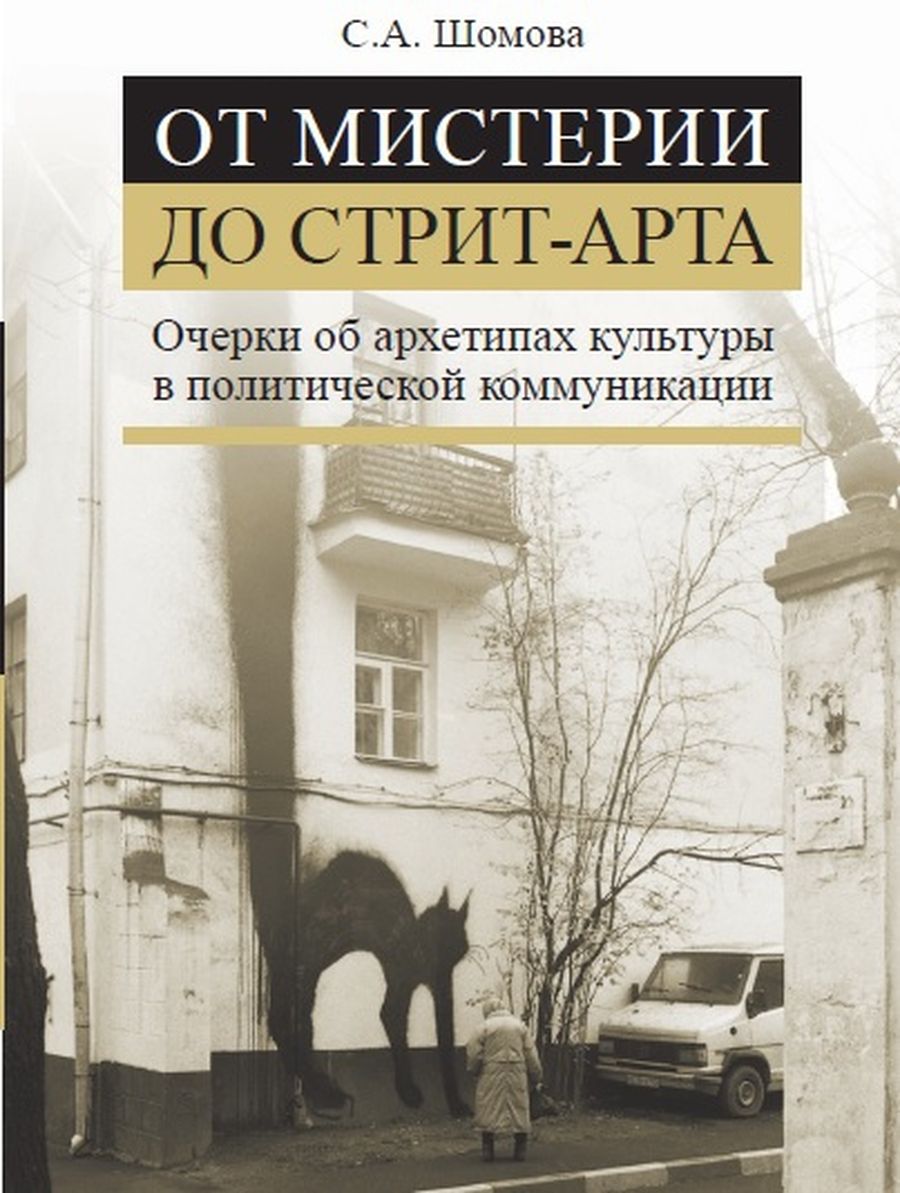
Не такое уж неожиданное. Мы очень мало знаем о древнеегипетских и древнегреческих мистериях, но суть их заключалась в посвящении избранного в тайное знание. Это был ритуал перехода из профанного мира в мир сакральный, и душа человека при этом должна была претерпеть определенные испытания. Мистериальные аллюзии «просвечивают» во многих церемониях возведения на трон или ритуалах тайных сообществ, хорошо известных историкам, этнографам, культурным антропологам; и обряды посвящения, практиковавшиеся движением «Наши» и описанные в российских СМИ, словно скалькированы с этих древних таинств. Молодых людей вывозили в лес, они должны были найти определённые сокровища и претерпеть испытания, о которых потом нельзя было никому рассказывать и которые призваны были сплотить «комиссаров», постепенно выковывая из них политическую элиту страны… Я интерпретирую это как намеренное соединение верно рассчитанного PR-хода с апелляцией к комплексу бессознательного: с одной стороны, молодежи нравится, что с ними играют в тайны и загадки, а с другой — в глубинах нашей коллективной культурной памяти «зашито» представление о том, что для достижения тех или иных высот необходимо пройти ритуальные испытания. Подобное «сплочение молодежи» становится возможным, приносит свои плоды, благодаря умелой отработке древних испытанных рецептов. Мы давно позабыли о них на сознательном уровне, но культура устроена так, что ничто и никогда не исчезает в ней целиком, бесследно — и подсознательно мы вновь и вновь ощущаем влияние ее глубинных образов и впечатлений. Другое дело, что — как и в случае с архетипическим сюжетом — эти вещи часто профанируются, «калька» снимается слишком грубо, и вместо выхода на новый уровень взаимопонимания с аудиторией политик добивается только ее разочарования и охлаждения. Но в каждом конкретном случае с этим приходится разбираться индивидуально.
— Одна из самых любопытных глав книги названа «Не только тотем» и посвящена взаимоотношению политиков с архетипом Зверя. Можно ли рассказать о нем подробнее?
Соглашусь с вами, эта тема действительно весьма любопытна. Механизмы самопрезентации политических лидеров с помощью образов животных являются весьма распространенными в истории культуры, но при этом на удивление мало исследованы. Полевой командир, рассказывающий журналистке о волчице, которая приходила к нему «за благословением», или же высокое «первое лицо» государства, дарящее коллеге по политическому полю редкого арабского скакуна, — случайны ли эти политические сюжеты или же они несут в себе определённые культурные смыслы? На мой взгляд, безусловно, последнее: оба политика, несмотря на огромную разницу в их статусе, используют, по сути, один и тот же месседж: они демонстрируют всем окружающим власть над миром природы, подчеркивая тем самым свою «избранность». «Архетипом зверя» отмечено огромное количество новостных поводов в информационной повестке дня: так, обыватели, с удовольствием читающие о диковинном зоопарке в резиденции бывшего президента Украины В. Януковича, вряд ли отдают себе отчет в том, что у этой истории богатая ассоциативная «подкладка»: в ней отразилась многовековая традиция европейских государей заводить при своих дворах зверинцы, выражающие идею власти и подчинения. А возмущаясь охотничьими забавами очередного российского губернатора, электорат, тем не менее, подсознательно вспоминает о «царской охоте» и способен интуитивно воспринимать его как лидера, устанавливающего в мире свои порядки (не случайно сцены охоты считаются историками одной из древнейших форм политической иконографии, известной еще по памятникам Месопотамии).
Уходя истоками в законы тотемизма, используя фольклорно-сказочные, геральдические и иные культурные ассоциации, подобные приемы самопрезентации наполнены многослойной символикой и потому любимы многими политическими лидерами. Весьма охотно использует их в своих коммуникативных стратегиях, например, В. Путин, воспроизводя в сознании аудитории образ Царя зверей или даже Повелителя тотема: за годы своей политической карьеры он входил в клетку к детенышу леопарда Грому, добывал гигантскую щуку, измерял от носа до хвоста белого медведя, кормил молоком лосенка, знакомился со снежным барсом — ирбисом, летал с журавлями-стерхами и т. д. и т. п.
— И умудрился заслужить тем самым немало иронических откликов в сети Интернет — вспомним хотя бы массу остроумных мемов, посвященных упомянутому полету со стерхами…
У мема с архетипом вообще способны складываться очень интересные отношения; интернет-мем «работает» с ведущими архетипами образа политика на тысячу разных ладов — «достраивает» их, дезавуирует, видоизменяет, полностью подменивает… Если остальные главы книжки, о которой мы говорим, представляют собой более или менее законченные очерки, то последняя глава, посвященная мему, не закончена, а абсолютно открыта. Мне удалось наметить лишь некоторые закономерности того, что происходит с архетипом в новых медиа (в частности, поразмыслить о том, что «спонтанность» отклика интернет-сообщества на те или иные политические события зачастую иллюзорна — мем, считающийся проявлением постфольклорных явлений, довольно часто оказывается плодом специально предпринятых усилий). Однако детальное осмысление новых медиа как творцов нового коллективного бессознательного, конечно, еще впереди.
— Если вы считаете выводы большинства глав окончательными и завершенными — значит, книга свою задачу выполнила?
Если считать, что эта задача заключалась в том, чтобы «зафиксировать» определенные технологии политической коммуникации последних лет — пожалуй, да. Книга, как мне кажется, вполне зримо показывает, каким образом происходит влияние на подсознание аудитории, как приводятся в движение скрытые пружины человеческого поведения. Но все в этом мире относительно. И я думаю, что, с одной стороны, монографию на эту тему можно дописывать хоть каждый день (наша жизнь и публичная политика в России то и дело подкидывают фабулы, достойные описания в архетипических терминах), а с другой — некоторые фрагменты работы, к сожалению, устарели еще до того, как рукопись увидела свет. Я начинала писать свою книгу четыре года назад, и с тех пор многое изменилось: сегодня на повестке дня, в первую очередь, не тенденции карнавализации политики, не забавные архетипы маски или тотемного дара, а значительно более серьезные и печальные вещи. Я бы сказала, что сюжеты, связанные с публичным сожжением еды или книг (даже не знаю, что хуже) или с «распятым мальчиком», навевают куда более трагические ассоциации, нежели реалии российской политики четырех-пятилетней давности. Архетипы войны, архетипы тени — вот что сегодня стало бы, пожалуй, главным содержанием такого исследования… Однако это уже совсем другая история.