Дом войны

«Война отчуждает дом Рождества — дом от Рождества — Рождество от дома. Рождество приходит в поле, на братскую могилу, к последнему обугленному кирпичу, в развороченный, стылый очаг» / Иллюстрации: Дарья Соломкина
В философском очерке судмедэксперт Ольга Фатеева рассуждает о концепции Дома, тайне рождения и неотвратимости смерти. Соединяя автофикшн и документалистику, писательница манифестирует радикальный отказ от восхвалений героев любых войн и потребность скрыться в убежище мечты.
Между Рождеством и Пасхой февраль, начало большого поста после масленичной недели, месяц зимних ветров, новых морозов перед поворотом на потепление и — навсегда теперь — месяц большой войны. После проживаний первых ужасов и страхов ко мне попросились мысли про Рождество, всегда далекое от меня, образовали текст, который приходил толчками, фрагментами — весь прошлый год, в нерождественские весенние и летние месяцы, немного отпустив и позволив забыть про него осенью, хотя все времена слились в одно. Не мыслимая в продолженности, война продолжается — мы пережили нынешнее Рождество и движемся к следующему, хотя вокруг застыл февраль.
Я вижу Рождество как дом, а дом наполнен всяким, дом одновременно книга, и он имеет раздвижные стены. Чтобы влюблять в себя и держать в себе, ему необязательно являться целым, дом может быть разрушен, и руины и пепельные останки задержат всю любовь. Чтобы это понять, мне пришлось взять в руки книгу Гастона Башляра, а до нее еще много других. Чтобы найти и там свое Рождество. Нахождение в книгах успокаивает и отдает надежду, это щедрость делиться надеждой из-под рассыпающейся обложки, которую читатель непременно вытянет в стороны, чтобы разворотить простор, и стены разъедутся экранным спецэффектом, и Рождество хлынет в признанное домашним пространство. Идите по городу, и вернетесь домой. И я иду. В метафорических домах моего города разбиты окна и нет стен, где искать спрятанное Рождество? — побудем — спасателями.
Про Рождество я вспомнила, когда вспомнила про Олю, она умерла утром в сочельник. Я не крещеная и принимаю любые религиозные праздники как дар для избавления и искупления, право приобщиться и возможность всеземного людского счастья во всех горях. Оля умерла в медпункте Ярославского вокзала. На столе лежала еще теплая, наш морг на Сухаревской, в центре Москвы, и восковая. Странно говорить про мертвое тело мертвенно бледная, но она была именно такая, неестественно белая, восковидная, белее китайских фарфоровых кукол. Волосы свисали со стола, руки разметались, глаза смотрели строго вверх, в высокий потолок с лепниной по периметру. В сползшем на ягодицу с одной стороны светлом свитере, из-под куртки на минуту чудится голая кожа. У Оли нечастое заболевание — аневризма селезеночной артерии: источенные стенки сосуда раздулись мешком и порвались от необычайной тонкости, неспособные скачать кровь, из живота мы вычерпали два с половиной литра.
Получать документы и оформлять похороны, которые теперь уже должны были состояться после Рождества — в праздник морг, кладбище и МФЦ не работают, как будто в праздник никто не умирает и даже, кроме одного вечнорожденного, не родится, а только почему-то болеют — пришла молодая, как Оля, которой было тридцать три, женщина. Она попросила объяснить причину смерти, и я отвечаю вопросом на вопрос, есть ли у Оли дети. Трое, близнецы и еще один. Оля ехала с ними и с мужем к бабушкам и дедушкам на праздник, не доехали, теперь бабушки — дедушки едут в Москву.
Башляр не пишет про Рождество, но пишет про Дома с чердаками и подвалами, хижины, углы, раковины, ящики, сундуки, маленькое и большое, где все большое внутреннее, потаенное и сокровенное, невместимое по силе образа и многих мечтаний, умещается в любом маленьком наружном, и это Рождество и есть, которое всегда тебя больше и которое всегда в тебе. Я задаю слово для поиска в электронной книге, а потом решаю искать через корень, отсекаю суффикс, не думаю о возможных приставках, забываю про окончания. Как будто держу между пальцами кусок воды в Майнкрафте, игре — песочнице, где все в бытии составлено из кубических блоков. Наверняка многие ответы пропущены, но даже тех результатов, которые выдает сервис для чтения, мне хватит: рождение образа, возрождаться, порождение сердца, зарождение феномена, врожденное слияние, прирожденные феноменологи, рожденный воображением, рождение стихии, грозы, рождаются ветры, рождаемся мы, рождаемся снова, порождающий гипотезы и мечты, рождается доверие / человек из камня / воображаемые существа / цвета раковины / ум / звук / движение / наклонность, силы рождения, возрожденные из пепла, и снова образ — конфликт, перерождение. Дом в воспоминаниях безупречен в разрушенности, оставленный, одинокий, чахлый и забытый. И Рождество, случившееся до самого себя, повторяет и несет контуры безупречности, собирая счастья, страдания и смерть.
Я малодушно верю в Рождение — потому что это начало, и, несмотря на известный конец, история только разворачивается: праздник прихода в мир любого, кто умрет, — а ведь умер даже тот, кто живет вечно, вынужденный возвращаться и повторять все заново, — это праздник безвременья, подарочной остановки, как три дня в роддоме перед выпиской, когда событие случилось, а в непрерывном действии обнаружилась дыра, где мать с ребенком незаметны для большого мира и могут наслаждаться друг другом, не отвлекаясь на бытовые подробности.
Иду домой, на улице Судакова два желтых пятиэтажных дома рядом. В торцах двойные двустворчатые двери и пустые балконы, на которых всегда никого нет, а за стеклами и серыми рейками понизу уходящая вглубь темнота бликов. Общежития, написано над крыльцами, а это общие балконы, коридорная система. К Рождеству у одного заплакали стены: потекли ржавым, бурым, оранжевые люди со страховками на крыше, оранжевые люди на мокрой черной земле, с которой снег смылся, через запотевшие окна пробивается свет, качается между двухъярусными кроватями. Кажется, зайти, и духота примет тебя, обоймет развешанной, не сохнущей стиркой и картошечным варевом. Иди на свет — иду, это и мое общежитие тоже, во всех смыслах: в буквальном — совместные годы филологии и медицины, институты, и в метафизическом — каждому его общежитие, общее житие. Отраженная двойственность — в двух домах, удвоенных дверях и их двойной створчатости: это дихотомия большого и маленького, наружного и внутреннего, земного и чудесного, духовного и физического, которую мне хотелось бы прекратить и свести вместе. В каждом доме есть свет.
Свет описывает Ольга Седакова, читая тропарь Христова Рождества (даю в ее дословном переводе): развитие, или лучше, постепенное превращение и обращение образа в самое себя: свет разума через учение звезд ведет к звезде известия, предвосхитившей солнце и его восход, то есть рождение. Седакова называет этот прием «извитием образа» по аналогии с «извитием словес», «одной из техник литургического песнопения», примеры здесь же: это «страсти бесстрастные» и «Невеста неневестная».
Рождение Твое, Христос Бог наш,
засветило для мира свет знания (понимания),
ведь при нем (т. е. при этом свете) те, кто почитал звезды,
от звезды научились
поклониться Тебе, Солнцу праведности (справедливости)
и познать, что Ты — Восход свыше.
Свет единственно организует текст — рождественского тропаря, другого стиха, другой песни или истории, — и эта зимняя, заснеженная экономия богата, ибо расцветает вязью по всем окнам и створкам, дверцам, пещерам и поверхностям. Заснеженность пришла в текст с картины Брейгеля «Поклонение волхвов в снегу», где снежные комки буквально насыпаны поверх спрятанных в углу тихих родителей с младенцем и со зверями, изогнутого каравана людей, погруженных в повседневность, и разрушенного замка.

Изогнутость, извивается, изгиб, река, ручей, струйка воды из-под двери ванной, поклоненная толпа, и те же люди, ждущие крови. В Рождестве всегда есть кровь, она материнская, и она как будто в залог будущих страданий, вместо них, но всегда впустую, остается нетронута.
Ольга Седакова продолжает мысль об извитии образа в извитие мысли, находящееся в кондаке Рождества. Я благодарна своему письму за возможность читать комментарии Седаковой, рассматривать репродукцию Брейгеля и за попытки понять разницу между тропарем и кондаком, новыми словами, заговаривающими текст. Рождество, как бесконечный Дом для всех гостей, впускает и меня, без церкви самозванку. Сразу понимаю, что это слишком самонадеянное утверждение, и прячусь обратно в текст, где все разрешено и можно.
Можно продолжать думать про Олю. (Оль скопилось три: мой нечаянный персонаж, я сохранила ее настоящее имя в смерти — прощаться не решаюсь с вымышленными, мало ли кого еще вдумаешь, и отправится человек переделанный и не свой; поэтесса, пишущая о поэтике литургических песнопений; и я, собравшая нас всех.) Аневризма селезеночной артерии может развиться при многоплодной беременности на поздних сроках, когда растущая, большая, громоздкая матка выдавливает все лишние органы из живота, строя дом, облепляя младенца, как раковина, теплыми стенками. Долбящаяся в сосуды с лишними, чрезвычайными усилиями кровь расширяет себе протоки, они-то и рвутся, чудо переходит к смерти.
Мысль чуда уже была, мелькала, высунулась, неназванная, но подразумеваемая, и осталась в положенном ей исследовании — в книге Ольги Седаковой. «Извитие мысли» — про чудо рождения Божьего сына:
«Мысль» здесь одна: происходит нечто неимоверное, невозможное. Эту неимоверность выражает соединение несоединимых слов и понятий: Девица — рождает; рождает Того, кто и до рождения есть; сегодня впервые является — то, что было прежде времени… Венец этих совместившихся несовместимостей — последняя строка, именующая новорожденного Христа: «малое Дитя, предвечный Бог».
Это изложение кондака Рождества Христова, его тоже даю в дословном переводе Седаковой (из книги «Мариины слезы. К поэтике литургических песнопений»).
Девица сегодня рождает Того, кто существует до времени,
и земля приносит в дар пещеру Тому, к кому нельзя подступиться,
Ангелы с пастухами поют хвалы,
а волхвы со звездой̆ совершают путь,
ибо ради нас родился
малое Дитя, предвечный̆ Бог.
Палочка закрутилась, полетела, упала, перевернулась через себя, и вот к нам распрямился целиком пергаментный свиток, а на нем буквы и слова, пой их. Кондак — это палочка. Рот откроешь, сразу снежинки залетают, Брейгелю привет. Снежинки надо ловить аккуратно, не проглатывать, теплом не обдавать, кристаллическую решетку не портить — они пригодятся для других картин, присыпать, красному волу в небе над деревней точно не помешают.
Снег бывает разновременный. Весенний снег вроде не к месту, раздражает, но никуда не денешься, и Рождества не будет. Или теперь уж точно будет. Олины дети куксятся на весенний снег, хочется скинуть пуховики и шапки, гулять до поздней одури, до хриплых окриков. Старшие играют в Майнкрафт, голова к голове, как будто слитые, на весь год здесь уходит триста шестьдесят пять часов, и снег, как и вода, кубами. Это папа специальный мод для них скачал, чтобы сезоны менялись. В Майнкрафте снег, за окном снег. Загребаю горстями, посыпаю коллекцию рождественских картин, в Рождество все дома засыпаны снегом, и мой тоже.
У красного вола вырастает снежная челка, снег обрамил звездную ночь и рыже-красную, кирпичную — из кирпичей строят дом — землю, на которой сами в позах эмбриона вокруг младенца сгрудились двое неопределенного пола и возраста, их фигуры разделены надвое младенческим светом, и снежинки не ложатся на свет, тают. А вот Брейгель дожил до наших дней, осовременился, но все равно он, в снопах и разноцветных крутящихся звездах на палочках — кондак тоже палочка, только для пергамента — лица круглые, глазастые, домики крыты снежными пластами, дети с санками, кто с мешками, кто с кудрявыми, теплыми овцами.
Марк Шагал, «Рождество». Петр Конников, «Рождество». Людмила Тайфийчук, «Рождество» — картины с одинаковыми названиями, их легко найти в Яндексе и посмотреть репродукции.
В Майнкрафте отцвела весна, листья сменили цвет к осени — за окном снег.
***
Снег поднимается вверх с мертвого лица, ледяная кровавая корка в углу рта, землей присыпало, мертвые волосы в снегу, военная форма задубела на морозе, вывихнутая кзади рука держится в рукаве. Окопы, окопы, человеческий пар вырывается по-над землей, винтовка стоит, опершись на приклад, отверстие забито снегом. Это универсальная картина любой войны. Я смотрю фотографии в Википедии: деревянный крест, на котором процарапаны/выжжены годы «1914–1999», и между ними срок в восемьдесят пять лет. За крестом поле, фотография плохого качества, и при большом увеличении я все равно не могу понять, что на нем. Мне видятся сухие, жухлые травы, солома, может, кукуруза после того, как сняли урожай, а за полем ряд низких строений с покатыми серыми крышами, и эта умиротворяющая картина вызывает в памяти забытые слова вроде гумна и скирд, не вполне сюда подходящих. Крест поставлен возле Ипра, города в Бельгии с населением в сорок тысяч человек, города, давшего название боевому отравляющему веществу, в честь годовщины Рождественского перемирия во время Первой мировой войны. Фотография с крестом цветная, яркая: небольшая площадка вокруг засыпана чем-то красным и синим — в Москве на зиму яркими, раскрашенными опилками засыпают клумбы, — красный венок.

Листаю дальше: на старых, затертых кадрах трости, на которые опираются солдаты и офицеры, как будто деревянные протезы, вот еще один — косой выбеленный блик на сапоге, нога отставлена в сторону, герой съемки спиной вполоборота. Вглядываюсь в черно-белые кадры на мониторе с лупой — все целы, все живы и, видимо, здоровы, по крайней мере те, кто заснят. Руки в карманах, стоят группами, улыбаются, черно-белое не передает различий в цветах обмундирования, присматриваюсь к крою: длина, разрезанная шлица сзади, однобортная, хлястик, обшлага. Шлемы, которые кажутся смешными, похожи на девичьи шляпы с узкими полями, на тульях ленты, пальто с поясом, ботинки на шнуровке, локоны — школьницы с цветами у раскрытой солдатской могилы. Чудо мира посреди смерти, крови, страха и боли. Коробки с шарами в окопах, посылки от родных и наряженные тощие, низкие елки, поднятые над головами вместо белых флагов.
Гугл после статьи в Википедии выбрасывает ссылку на клип группы Sabaton, про них написано, что это шведская хэви-пауэр-метал группа, что бы это ни значило, основной темой творчества которой являются войны, сражения, их герои и подвиги. Весь последний альбом группы посвящен событиям Первой мировой войны, отдельная песня про Christmas Truce, тот самый сочельник 1914 года. Внутри агрессивной героики мне тошно, ломается симметрия пространства и тела, симметрия дома, но этот слом работает, наоборот, на утверждение войны как глобального способа взаимодействия, на установление насилия, поскольку любой слом от противного требует усиления подавляющей реакции; повсеместная окружающая милитаризация разных сфер жизни пугает меня, так что я готова радикально отказаться от восхвалений героев любых войн, даже праведных и отечественных. Перехожу каскадом по ссылкам — группа Sabaton популярна в разных странах и в России, много гастролирует и для каждого выступления подбирает репертуар с национальным колоритом. В комментариях под клипами в YouTube возгласы на русском: «Шведы, молодцы! Знают русскую историю лучше самих русских!» — меня передергивает, во рту копится вязкая слюна, которую не выплюнуть. Видео про перемирие и братание солдат воюющих армий на Рождество я смотрю без звука, скрупулезная, приближенная картинка, мундиры врагов имеют цвет.
В Милане в 2014 году прошла фотовыставка, где были представлены неопубликованные кадры из английских, немецких и французских архивов. Вот подобие кольчуги, которую солдаты надевали под форму, чтобы уберечься от пуль. Вот летчик держит бомбу в руке, чтобы сбросить. Стол заполнен связками колбас, присланными к празднику. Один солдат помогает прикурить другому. Футбольный матч, азарт, в разных позах приподнятые ноги, закинутые кверху руки, мужчины без верхнего платья, свитера, засвеченные пятна поверх лиц, сгруппированные неестественным образом — а это, если вглядеться, на самом деле зажженные свечи на елке. Елка тонкая, редкие ветви смотрят в стороны. И рядом свежие холмы, кресты, могилы. Ветер или широкий, торопливый шаг раздувает полы длинной одежды военного капеллана, он идет среди тел. Одного нет на этих фотографиях. Момента, импульса, робкого и одновременно твердого побуждения, когда страшно, а ты встаешь, первым, с непокрытой головой, поднимаешься над окопом, вырастаешь в прицеле с противоположной стороны. Стой, не стреляй, безоружный. После первого будут еще, другие, следующие, но самый первый — снова живой, снова встает, снова протягивает руки пожать и обняться через линию фронта, шире всей нейтральной полосы. Можно остановить видео и продвигаться вперед по кадрам, запоминая рождественское чудо.
В него легче верится, чем в другое большое, и главное — в воскресение, — потому что никакого чуда и нет — есть матери и дети, и они будут, пока не убьют нас.
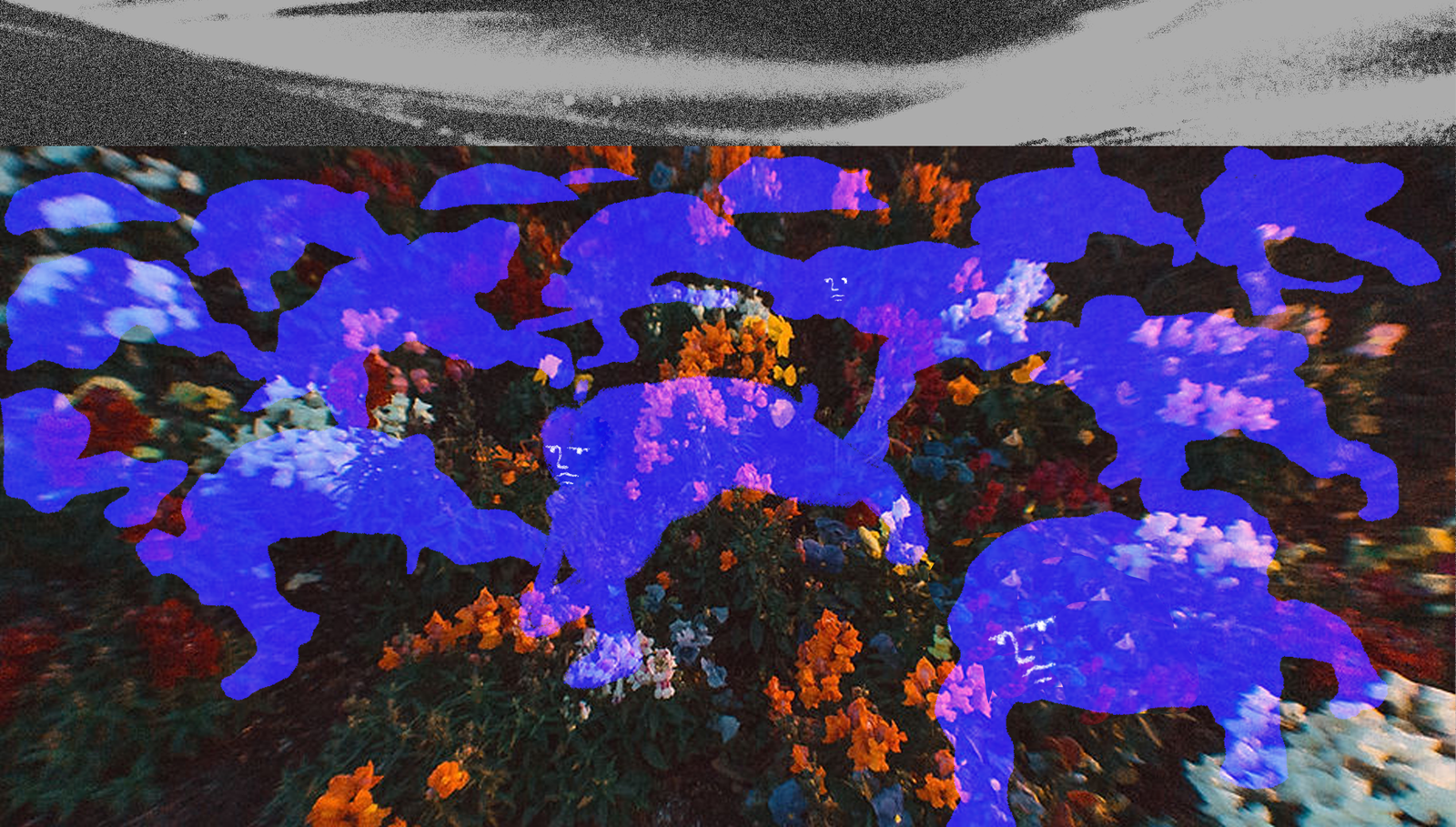
Война отчуждает дом Рождества — дом от Рождества — Рождество от дома. Рождество приходит в поле, на братскую могилу, к последнему обугленному кирпичу, в развороченный, стылый очаг. Иду домой, на дороге, где нельзя стоять, припаркован битый, когда-то белый, теперь с грязной, в потеках, крышей лимузин, через окна на передних сиденьях видна набросанная ветошь, скомканные газеты. Здесь тоже будет Рождество. Башляр называет свою книгу проявлением топофилии, поскольку пишет о местах и пространствах, которые любимы, которыми восхищаются. Любовь дает таким человеческим пространствам обжитость, значит — ценность, которая рождается по законам поэзии и воображения и обороняет исследуемые пространства «от враждебных сил», взаимно наделяя их воистину безграничными свойствами защиты. Башляровский мечтатель силой грез рождает образы, превосходящие чувственный опыт, преодолевающие сходства и различия естественных форм, рождаемые «по ту сторону видимого и осязаемого», и это грезы об убежище.
«Дома мечты» принимают разные обличья — компьютерной игры, забытого лимузина, общежития, неба, вокзала, креста, кукурузного поля, книги, фотографии, картины. Воображение дорисовывает описание, выдавая его за реальное.
Башляр приводит пример из сборника наставлений для юного рыцаря: «„Ее можно было принять за палатку с веревками и колышками“. И он [автор] не упускает случая сказать, что из этих миниатюрных веревок изготавливали ткани». Речь идет о раковине мидии, прикрепленной к камням: из прочного белкового вещества, за счет которого раковина как раз и крепится, когда-то делали пряжу. В этом примере все безупречно: работа фантазии, уводящая нас далеко от привычного символа, и банальность надоевшего представления раковины как дома, который всегда с тобой.
Так же потрепано и обобщено Рождество и обязательно ожидаемое от него чудо, и они нуждаются в возвращении наивной искренности. Всегда искренна смерть, ей нет нужды притворяться и кочевряжиться, она всегда здесь и невыносимо пошла, стерта, тривиальна, но защищена своей глубиной, а может, наоборот, простотой и однозначностью. Это роднит ее с противоположностью рождения, позволяя доставать элементарные, обыденные, заурядные образы и оживлять их, находя убежище. Неотвратимость смерти и Рождества, которое придет к Олиным детям, к напрасно, нелепо погибшим воинам в Первую мировую и в любые другие войны — война обессмысливается в веках, — необратимость повторения утешает своей беспримесной жестокостью. Рождество оживет и накроет нас, и везде наступит дом, который уже всегда есть, просто достаньте с «неистребимой свалки, где человеческое воображение держит старый хлам», как советует Гастон Башляр, почистите, вымойте, и обновленная искренняя наивность осияет вас.
Я почти не ем хлеба, хлеб может показаться скучным, но, бывает, отломишь корку свежего с мякишем, где-нибудь в неподходящем месте, на работе например, зайдешь в столовую воды выпить, а вместо этого хлеб. Держишь, рот напитывается кислотой, хочется пить, но не пьешь — сохраняя тягучий, обволакивающий привкус, внося дом внутрь себя, — наивно, искренне, каждый раз внезапно снова веря.
А там можно и Пасху ждать, и думать обо всей жизни целиком, состоявшейся, протяженной, просить прощения, прощаться и прощать себя. И гнать февраль.













