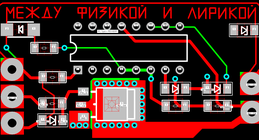Траектория блуждающих

Иллюстрации к роману Аскара и Исаака нарисовала Анна Колмыкова / Дискурс
Спустя пять лет титанической работы вундеркинд Исаак Мустопуло, лично общавшийся со Стивеном Хокингом, и казахстанский детский писатель Аскар Мукаев дебютируют в Дискурсе с научно-фантастическим романом-утопией «Траектория блуждающих» — увлекательной трёхсотстраничной энциклопедией знаний о мировой культуре и науке с сюжетом об учёных, пытающихся разгадать Теорию всего, попутно расследуя цепь загадочных убийств.
«Траектория блуждающих» — это многоплановая гипертекстуальная детективная история в духе Агаты Кристи и Конан Дойла, полная отсылок к философии, политологии, экономике, религиям, психоанализу, современной и классической русской и зарубежной литературе, популярной культуре, обычаям и кухне народов мира, в которые вплетены объяснения сложных научных концепций — возможности существования мультивселенной, особенностей работы квантового компьютера, Теории относительности и квантового бессмертия, рождения звёзд и жизни бактерий. Закладывая фундамент для целой фантастической литературной вселенной, авторы размышляют об устройстве жизни на Земле и возможности существования альтернативных миров, которые могут влиять на наш, и, как следствие, вопросах релевантности детерминизма и существования свободы воли.
Многомерный сюжет романа, в калейдоскопе которого каждая деталь имеет обоснование, начинается в разгар грядущего экономического кризиса, вызванного эпидемией, когда американский профессор философии приезжает к своему другу, физику с мировым именем, чтобы помочь тому разработать теорию, которая может сделать людей всемогущими. В истории о будущем, имеющей утопические нотки, писатели отразили мечты о стремительном развитии науки в Казахстане через образ Кремниевой степи, аналога американской Кремниевой долины, где в вымышленном казахстанском технологическом университете «Нуртех» ученые бьются над созданием перерабатывающих уран бактерий и квантового компьютера, предсказывающего развитие событий нашей реальности в альтернативных вселенных.
I. Все, что ни делается, — к лучшему
Господь не только играет в кости,
но к тому же порой забрасывает их туда,
где мы не можем их не увидеть
Стивен Хокинг
Когда все было закончено, решено, обговорено и принято к сведению, неутомимый труженик ликосианской науки Крайос торопливо занес над все ещё спящим, пребывающим в добровольном анабиозе, Джоном Мак-Гаффином телепортационный прибор, не имеющий земных аналогов, и с трепетом нажал на заветную кнопку, на которую заранее предусмотрительно показал Джон. Он должен был появиться на Антиземле в определенный, рассчитанный им момент времени и заменить Антиджона, ведь теперь они оба состоят из античастиц, а антиматерия не терпит веществ из абсолютно одинаковых антипротонов, антинейтронов и позитронов. Кто-то из них исчезнет, навсегда обратится в небытие, отделяющее настоящее бытие от иллюзорности, ощущение присутствия в мире от реального отсутствия. Если повезет, Джон из утерянной временной линии, ненужный никому отныне Джон, обретет новую жизнь, найдет себя среди бесчисленного множества галактик, скоплений звезд, вселенных, где, однако, нет места для выбывших из хронологии. Но это произойдет лишь в одном случае: если гипотеза верна, математические расчеты точны, если Крайос прав; провидению, Богу или иному воплощению вселенского разума было угодно, чтобы замысел Джона оказался вполне осуществимым, даже если девяносто девять шансов из ста стремятся к нулю.
***
Вслед за звонком, который с математической точностью периодически напоминал шумно говорившим в аудитории, походившей на амфитеатр, студентам о том, что скоро начнется полуторачасовое занятие, последовала длинная лекция профессора Габриэля Кортеса. Все уселись за рабочие места, возвышавшиеся одно над другим, — это позволяло сидевшим в последних рядах хорошо видеть и слышать преподавателя, — и с завидным для посторонних глаз удовольствием принялись слушать. Кортес говорил много, часто прибегая к риторическим вопросам и остроумным фразам, с душой и знанием дела, изредка вглядываясь в сонные, но одновременно чрезвычайно заинтересованные лекцией лица юных людей. Монолог профессора философии касался онтологических моментов в мифологической концепции мезоамериканских народов, вернее, самых истоков истории формирования онтологии майя, ацтеков и инков, чей неспешный ход был прерван вторжением незваных чужеземцев.
Большие пластиковые окна с висящими на них жалюзи делали аудиторию-амфитеатр просторной и светлой, что создавало иллюзию пребывания в величественном храме науки; профессору такое сравнение вполне бы польстило, порадовало его и умилило. Стены, имевшие бледно-зеленый цвет, были украшены портретами великих философов в ярких рамках: бессребреник Сократ, сопоставлявший искусство философствования путем построения дедуктивной цепи умозаключений с мастерством повитухи, соседствовал с почитавшимся профессором грузинским любителем мудрости Мерабом Мамардашвили, как-то справедливо заявившим, что философия помогает определить пределы познаваемости мира; компанию обоим корифеям составили Эммануил Кант, Бенедикт Спиноза, Рене Декарт, Григорий Сковорода и Абай Кунанбаев; отсутствие на стенах аудитории не менее значимых мыслителей мирового масштаба объяснялось элементарным дефицитом места для их портретов. На подоконниках и шкафах стояли живые цветы, а в большом горшке на полу, рядом со шкафами, красовалась высоченная пальма: столь экзотичный для учебного заведения объект присутствовал в аудитории исключительно ввиду экстравагантных вкусов декана; он насаждал свое специфическое пристрастие к ботанике каждому преподавателю университета, сопровождая монотонные монологи о важности обращения человечества к экологической тематике ввиду явных признаков мести природы человеческому виду своей излюбленной цитатой: «Матушка-природа ответила нам эпидемией коронавируса и глобальным потеплением, и только растения могут вернуть её прежнее благоволение к нам».
— Ну, мои дорогие друзья, сегодня мы поговорим о философии майя. У них не было науки в привычном для нас понимании. Причудливым образом она была переплетена с религией и нумерологией. Из тысяч книг майя до нас дошли только четыре, и все они имеют религиозное содержание: «Дрезденский кодекс», «Кодекс Гролье», «Мадридский кодекс», «Парижский кодекс». Эти четыре книги были написаны на аматле, аналоге папируса и пергамента, материалом для которого послужило южноамериканское растение амате. Но, тем не менее, сегодня мы имеем пусть приблизительное, но в меру верное представление об их философии. Чтобы вам стала понятна глубина философии майя, достаточно сказать, что, например, нуль для них, в отличие от представлений просвещенных европейцев, был не пустотой, не онтологической категорией «ничто», как говорил Гегель, «второй дефиницией абсолюта», а началом нового, ведь он изображался в виде раковины. Известно, что улитки рождаются с раковиной, которая растет вместе с ними. В этой связи ясно, почему для изображения нуля использовался именно наружный скелет моллюска.
— Профессор, — произнесла, подняв руку, студентка Паулина, которую Габриэль Кортес как-то прилюдно назвал «жемчужиной второго курса», — если позволите, я расскажу легенду, которая демонстрирует самобытность представлений майя.
Паулина, высокая рыжеволосая девушка с зелеными глазами, любила обратить внимание публики на себя; обладая недюжинной эрудицией, искренне увлекаясь вдумчивым чтением классиков мировой философской мысли, ежемгновенно находясь в позиции мыслящего созерцателя, Паулина, словно придерживаясь известного принципа «Utile cum dulci» («Приятное с полезным»), была не прочь блеснуть интеллектом в меркантилистских целях. Когда она говорила, все, кто присутствовал рядом, замолкали, приготовившись внимать всякому её речению; каждый смаковал любое сказанное Паулиной слово, тщетно желая продлить настоящее, ограниченное по мнению нейробиологов тремя минутами, силясь прочувствовать образы, вдохновленные возвышенной речью девушки.
Кортес сделал еле заметный, но ощутимый боковым зрением Паулины кивок в знак согласия с девушкой; профессор принадлежал к ряду благородных преподавателей, уже успевших стать благодаря своей сноровке идолами студентов американских университетов и настолько отрицательно относившихся к харассменту в образовательной среде, что в присутствии молодежи подобные люди не потерпели бы даже вполне пристойных шуток о флирте между разновозрастными лицами.
— Один индеец всю жизнь хотел стать счастливым. Он пришел за помощью к филину, у которого в тот час гостили орел, ягуар, пампасный олень, лис, белка, оцелот, змея и соловей. Животные решили одарить человека всем, чем обладали они сами. Орел дал человеку красоту, ягуар — силу, лис — хитрость, белка — ловкость, оцелот — острое зрение. Змея научила человека отличать целебные травы от вредных. А соловей пообещал предупреждать о ливнях и бурях звуками своей песни. Человек ушел. Он пользовался дарами зверей, но счастья они ему не принесли. Звери же очень скоро пожалели, что сделали человека могущественным. Ибо такое сочетание качеств страшит и повергает в ужас: могущественный и несчастный.
— Или ещё один пример, — подхватил струю разговора студент Ник Адамс, полный юноша-афроамериканец с шевелюрой на голове. — Профессор Кортес, наверняка, читал стихи ацтеков. Они чем-то напоминают японскую поэзию. Помню такое стихотворение:
«В сердце рождаются и прорастают
Из плоти нашей цветы.
Если иным и дано раскрыться,
То лишь затем, чтобы увянуть вскоре».
— Точиуицин Сакатимальцин, «ткущий узоры», как он себя называл. Вот какой возвышенной душой обладали мезоамериканцы, — сказал, улыбаясь, Кортес. — Какая поистине шекспировская трагедия заключена в этих небольших четырех строках, вечная трагедия человеческой души, могущественной, но несчастной. Сравните их со стандартным японским хокку:
«Жадно пьет нектар
Бабочка-однодневка.
Осенний вечер».
— Чувствуете сходство? — спросил Кортес. — Две самобытные культуры родили столь похожих и одновременно разных поэтов. Мацуо Басе, автор этого хокку, подчеркивает ценность нашей бренной жизни. Бабочки-однодневки, как и следует из названия их вида, живут лишь один день, именно поэтому они пьют нектар жадно, не будучи в состоянии полностью удовлетвориться сладостью считанных мгновений. Люди недалеко ушли от однодневок, ибо их среднестатистические семьдесят-восемьдесят лет — тот же ненамного превосходящий по длине день. Упоминание о текущем сезоне — осени — лишь усиливает печаль автора, ибо жизнь наша подобна сопровождаемой ливнем и грязью предзимней поре. Как и Точиуицин Сакатимальцин, Мацуо Басе искусно ткет узоры светлой печали в ознаменование неизбежного увядания цветов человеческой души.
— Профессор, можно еще? — поднял руку Джереми, студент, приехавший из Калифорнии. Худощавый Джереми, хорошо игравший в баскетбол, не славился развитым интеллектом, но Кортес, зная, что первые впечатления могут быть обманчивыми, приложил массу усилий, чтобы все таланты Джереми расцвели пышными цветами.
— Я читал поэта Несауалькойотля. Он не был ни ацтеком, ни майя, я забыл, к какому народу он относился…
— Акольхуа, — подсказал Кортес, — союзники ацтеков. ещё до прихода испанцев ассимилировались с ними и растворились среди народов Тройственного Союза.
— Да, наверно… Я не очень хорошо знаю историю мезоамериканских народов, профессор Кортес.… Но я помню его стихи, они мне очень понравились.
«Нефритовые бусы
Рассыплются когда-то,
И золото исчезнет,
Исчезнет как вода.
Перо квезаля ломкое
Так тонко, так воздушно.
Нет, небо, я не верю,
Что мир не навсегда».
— Замечательно, Джереми. Как я рад, что ты оценил красоту мезоамериканской поэзии. Западная культура величественней, это показала история. И задолго до зарождения мезоамериканской цивилизации в Евразии уже были шумерская, греческая, египетская культуры. Цивилизация мезоамериканцев проиграла испанцам большую часть военных сражений, уступив место европейским завоевателям, но даже по дошедшим до нас фрагментам рукописей тамошних писателей, крупицам растерянных алмазов, видно, что их культура глубже западной. Появившись на три тысячи лет позже шумеров, в первом тысячелетии до нашей эры, — говорил живо, сверкая глазами, Кортес, — отцы мезоамериканской цивилизации ольмеки, шумеры Нового Света, дали древней Америке истоки письменности, урбанизации, мифологии, философии, астрономии и литературы. Только представьте себе, когда в Иудее родился Иисус, в это же время в Мезоамерике строились первые города и пробовали перо ранние писатели Нового Света. Да, они отставали от евразийских народов на тысячу лет, а может и больше, ведь Иерихон уже тогда считался древним городом, а до Гомера так и не дорос ни один мезоамериканский поэт. Но будем справедливы: не имея перед собой пример для подражания, ольмеки двигались вперед семимильными шагами. Рождению шумерской цивилизации способствовали плодородие почвы, удобной для земледелия и скотоводства, богатые залежи меди и засухи, в борьбе с которыми шумеры приобретали высокую цивилизованность. Культура ольмеков рождалась в сходных условиях. Плодородие почв, создаваемое приливами реки Коацакоалькос, мезоамериканского Евфрата, растения, способные давать нужные для жизни витамины, залежи меди, которая здесь применялась меньше, чем в Старом Свете, все эти факторы обусловили возникновение мезоамериканской цивилизации. Да, мои дорогие друзья, той самой цивилизации, что подарила нам прекрасные поэтико-философские трактаты Несауалькойотля, вполне достойные пера Аристотеля.
— Профессор Кортес, — сказала Паулина, — извините, что перебиваю, но я вспомнила, что инки раньше Эйнштейна, Минковского и Пуанкаре додумались до гипотезы пространственно-временного континуума. Они называли его «пача» и считали, что пространство-время бесконечно. Когда испанские священники говорили им о скором конце света, инки отвечали: «Пача не может иметь конца».
— Великолепно, Паулина, — сказал, хлопая в ладоши, Габриэль Кортес. — И разве можно после всего этого говорить, что у мезоамериканцев была отсталая культура?
Получив в ответ восторженные аплодисменты второкурсников, которым подобные занятия заменяли телевизионные интеллектуальные шоу, профессор Кортес, живущий в Соединенных Штатах латиноамериканец, чьей слабостью был пиетет перед философией мезоамериканцев, продолжил знакомить студентов с достижениями аборигенов Южной Америки. Студенты, горячо любившие живые лекции Кортеса, который благодаря ораторскому дару и искренней увлеченности тематикой бесед выгодно выделялся на фоне неразговорчивых, имеющих страсть к подглядыванию в шпаргалки преподавателей, усердно записывали самые важные фрагменты в свои тетради и планшеты.
— На сегодня лекция закончена. К следующему занятию прочитайте труд Мигеля Леон-Портилья «Философия нагуа. Исследование источников». Автор этой книги один из первых обратил внимание на наличие белых пятен в мировой философии. Без этой работы мы бы не знали о важном философском пласте мезоамериканской культуры. Выше названный Несауалькойотль был не только поэтом, но и тлатоани — правителем акольхуа. Мало кому из рядовых читателей известно, что он был ещё и тламатини — философом, мезоамериканским Сократом, создавшим местную философскую школу, из которой вышел другой выдающийся тламатини Тлакаелель, брат и советник императора ацтеков Монтесумы Первого. Жду от вас эссе о философии и поэзии Несауалькойотля, не менее пяти страниц. На сегодня все. — Габриэль обычным жестом — взмахом левой руки, в закрытой ладони которой будто притаилась дирижерская палочка, — закончил лекцию и положил свой планшет с загруженными в него конспектами лекций в экосумку — модный в свете происходящих с планетой катаклизмов аксессуар.
В лекционной поднялся шум — обычный для университетской среды, — шум, присущий веселым, умным, дышащим бодростью, свежестью и энергией прилива молодости людям; душа человека в этом возрасте бурлит от будоражащих её идей, хочет подвигов, протеста и понимания; это про таких людей политик Уинстон Черчилль сказал: «Если к двадцати годам вы не были левым, значит, у вас нет сердца. Если к тридцати годам вы не стали консерватором, значит, у вас нет разума». Сто двадцать студентов, целый поток второкурсников, будущих философов, с неизменным, присущим только им, безудержным гвалтом вышли из светлой и просторной аудитории-амфитеатра, имевшей высокий потолок; вторым героем дня, помимо профессора Кортеса, была, естественно, Паулина, которая, не скрывая удовольствия, с жадностью нарцисса ловила восхищенные взгляды мужской половины курса. Полтора часа интересного, но вместе с тем и изнуряющего занятия утомили не только студентов, но и самого Габриэля; пот с него струился градом, при этом следовало учитывать нестерпимую жару на улице, вопреки защите кондиционеров беспрепятственно атаковавшую коридоры университета. Каждая лекция давалась ему все труднее, несмотря на волны, привнесенные в душу солитонами энергетического цунами; студенты воздействовали на него как зарядное устройство, заряжающее аккумулятор внутри его разгоряченного блужданием мыслей мозга; когда лекция заканчивалась, аккумулятор садился, и требовался новый источник энергии — горячительное. В голосе преподавателя уже не было той былой поистине богатырской мощи, которой он завораживал толпу молодых студентов и магическим, поттеровским, способом заставлял их слушать себя; в свое время, ещё до развода с женой, подорвавшего его психическое здоровье, Кортес был Голиафом, Поддубным и Дуэйном Джонсоном Скалой в одном лице, только, разумеется, не в большом спорте, к которому Габриэль никогда не имел интереса, не считая спорадических занятий плаванием в стиле баттерфляй, а в преподавательской деятельности. Это был бог педагогики, божество без алтарей и культа, но с ордой истинных фанатов философии; его сверхъестественно громкий голос разносился по университетской кафедре, сотрясая пол и стены философскими диспутами, по сравнению с которыми поединки Сартра с французскими студентами казались играми в песочнице; здесь Кортесу не было равных, не существовало ещё того смельчака, что бросит ему в лицо перчатку; теперь же от прежнего Кортеса осталась имитация минувшей кипучей жизнедеятельности; ныне он работал исключительно ради оплаты счетов.
Смуглый, темноволосый, большеглазый, с прямым носом, Габриэль Кортес ничем не отличался от чистокровных родовитых потомков знатных испанцев, наводнивших Южную Америку при Кортесе и Писарро, никогда не смешивавшихся с индейцами и африканцами и передавших многим современным мексиканцам, колумбийцам, кубинцам и перуанцам чисто испанскую внешность.
Очередной скучный и однообразный день, очень похожий на день сурка из известного фильма Гарольда Рамиса с Биллом Мюрреем, позади; труд по инерции, труд по необходимости выполнен в соответствии со всеми возможными нормами, но от этого на душе вовсе не легче, а совсем наоборот, тяжело и тоскливо. Габриэль вспомнил, как после прочтения «Братьев Карамазовых» он развил мысль одного из героев: все это уже много раз повторялось — рождение, блуждание в потемках биографии, смерть, снова рождение, снова тропинки в пустыне жизни, где все то же самое, то бишь акриды, соблазны беса, ставящего тебя на скалу перед царствами мира, и долгий монолог Инквизитора, имя которому на самом деле Бессмысленность бытия. Когда-то прочел он у Льва Толстого описание дежавю: маленькому Льву показалось, что этот настоящий момент, легко и незаметно переходящий из прошлого в грядущее, уже повторялся, много-много раз, миллионы лет подряд. А что, если и вправду, был Большой Взрыв, породивший время и три остальных параметра континуума, а до Большого Взрыва была череда таких же больших взрывов и больших сжатий, а в промежутках между ними многократное повторение мировой истории? Был Кортес на свете, и не однажды, а миллион раз, потому что вся история от начала до конца копирует себя, а вот атомы наших тел все помнят, отсюда и дежавю, по меткому выражению Бергсона, «воспоминание о настоящем», приступы памяти наших с вами атомов. Хотя, например, Митио Каку считает иначе: по его мнению, дежавю возникает тогда, когда параллельный мир неожиданно пересекается с нашим, и вы на мгновение заимствуете ощущение своего двойника-доппельгангера из другой вселенной; возможно, сооснователь Теории струн прав и наш мир в самом деле часть мультиверса, в котором можно время от времени приоткрыть окно в соседний мир.
Солнце уже было в зените, ветер дул со стороны парка, приносил свежий воздух; Кортеса окружали зеленые лужайки с аккуратно подстриженными кустарниками, каждый угол кампуса с легкой руки декана, ярого фаната флоры, был украшен необычными композициями из кустов и цветов редкого сорта. В кампусе Корнельского университета города Итака в штате Нью-Йорк кипела, била ключом, жизнь, все куда-то спешили, торопились безудержно смаковать эликсир бренного существования; невдомек было людям, что все это уже многократно повторялось, уже не единожды перед глазами проходила тривиальная последовательность одних и тех же действий, блуждание по эллипсоиде. Некоторые студенты вышли на пробежку, кто-то разминался на спортивной площадке; молодость в сильных телах, всегда готовая вслед за Кубертеном, пропагандистом и основателем современных Олимпийских игр, воскликнуть: «О, спорт, ты — мир!!!», рвалась наружу, невозможно было удержать её в стенах университета, ведь не только одной духовной пищей жив человек; вспомним, что и Платон был чемпионом по панкратиону. На лестничной площадке у входа в библиотеку пятеро студентов напевали песни в стиле «а капелла», проходящие мимо неизвестно откуда взявшиеся монахини тихо шептали: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое, да прибудет воля твоя, как на небесах, так и на земле»; Кортес, имевший сложные отношения с Богом, не слышащим из-за музыки сфер в божественных наушниках мольбы страждущих, неприятно поморщился, состроил гримасу, подумал о том, что уже много лет не ходит по воскресеньям в католическую церковь и почему-то вспомнил интерпретацию ангелом Локи из фильма Кевина Смита «Догма» детского стишка из «Алисы в Зазеркалье». Морж-жизнелюб по мнению Локи — Будда или Ганеша, плотник — конечно же, Иисус, а устрицы — доверчивые адепты религий, которые представляют собой не что иное, как учреждения, созданные с целью обмануть и завести очередного простака в сети иллюзий; битлы, незабвенные короли рок-н-ролла, ливерпульская четверка, когда-то по поводу этого стишка спели следующее:
«Yellow matter custard, green slop pie,
All mixed together with a dead dog’s eye,
Slap it on a butty, ten-foot thick,
Then wash it all down with a cup of cold sick».
Все вокруг казались такими жизнерадостными, все, кроме Габриэля: монахини, принявшие обет молчания, спортсмены, служащие спорту как Богу, певцы-любители, поющие без музыкального сопровождения; а ведь это все символично, подумал Кортес, мы все только и делаем, что молимся тому, кого не видим, бегаем и тягаем тяжести, хотя все равно состаримся и умрем, поем на улице и в душе (и тут Кортес невольно вспомнил эпизод с поющим в душе сотрудником похоронного бюро из фильма режиссера-философа Вуди Аллена «Римские приключения»), но при этом не попадаем в такт и зачастую фальшивим; мы всегда имитируем, делаем вид, что живем. Кортес не замечал, вернее, не хотел замечать всю красоту, что его окружала: зелень парков, щебетание беззаботных птиц, игры детей на футбольных площадках, маски на земле у скамеек — привет из недавнего прошлого, когда все города мира были охвачены невиданной доселе эпидемией коронавируса, и люди месяцами ходили на работу в одних и тех же несменяемых масках.

Кампус университета, где работал Кортес, располагался в долине Пальчиковых озер, на Восточном Холме; оттуда взору был открыт потрясающий вид на окрестности, в том числе на озеро Кэйюге. Реки двух каньонов — Фолл-Крик-Джордж и Каскадилла-Дордж, — находились на границе кампуса; Кортес предпочитал добираться от кампуса до дома пешком; он уже десять лет как сдал экзамены на вождение, однако его старенький «форд» томился в гараже; из-за призывов Греты Тунберг и ей подобных экоактивистов Габриэль решил снизить свой углеродный след, чему очень способствовала пешая прогулка.
— Добрый день, профессор Диас! Как прошли ваши занятия? — спросил проходивший мимо Габриэля студент Джон Мак-Гаффин, беспечный молодой человек, часто игнорировавший лекции и предпочитавший им практические занятия. Выглядел он сегодня странно, к тому же прогулял лекцию Кортеса, чего Габриэль никогда не прощал студентам; в былые дни его безмятежной семейной жизни, изредка омрачавшейся ссорами с женой, Кортес любил произносить в присутствии прогульщиков весьма едкую фразу: «Единственной уважительной причиной пропуска является ваша смерть».
— Спасибо, неплохо, — фальшиво улыбнувшись, ответил Габриэль. — А где вы сегодня были, молодой человек? Почему не присутствовали на лекции?
— Я… — замялся Джон, невысокий юноша лет двадцати в очках, с неизменно болезненным видом, — я вчера был в гостях и приехал поздно. Так что не смог вовремя проснуться.
— Бедный Джон! И родители вас не разбудили?
Джон отрицательно помотал головой; Кортес поискал на его лице мимику, которая могла бы обозначать извинение, но не найдя ее, нахмурился: он, конечно же уже не тот энергичный преподаватель, каким был раньше, но в пороховницах ещё есть порох.
— Ну, так вот, молодой человек. Принесете в деканат объяснительную, иначе не допущу к зачету.
Джон промолчал, пропустил взглядом удалявшегося от него профессора Кортеса, а сам, поглаживая пальцами лоб и создавая поднятием бровей горизонтальные морщины — как сказали бы несколько лет назад: играя бровями, — подумал: «Господи, я попал не в тот момент своей жизни». Кортес кивнул головой студенту, сделал наклон вперед, и пошел дальше по тротуарной дорожке, уверенно направляясь в местную кофейню — излюбленное место отдыха его коллег. Четверг Габриэля — это последний рабочий день; после же он не знал, что ему делать: можно почитать книгу, но на полках все зачитано до потертых корешков, можно посмотреть фильм, но ничего стоящего за последний год в связи с недавней эпидемией не выходило, а фильмы прошлых лет Кортес помнил покадрово. Целых три дня выходных, которые ему предстоит на что-то потратить, казались для него мучительным бременем; это его раздражало, мучило, выводило из себя, напоминало о разладе с супругой.
— Пятница, напьюсь. Так, суббота, суббота, поболит голова… Выйду на улицу… — вслух рассуждал Габриэль.
— А в воскресенье? — женский голос, прозвучавший позади, заставил Габриэля не только испугаться, но и резко обернуться.
— Боже, Аманда, ты так до инфаркта можешь довести!
— И тебе тоже добрый день! Так что там в воскресенье?
Аманда улыбалась и внимательно вглядывалась в уставшие от мыслей, беспокойно бегавшие глаза Габриэля, который не знал куда смотреть: на груди Аманды, на проходящих мимо людей, себе под ноги или на абстрактное «ничто», о котором обмолвился словом на сегодняшней лекции; только вот какое «ничто» — Гегеля или Сартра? Аманда была среднего возраста; её рыжие кудрявые волосы спадали до плеч; о таких женщинах обычно говорят, что они привлекательны, с ними весело и интересно, но семейное счастье в их компании обрести чрезвычайно трудно. Легкая летняя рубашка, белые джинсы-слим, стильные туфли телесного цвета; она была преподавателем истории, что не мешало ей выглядеть как дизайнер-стилист. Это изрядно сбивало с толку Габриэля — он не знал, смотреть ли на груди Аманды, которые виднелись из-за глубокого выреза её рубашки, или на ровные, накачанные утренними пробежками ноги, но только не в её голубые, как два океана, глаза, отдававшие искрами и словно сверлившие собеседника насквозь.
— Я ещё не решил, что в воскресенье, в конце концов, можно пойти и утопиться.
Это прозвучало без всяких эмоций, будто он прочел мантру во время медитации или, заснув на мессе, пробормотал вслед за пастором обрывки воскресной молитвы; мы часто произносим страшные вещи, не подумав об их значении и способности слов самым причудливым образом отражаться в сознании людей. Говорят, что прошлого на самом деле не существует, поскольку его запоздалое восприятие субъективно: два человека, бывшие очевидцами одного и того же события, расскажут о нём по-разному; ваши фразы будут восприняты иначе, чем вам хотелось бы, точно так же как любое событие можно представить с разных точек зрения; вот именно поэтому прошлое иллюзорно, его как будто и не было, раз оно воспринимается неоднозначно.
— Утопиться, как и в прошлое воскресенье? На этот раз не забудь взять с собой телефон. Ты не пришел в прошлый раз в бар, мы ждали тебя.
«Ты ждала, Аманда, остальным на меня наплевать».
— Да? Я забыл, прости, дома был бардак, я прибирался.
— Габриэль!
Они перестали идти, потому что Кортес, повинуясь негласному приказу спутницы, остановился; Аманда, воспользовавшись минутным замешательством Кортеса, взяла его за локоть. Двое студентов, проходившие мимо, захихикали, увидев их вдвоем: по университету ходили слухи о любовной связи двух преподавателей; одни искренне желали им счастья, другие только насмехались, поскольку Аманда выглядела старше Кортеса; трудно изжить вековые предрассудки.
— Хватит уже! Пора жить дальше. Ты её не вернешь.
Это прозвучало как приговор судьи для человека, отправляющегося на электрический стул; почему-то вспомнился Джон Коффи, безвинный человек из романа Стивена Кинга «Зеленая миля», осужденный за изнасилование двух девочек; все знают, что Коффи невиновен, но его все равно сажают на этот злополучный стул.
— Откуда ты знаешь, Аманда? Позволь самому разобраться.
— Она хоть раз тебе позвонила за последние два года?
Этим вопросом Аманда загнала его в угол: так обнаруживают любовные записки в портфеле школьника и тычут ими в лицо, так раскрывают твою ложь друзья, которые могут простить тебе все, но сам ты уже никогда не отмоешься от собственной неискренности. Удивленные глаза Кортеса выдали его: Габриэль не умел скрывать своих эмоций, не мог обманывать, юлить, уходить от ответа, он никогда не понимал, как другим людям это удается, почему у них не бывает покраснения от укоров совести.
— Ты что, прослушиваешь мой телефон? Это незаконно.
— Почему ты избегаешь меня? Постоянно пропадаешь на выходных. А в понедельник на тебя просто жалко смотреть, ты выглядишь ужасно.
— Спасибо, теперь мне стало ещё лучше… И я…
— Габриэль! Я хочу помочь. Жизнь продолжается…
— Мне надо идти, Аманда, прости.
Габриэль передумал идти в кофейню и поспешил домой, туда, где его никто не ждал, где нет супруги, готовящей ужин, нет выглаженной рубашки у изголовья кровати, где и ужина-то нет, а вместо всего этого есть подгоревшая яичница на сковородке и холодные чизбургеры в холодильнике. Войдя домой, он принял душ: единственную процедуру, способную по-настоящему принести удовольствие, во время которой можно о многом подумать, привести мысли в порядок, смыть лишние, обременяющие душу и тело, эмоции. Переоделся и, взяв из холодильника бутылку пива, постоял у окна; холодное пиво, приложенное к мокрому лбу, действует на тебя словно цикута на Сократа или огонь на Джордано Бруно: это возмездие за твои поиски истины, за суматошные мысли с факелом в дрожащей руке, несправедливое возмездие; пиво убивает, медленно, методично, и, самое главное, в отличие от цикуты и огня, терпеливо. Наблюдал за облаками, уходящими куда-то на восток; сказал себе, точнее, повторил за зрелым Шерлоком Холмсом из «Его прощального поклона»: «Нас всех развеет восточный ветер»; не понял, почему восточный, даже посмотрел на карту земного шара.
«Восток! Там ведь невероятно красиво, жаль, что я там никогда не был!» Он и не заметил, как стемнело, как ночь подобралась незаметно, на цыпочках, не шаркая тапочками, как блеснула отраженным светом луна, как одна за другой загорелись звезды, вокруг которых неразлучными хороводами, каждая по своей орбите, вот уже миллиарды лет бродят планеты.
Внезапно его взгляд, вконец усталый, интуитивно ищущий предмет, на который можно было бы обратить внимание, упал на висевшую на стене картину сюрреалиста Сальвадора Дали «Распятие или гиперкубическое тело». Иисус покорно, беспомощно, как это и выглядит на всех картинах и в фильмах, висел, но только не на кресте, а на развертке четырехмерного тессеракта или, как его ещё называют, гиперкубического тела. Голова его была запрокинута назад, ноги натянуты словно струны, грудь выгнута, все мышцы тела предельно напряжены, взгляд отсутствующий, погруженный в себя; он пригвожден к развертке небольшими трехмерными кубиками. «Почему не крест, а именно развертка четырехмерной фигуры?» —подумал Кортес и сам себе ответил: наверно, потому что Иисус не просто был распят в определенный момент всечеловеческой истории на куске дерева, имеющего свойство гнить, обращаться в труху и распадаться на атомы, впрочем, как и все мы; он был распят в образе человека, рано или поздно превращающегося в прах и служащего потом удобрением для цветов и деревьев. Иисус казнен вне времени и пространства, его распинали, распинают и вечно будут подвергать распятию, он распят на поверхности материи пространственно-временного континуума. Крест, вернее перекладина, изготовленная в месяц нисан в Иерусалиме тридцать третьего года нашей эры, была трехмерной, включала в себя три измерения — длину, ширину и высоту. Крест-тессеракт на картине является четырехмерным объектом, поскольку здесь к трем измерениям добавляется четвертое — время. Иисус — не простой человек, не простой не потому, что он пророк, как сказали бы мусульмане, не потому, что он Бог, как считают христиане, или Мессия, не принятый и не узнанный евреями, а потому, что он воплощает в себе бесконечные страдания человечества. Это наша совесть, как Сократ или Джордано Бруно, ведь если по Достоевскому Бога (читай: совести) нет, то, следовательно, все дозволено; раз нет совести, так нет и моральных барьеров, препятствующих распятию; человечество, упрекая себя в распятии своей совести, продолжает подвергаться собственноручно устроенной экзекуции.
«Габриэль! Я хочу помочь. Жизнь продолжается…» — слова Аманды все ещё звенели в его ушах; она была права, она одна на всем свете права, но Кортес не знал, что ему делать; его все уже достало, и он еле слышно промолвил: «Сегодня поставлю точку». Кортес закончил с пивом, этим медленно убивающим ядом, и незамедлительно, с необычайной прытью и тщательностью, которой позавидовал бы бухгалтер, проверил свои счета, покупки и кредитные карточки. «Не хватало еще, чтоб я кому-то остался должен!»
С его финансами был полный порядок, дом чист, и даже в стиральной машине не было грязного белья; готовить Кортес не умел и не любил, но убирался, пылесосил, стирал одежду лучше любой домохозяйки. В зале, на удивление самого Габриэля, уютно и чисто: мышь не пробежит, змея не проползет, комара носа не подточит, да и полиция, вздумай она устроить обыск, ничего бы на него не нашла.
Габриэль включил на ноутбуке хоральную прелюдию фа-минор Иоганна Себастьяна Баха, впервые услышанную им в фильме Тарковского «Солярис»; прелюдия была частью самой совершенной и часто упоминаемой в широких кругах композиции Баха «Страсти по Матфею». Кантор Бах был убежденным христианином и писал музыку самоотверженно, долго, с искренней любовью к искусству: у оратории были две редакции. Интересно, подумал Кортес, если бы Иисус был богом, он наверняка был бы Солярисом, богом во младенчестве; кем же ему еще, впрочем, быть; кажется, так поначалу и называлась самая известная повесть Станислава Лема: «Бог во младенчестве». Но уж ни в коем случае он не был бы Джоном Коффи из «Зеленой мили», ведь Коффи не борется, не проповедует, не спасает души грешников, он только исцеляет и плачет, а ещё молча слушает несправедливо вынесенный приговор и покорно садится на электрический стул, потому что устал от голосов и тьмы, он не желает спасения душ, Джон просто хочет покоя. Кортес не был в восторге и от Иешуа Га-Ноцри Булгакова, хотя очень любил книгу, мог часами перечитывать эпизоды встречи Берлиоза и Ивана Бездомного на Патриарших, похождений свиты Воланда и вставленную в роман новеллу о Понтии Пилате. Коффи хотя бы был орудием возмездия и хладнокровно убил Нортона руками Перси Уитмора, предварительно сведенного им с ума, а вот Иешуа не мстит никому, он слабее Коффи. Иешуа не желает возмездия, для него, как и для Канта, нет плохих людей, тогда как Джон Коффи Стивена Кинга отличает хороших от плохих, он осознанно или бессознательно, в конечном счете, уничтожает двух нехороших людей. В отличие от него Солярис — Бог, не знающий точно, чем добро отличается от зла, он — исследователь, с анатомической точностью обнажающий потаенные страхи и желания людей. Солярис не приносит откровение, не исцеляет людей, он лишь дает понять, кто мы такие на самом деле. Ни Иешуа, ни Коффи до таких глубин не дошли, и не могли дойти в силу своего характера, поэтому остались людьми, пусть и с экстрасенсорными способностями. Подумав так, Кортес посмотрел на часы и увидел, что уже полпервого ночи; он не пил и не мог заснуть. Габриэль взял трубку и хотел позвонить Аманде, чтобы напоследок услышать её голос.
«Хоть кому-то я не безразличен. Она всегда за мной бегала». Он набрал номер её телефона; его сердце при этом бешено колотилось, будто было готово вырваться из груди.
— Алло! — только сейчас Габриэль обратил внимание на то, что у нее звонкий и красивый голос; он дышал в трубку и молчал в нерешительности.
— Алло? Кто это?
«Почему мы с ней были вместе только единожды? Она, наверное, была бы не против, если бы мы ещё раз…»
— Аманда, это я. — наконец выдавил он дрожащим голосом.
— Габриэль? Привет. Как ты? Что-то случилось? — в голосе Аманды чувствовалась забота и любовь.
Габриэль стоял у окна перед журнальным столом; ему было неловко за то, что он её разбудил; на столе лежали ручка, белый чистый лист бумаги и пистолет.
— Нет, все хорошо, просто… Я просто хотел тебе сказать спасибо, ты вчера хотела мне помочь.
— Габриэль, ты в порядке? Хочешь, я приду?
— Я, я только сейчас заметил, что ты, ты такая… — он не сказал про её красивый голос, испугался реакции, и его взгляд упал на уже заряженный пистолет, который стоил ему немалых денег. — Прости, просто мне нужно было время, чтобы все обдумать.
— Я понимаю, понимаю. Габриэль, я могу прийти, мы отлично проведем время: выпьем вина, вместе позавтракаем. Конечно, если хочешь.
«Неплохая идея, а что потом? Черт возьми, Аманда! Что ты делаешь со мной?! Надо бросать трубку, пока я не передумал».
— Э-э-м…. Я тебе перезвоню.
— Габриэль?
Кортес бросил трубку, сел на стул, взял ручку и написал прощальное письмо, на все это у него ушло минут пять. А вот последние строчки были самыми трудными и заняли около десяти минут:
«Прощай, Сьюзи, будь счастлива со своим новым дружком, жалким существом! Я такой, какой есть, и ничего не могу с этим поделать. Ты украла у меня жизнь! Увидимся в аду!». Он закончил с письмом, взял в руки пистолет и приставил дуло себе к виску. «Аманду жалко, надо было ещё раз сблизиться с ней, хоть ей сделал бы приятное».
Один. «Я буду со своими родителями, и мы будем вместе». Два. «Пошла ты, Сьюзи. Ты ещё пожалеешь, что ушла от меня». Три…
Раздался телефонный звонок. Габриэль повернулся к телефону. «Наверное, Аманда. Пойду к ней, попрощаюсь. В конце концов, что я теряю?» Но это оказалась не Аманда; голос, прозвучавший после автоответчика, был мужским.
— Габриэль, дружище! Как ты? Это Ларри! Ты ещё не сгнил в этой дыре, в Итаке? Слышал, что тебя бросила Сьюзи, я всегда говорил тебе, что эта женщина тебя не достойна. Дай угадаю, ты ходишь только на занятия и домой, пьешь дешевое пиво, как обычно, и вечером чистишь свои лакированные туфли. А на выходных тебя посещают мысли о самоубийстве, я прав?
«Неужели я такой предсказуемый, и меня все читают как открытую книгу?» Под влиянием этих мыслей Габриэль почувствовал себя жалким и ещё больше возненавидел свою сущность.
— Если ты решился, то не стану тебя останавливать. Делай это и передавай привет Иисусу. Я знаю, что ты упрямый как осел, но ещё я знаю, что ты всегда хотел на Восток, стремился увидеть Азию своими глазами. Я знаю, что ты всегда любил свою работу. Так вот, если ты ещё жив, хочу сказать тебе напоследок, что я в Казахстане, в сердце Средней Азии, в Нуртехе, и тут для тебя есть работенка. Здесь тебе должно понравиться, и еще, тут пиво намного лучше, чем в твоем холодильнике. Мой телефон ты знаешь, у меня включен роуминг, так что жду твоего звонка. Ты мне здесь нужен, Габриэль. Пока.
Прозвучали гудки, и телефон замолк. «Ты мне здесь нужен, Габриэль». Эти слова произвели впечатление на Габриэля.
Он опустил пистолет и некоторое время сидел неподвижно на стуле. За окном была ночь. Время — час ночи. «Какого черта Ларри звонит мне так поздно?» — подумал Габриэль. В его голове прокручивались слова, сказанные Ларри: «Работенка», « хорошее пиво», «Средняя Азия», «Казахстан», «Нуртех».
Габриэль Кортес был из тех американцев, что знали о Казахстане не только благодаря развесистой клюкве от Саши Барона Коэна «Борат» или так называемому «Казахгейту», в котором был замешан Джеймс Гиффен, а с недавнего времени ещё и благодаря Димашу, Головкину и Иманбеку. Габриэль немного говорил на русском и интересовался культурой стран бывшего Советского Союза, поскольку его отец когда-то работал в России в команде антикризисного менеджера Джеффри Сакса и водил дружбу с Аскаром Акаевым.
Разница во времени с Казахстаном двенадцать часов, а это означает, что у Ларри день в самом разгаре. Габриэль, уставший от своей дикой и однообразной жизни, долго любовался рассветом. «Это прекрасный мир, Ларри. Как же тебе повезло!». Немного подумав, он набрал телефон Аманды.
— Алло!
— Это Габриэль, извини, что беспокою во второй раз за ночь.
— Ничего страшного, я все равно ещё не сплю. Ты придешь или мне прийти?
— Приходи. Проведем отлично время, как ты и предложила, если все ещё в силе… — осторожно проговорил Габриэль.
— В силе… — Аманда явно завелась и ответила игриво.
— Будем вдвоем напоследок.
— Напоследок? В каком смысле? — Аманда не на шутку удивилась.
— Я уезжаю в Казахстан…
***
Отец тогда ещё был жив; время иллюзорно, прошлое же хоть и туманно, но все же оседает в участках коры головного мозга, проявляясь в памяти как на кинопленке. С отцом Кортес виделся редко, и это был последний раз, когда Габриэль заглянул к донору генома, как он называл того, кто был ему отцом лишь генетически; проблема отцов и детей априори зародилась раньше озвучившего её Тургенева и сохраняется по сей день.
«Как же я на него похож!» — невольно подумал Габриэль, с формальной улыбкой пожимая руку родителю; Марк Кортес выглядел заметно постаревшим, лицо было изборождено морщинами, голова покрыта сединами. Жестом отец указал на стол, заваленный бесполезными с точки зрения Кортеса-младшего чертежами и схемами; все старые люди тешат себя ностальгией по прошлому, но иначе устроен мозг Марка Кортеса: он неизлечимо болен маниакальной идеей вычислить ритмы Вселенной, что дало бы ему возможность прогнозировать будущие события; поистине, Альцгеймер был бы спасением для него, подумал Кортес и сразу же мысленно поругал себя: редкие встречи и частые ссоры по телефону не повод для насмешек над отцом. Марка почти никогда не было в жизни сына; вернее, он, конечно же, воспитал Габриэля, но при этом был бесконечно далек от семьи.
— Посмотри, к какому выводу я сегодня пришел, Габриэль, — отец взял в руки карандаш и показал плохо наточенным кончиком на схему, — по моим последним прогнозам через шесть лет в мир ворвется страшный катаклизм. Я пока не могу сказать, будет ли это война или эпидемия, скорее всего и то, и другое. Штаты сегодня в напряженных отношениях с Россией, Северной Кореей и Ираном. По всей вероятности, очень скоро наша страна будет воевать с одним из этих государств. Я склонен предположить, что это будет Иран.
— На чем основаны твои предположения? — спросил Кортес-младший и, присмотревшись к схеме, увидел, что на ней изображены семь волн с семью проходящими сквозь них линиями и сопутствующими надписями на латыни.
— Ты ведь читал мою переписку с бывшим президентом Киргизии Аскаром Акаевым, а ныне профессором Московского Государственного Университета имени Ломоносова? Он консультировался со мной по вопросам экономики, ведь я в свое время считался одним из лучших специалистов по теории кондратьевских волн.
— Да, до тех пор, пока ты не стал пить. Теперь ни один уважающий себя университет не захочет связываться с тобой. Странные вы люди, ученые. Сочетаете занятие наукой с самыми тяжкими пороками. До сих пор помню Соколова, историка с мировым именем, лучшего специалиста по наполеоновским войнам, без книг которого немыслим университетский курс истории Нового времени. Кого он тогда убил, кажется, собственную аспирантку, да? Ты, помнится, был хорошо знаком с ним?
Отец вспылил, гневным взглядом окинул комнату, прошелся вокруг стола и, найдя под чертежами бутылку виски, выдул все её содержимое. Затем, ничтоже сумняшеся, он сел на стул, положил голову на скрещенные руки, пальцами которых нервно забарабанил по столу, и сказал:
— Зачем ты так? Я знал Соколова, но теперь жалею о встречах с ним. Я не заслуживаю сравнения с этой мразью. Тем более от родного сына. Я — математик и экономист с мировым именем. Я предсказал распад Советского Союза и дефолт тысяча девятьсот девяносто восьмого года в России.
— Твою заметку о прогнозе по поводу экономической катастрофы в СССР сочли безумием и не опубликовали ни в одной из европейских и американских газет ни в восемьдесят третьем, ни в восемьдесят шестом. Потом, правда, редакторы кусали локти. Твой отчет о грядущем дефолте прочел Ельцин, ты тогда ещё работал в России в команде Джеффри Сакса, но к твоему мнению предпочли не прислушиваться. Однако деньги олигархов на всякий случай все же вывезли в офшорные зоны. Ты — Кассандра, которую никто не слышит. Десятки лет ты предупреждал лидеров, а они закрывали уши. А знаешь, почему? Потому что ты большую часть своей жизни провел в запое. Ты безбожно пил. Кто станет внимать пьянице? Бог или природа, кто-то из них одарил тебя великим даром научного прогнозирования, но ты сам все испортил, подмочил свою репутацию. Впрочем, тебе и самому все известно. Я до последнего уговаривал мать не подавать на развод. Потому что верил в то, что ты не просто донор генома. Верил, что ты ещё и отец. Но ты даже хуже Федора Павловича Карамазова, тот хотя бы любил Грушеньку, а у тебя и любви ни к кому нет.
Габриэль неожиданно для себя почувствовал, как по коже покатились три скупые мужские слезинки. Зрелый мужчина плакал, в первый раз за двадцать лет. Марк Кортес разволновался, встал со стула и сделал шаг по направлению к сыну. Кортес-младший уперся кулаками в матовую поверхность столешницы и встал в угрожающую позу.
— Не подходи. Оставайся там, где стоишь. Продолжим наш разговор. На каких реальных статистических данных основываются твои предположения?
— Я говорил об Акаеве. — Марк Кортес вернулся на свое место, успокоился и пригубил из второй бутылки, лежавшей под стулом. — Аскар Акаев ещё в две тысячи пятом году предсказал мировой финансовый кризис, действительно имевший место в две тысячи восьмом году, и некий социальный катаклизм, который последует за оживлением мировой экономики и спровоцирует появление шестого технологического уклада — нанотехнологий. Я, пользуясь статистическими данными по мировой экономике, определил природу этого катаклизма. Сам Аскар Акаев и его коллеги, ученые с мировым именем Виктор Дементьев и Дмитрий Львов, которые тоже ведут переписку со мной, склонны предполагать, что спрогнозированный ими катаклизм — Третья мировая война. Мировая экономика ищет выход из ситуации, сложившейся в условиях рецессии, и находит его в крупных конфликтах сильнейших государств. Штаты — несомненный мировой лидер, склонный к конфронтации с другими ядерными державами. Из всех соперников Штатов больше всего на основного противника в Третьей мировой войне похож Иран — эта страна, которая не раз осмеливалась открыто выступить против позиции Штатов в мировой политике, имеет большие запасы ядерного оружия и всерьез готовится к военным действиям. Сценарий конфликта может быть таким: после обмена несколькими ядерными ударами обеих стран, владеющих атомным оружием, одно из государств ослабевает, уходит на вторые позиции, а страна-победитель восстанавливает баланс в мире и развивает технологии шестого уклада.
Теперь, спустя несколько лет, Габриэль Кортес дивился поразительной точности прогнозов отца. После авиаудара США по международному аэропорту Багдада третьего января две тысячи двадцатого года над миром нависла угроза реальной мировой войны между Ираном, США и их союзниками. Слава богам, Яхве или советникам политических лидеров, конфликт был вовремя улажен, но миру не удалось избежать потрясений. Удивительно, но отец предсказал даже эпидемию коронавируса, навсегда изменившую мир.
— Лично я считаю, что человечество может избежать мировой войны. Но, увы, даже в этом случае человечество ждет не менее печальный сценарий. Мировая экономика попытается перезагрузиться с помощью иного механизма — вируса, — сказав это, отец закрыл глаза и тяжело вздохнул.
— Вируса? — переспросил Кортес-младший. — Эбола? Чума? СПИД? Атипичная пневмония?
— Последнее твое предположение является вполне вероятным вариантом. Суди сам, — отец открыл глаза, посмотрел вниз, но ничего не нашел. — Ты ведь смотрел фильм Содерберга «Заражение»? Там показана вполне реальная ситуация. Юго-Восточная Азия с её извечной антисанитарией и рынками, где продают животных, передающих людям опасные инфекции, является самой благоприятной для появления нового вируса территорией. Мир давно стал глобальной системой, люди летают на самолетах, ездят в международных экспрессах, поэтому новая болезнь может распространиться по земному шару со скоростью, которая жителям средневековых городов, пострадавших от чумы, показалась бы фантастической. За вспышкой эпидемии последует всемирный карантин, который оставит без работы и средств к существованию миллиарды людей во всем мире. Последствия карантина могут быть эквивалентны стандартному послевоенному состоянию проигравших стран. Я с осторожностью прогнозирую падение экономик США и Евросоюза и возвышение Японии, Южной Кореи, Китая и Сингапура — четырех «азиатских тигров». Эти страны и сегодня показывают высокий экономический рост, а после спада эпидемии могут вырваться в мировые лидеры.
— Очень надеюсь, что твой прогноз никогда не сбудется. Честно говоря, предположить страшный вирус в современном мире, где вирусологи научились предупреждать появление новых бактериофагов и вирусов, а врачи — исцелять пациентов от ранее неизлечимых болезней, всякие подобные гипотезы — такая же смешная фантазия, как, скажем, вступление известного украинского комика Владимира Зеленского в должность президента Украины: сериал «Слуга народа», купленный «Нетфликсом», конечно же довольно интересный, но это все же не повод предполагать, что Зеленский станет президентом. То же самое с твоими прогнозами. Как бы ни интересно и впечатляюще выглядели твои пасьянсы, им, к счастью, не суждено претвориться в реальность.
— Мои прогнозы основаны на надежных математических выкладках. Модель кондратьевских волн ещё ни разу не показала расхождений с практическими результатами. Шестой технологический уклад не заставит себя ждать.
— О чем ты говоришь? Какие такие математические выкладки? Какие ещё к черту уклады, пап?
Осознав, что впервые за долгие годы назвал Марка Кортеса папой, Габриэль вытер выступивший на лбу пот чистым носовым платком и попятился к двери. Марк сделал вид, что не слышал слово «папа». Сейчас он был во вкусе, его переполняли мысли, «высокий штиль» управлял движением дум, мозг лихорадочно работал.
— Видишь ли, Габриэль, я много лет занимаюсь расчетами конъюктурных колебаний кондратьевских циклов. Я сторонник древней гипотезы о том, что мир управляется строгими закономерностями, которые можно определять, вычислять и на основе их изучения прогнозировать ещё не случившиеся исторические события. Я верю в предопределенность, а, следовательно, и в априорное отсутствие свободы воли, верю в то, что в ткани пространственно-временного континуума заранее записан весь ход мировой истории. Если мы познаем тайну этих закономерностей, предвидеть следующие пятьсот лет мировой истории можно будет с такой же легкостью, с какой синоптики сегодня предсказывают погоду на три дня вперед. Так вот, многие великие люди задумывались о шифре, зашитом в подкладку Вселенной. Пифагор, да Винчи, Марсилио Фичино, Омар Хайам, Велимир Хлебников и многие другие.
— Ближе к делу. В чем суть кондратьевских циклов?
— Если быть немногословным, дело обстоит так. Возвышение одних государств и падение других зависит от кризисов, войн и эпидемий, сотрясающих человечество испокон веков. На эту закономерность обратил внимание выдающийся русский ученый-экономист Николай Кондратьев. Он увидел в мировой истории цикличность и предопределенность, возможность предсказывать на основе математических расчетов социальные катастрофы и вехи технического прогресса. Суть его модели составляют семь неравных по временной протяженности циклов, в основе которых лежит тот или иной технологический уклад. Первый цикл берет начало в конце восемнадцатого века и зиждется на господстве текстильной промышленности. Второй цикл приходится в основном на вторую половину девятнадцатого столетия, в его основе лежит применение парового двигателя. Третий цикл — эра господства электричества, эпоха революций и гражданских войн начала двадцатого века. Четвертый цикл начинается после Второй мировой войны и является временем доминирования двигателей внутреннего сгорания и турбореактивных двигателей. Пятый цикл связан с развитием микроэлектроники, это девяностые и двухтысячные. Мировой экономический кризис две тысячи восьмого года, предсказанный мной и Акаевым, ознаменовал переход к шестому циклу и шестому технологическому укладу — нанотехнологиям. Эти технологии видны уже сейчас, особенно в медицине развитых стран, и очень скоро, после предполагаемой мной эпидемии мирового масштаба, они выйдут на новый уровень, станут такой же повседневностью, какой сегодня являются ноутбуки и смартфоны. Седьмой цикл, чье начало я датирую две тысячи тридцатым годом, совпадет с приходом седьмого технологического уклада — квантовых технологий, с развитием которых станет возможным открыть Теорию Всего.
— Подожди. — Кортес-младший с трудом переваривал поток информации, щедро изливавшийся из уст Кортеса-старшего. — Когда это произойдет? Когда случится глобальная пандемия?
— Все расчеты указывают на две тысячи двадцатый год. Потом начнется мировой экономический кризис, чуть позже — стабилизация, все вернется на круги своя, а дальше нас ждут новые потрясения…
— Довольно, не хочу больше слушать. Хочу понять лишь одно: эти твои циклы или волны, как ты их называешь, были всегда или же они проявили себя только в конце восемнадцатого века?
— До тысяча семьсот девяносто второго года, когда начала свою работу Нью-Йоркская фондовая биржа, кондратьевские волны имели локальный характер, поскольку в экономическом плане страны были слабо связаны между собой, если не считать торговлю и колониальную политику империй. Начиная с выше указанного года, крупные фондовые биржи оказывают влияние на все страны мира, сплачивая их в единую глобальную экономическую систему. С этого момента финансовые манипуляции на Нью-Йоркской и других биржах приводят к мировым экономическим кризисам перепроизводства, а те в свою очередь — к стагнационному состоянию мировой экономики, которая, ища выход из сложившейся ситуации, находит его в перераспределении ресурсов во время войн и вспышек эпидемий. Страны-победители становятся лидерами, богатеют, развивают науку и культуру. Но экономический кризис и следующая за ним война или эпидемия вновь производят рокировку на шахматной доске истории: место чемпионов вчерашнего дня занимают новые лидеры. Так было всегда и будет на этот раз. Новый технологический уклад приходит вместе с войной или эпидемией. Чума во Флоренции пятнадцатого века побудила Марсилио Фичино изучать произведения древнегреческих и арабских авторов и создать Платоновскую школу в Кареджи, очаг флорентийского Возрождения. Холера, свирепствовавшая в Англии девятнадцатого столетия, стала причиной переворота в медицине и появления современной канализации и санитарных норм. Интернет появился во время холодной войны по заказу министерства обороны — правительству Штатов понадобилась коммуникационная сеть, способная пережить ядерную войну. Ни одно технологическое новшество не может проложить себе путь в отсутствие войн или эпидемий. Грядущая пандемия также вызовет бум в технологиях и невиданный расцвет науки. У меня все. — Марк вновь вздохнул. — Передавай привет маме.
— Если говорить начистоту, я только для этого сюда и приехал. — Габриэль от перенапряжения сделал длинную паузу. — Мама хочет примирения. Мы будем лечить тебя от алкоголизма. Возвращайся в семью, отец.
Марк и его сын Габриэль подошли друг к другу, обнялись и тихо расплакались. В тот момент Кортес-младший и предвидеть не мог, что через три года отец и мать погибнут в автокатастрофе, и Кортес-старший так и не узнает, сбылись ли его прогнозы. Увы, даже первоклассным провидцам не суждено предугадать финал собственной жизни.
***
Над Теночтитланом вставало багровое, словно окровавленное, солнце. То была кровь с жертвенных костров, похоронивших в своем пламени души рабов-тласкаланцев, перемешанная с кровью убитых испанцами ацтеков. Царственный Кортес, вдохнув пахнущий едким дымом воздух, лениво осмотрел тела застреленных вчера сподвижников Монтесумы и, еле слышно насвистывая какую-то песню, которую слышал ещё ребенком в Медельине, пошел навстречу страшному, залитому пугающими красками рассвету.
Он шел мимо бездыханных тел, покрытых запекшейся кровью, шагал вдоль виселиц, на которых беспомощно повисли приговоренные к смерти непокорные ацтеки. Внезапно из груды мертвых тел выбрался вооруженный топором индеец. С дикими воплями набросился он на Кортеса, стоявшего спиной к нему, но тот успел обернуться и нанести предупреждающий удар. Индеец упал словно подкошенный.
То был всего лишь сон Габриэля Кортеса, однофамильца знаменитого конкистадора. Этот сон беспокоил его столько лет, сколько он себя помнил. Сходство фамилий и наличие в родословной гонителей индейцев отравляло Габриэлю жизнь, давило на его подсознание.
Вот сейчас он, очнувшись в холодном поту, огляделся и увидел в соседнем кресле самолета мирно спавшего пассажира с крупным и широким лицом желто-коричневого цвета. Это был его приятель Рамон Сааведра, также направлявшийся в Нур-Султан. «Рамон, кстати, индеец», — подумал Габриэль и невольно содрогнулся. Нет, он не был расистом, напротив, Кортес считал себя гражданином Земли и одинаково хорошо относился ко всем нациям и расам. Его всю жизнь преследовал комплекс вины перед коренным населением Америки. Один и тот же сон, в котором жестокий Кортес идет по окровавленному Теночтитлану и подвергается нападению коренного жителя, периодически посещал Габриэля, вторгаясь в глубины сокрытого.
Габриэль подумал о долге латиноамериканской и североамериканской цивилизаций перед майя, инками, ацтеками, народами, которые во многом превосходили вторгшихся на континент европейцев. Пока города средневековой Европы утопали в грязи и антисанитарии, а миллионы людей, и знатных, и простолюдинов, умирали от чумы и оспы, в это же самое время города ацтеков могли удивить любого просвещенного испанца или француза развитой инфраструктурой, сетью парков и садов, канализацией и налаженной бюрократической системой. Ацтекские сборщики налогов производили точные вычисления с необычайной скрупулезностью, а управленцы местного императора — тлотоани — с такой же дотошностью документировали каждую деталь: исторические события, количество рабов, приказы правителя.
Человечество веками истребляет себя, падая в пропасть, вырытую самим собой. Если бы Землю посетили представители инопланетных цивилизаций, они бы ужаснулись, увидев уровень человечества — обладая технологиями и развитым мышлением, мы продолжаем оставаться дикарями в нравственном смысле. Землю потрясают выстрелы в Сирии, Афганистане, Ливии, реки лжи льются с трибун ООН, бо́льшая часть населения земного шара задыхается в нищете и невежестве. И мир продолжает умирать, истребляя все живое и мыслящее, не давая себе шанса на завтрашний день. Размышления Габриэля были прерваны возгласом проснувшегося индейца:
— Мадонна, мы уже над Атлантикой!
Рамон Сааведра жил в Мехико, а в Итаке работал психологом. В Нур-Султан он ехал с рабочей поездкой. В его генеалогическом древе было примерно одинаковое количество индейских и испанских имен, но считал он себя именно индейцем, потомком тласкаланцев. Этот народ заключил договор с Кортесом и помог ему завоевать Теночтитлан. Кортес не забыл об услуге тласкаланцев и сделал их самой привилегированной нацией в Южной Америке. До сих пор в Мексике проживает огромное количество потомков тласкаланцев.
Беседуя с Рамоном, Габриэль старался не касаться индейской темы, однако Рамон постоянно вспоминал о своих предках, пересказывая известные Габриэлю исторические сведения о завоевании Америки. Рамон смешно жестикулировал и улыбался, словно рассказывал анекдот. Чувствовалось его увлечение историей.
Габриэль имел несколько меньший рост, чем Рамон, примерно сто шестьдесят сантиметров. В движениях его чувствовалась присущая людям с флегматическим темпераментом медлительность, доходящая порой до рассеянности. Как выяснилось в ходе беседы, именно природная неповоротливость сыграла роковую роль в семейной жизни Габриэля. Рамон знал, что Габриэль развелся с женой три года назад. Он попросил приятеля рассказать об этом подробнее.
— Нам обоим тогда было по тридцать лет, — неспешно говорил Кортес. — Она представляла собой полную противоположность моему естеству. Я всегда сосредоточен на своей работе — с двадцати пяти лет преподаю философию в Корнельском университете, — и не привык отвлекаться на посторонние вещи. Из-за этого меня считают рассеянным и не приспособленным в быту, а некоторые даже полагают, что мистер Габриэль Кортес не от мира сего. Но я ведь всего-навсего увлеченный своим делом человек. Однако моя жена так не считала. В конце концов, нам пришлось расстаться; к тому же, достопамятный карантин заметно повлиял на финансовое состояние нашей семьи и брак пошел по швам. Сьюзи не принимала моих взглядов, никогда не интересовалась моей философской концепцией, а совместное пребывание на карантине позволило нам обнаружить непримиримые противоречия во взглядах на жизнь. В итоге, не найдя общих точек соприкосновения, мы разошлись в разные стороны.
«Так о чувствах и разрывах не говорят, — подумал Рамон, — сухо, без эмоций. Переболело все в нем, это же очевидно. Потому и говорит беспристрастно, будто не о себе рассказывает».
— Ты чрезвычайно интересный человек, которому не откажешь в интеллекте, начитанности и самостоятельности мышления, — сказал вслух Рамон. Он говорил осторожно, с тактом профессионального психолога. — Но смею заметить, твоя отстраненность от быта, от людей вообще, со временем будет ещё больше погружать тебя в паутину, созданную твоей увлеченностью философией. Даже великий Эйнштейн успевал помимо работы над Теорией Относительности ухаживать за сонмом дам и делать успехи в музыке — с шести лет он играл на скрипке и до конца жизни оставался верен ей.
— Философия не является единственным моим занятием. По воскресеньям я плаваю в бассейне.
— Но это же, извини за мое невольное вмешательство в твою личную жизнь, имеет прямое отношение к твоей любви к философии. В бассейне ты расслабляешься, медитируешь, а значит, неосознанно продолжаешь размышлять о Вселенной, гармонии, концепциях и категориях. Вспомни Архимеда, ведь именно в ванне он открыл свой знаменитый закон. Я говорю совсем о другом. Человек должен быть многогранным, как платоново тело. Кроме узости интересов я вижу в тебе также нелюбовь к человечеству.
— Нет, не совсем верно. Я смотрю на путь человечества с пессимизмом. Человек всю свою историю был занят уничтожением и порабощением себе подобных, а также служением желтому металлу, ради которого были пролиты реки крови. Увы, мы вряд ли когда-нибудь станем совершенными и равными друг другу существами, как об этом мечтали Томмазо Кампанелла и Томас Мор, Иван Ефремов и Че Гевара, Эрих Фромм и мать Тереза. Все потому, что мы к этому не стремимся, не развиваемся духовно, не тянемся к свету, не делаем усилие, не преодолеваем власть нафса, завладевшего натурой каждого из нас.
— Я вижу, что оказался прав: ты действительно недооцениваешь человечество. На самом деле, все не так уж плохо. Мы изменились, перестали жечь еретиков на кострах и есть людей в ритуальных целях, как это делали твои благородные ацтеки. Мир стал другим. Посмотри вокруг, взгляни на пассажиров, потомков инквизиторов и дикарей, и ты увидишь, как не похожи они на тех, с кем их связывает родство. Там, в Нур-Султане, я покажу тебе Дворец Мира и Согласия, сооруженный в форме пирамиды. Там, и нигде больше, ты бы увидел, как люди разных наций и рас собираются вместе, в галереях, в конференц-залах, чтобы узреть истинное единение людей всех исповеданий, национальностей, рас и взглядов, порой диаметрально противоположных, но с одним сердцем, с одним, объединяющим их, огоньком в глазах. Там, в зале «Колыбель», ты увидишь сто тридцать голубей, символизирующих все народы, проживающие в Казахстане. Казахстан — молодое государство. Такие быстро развивающиеся страны способны показать алчному, погрязшему в погоне за прибылью западному миру, каким путем нужно идти, в каком направлении должно двигаться зрелое, повзрослевшее человечество.
— Я знаю о Казахстане очень многое, по рассказам моего друга Ларри Гранта. Это самобытная страна, молодая, но перспективная. Мой друг работает в Нуртехе и в Международной организации по хранению ядерных арсеналов в Казахстане. Он физик с мировым именем и твоя фраза про многогранность Эйнштейна справедлива и в отношении Ларри. В отличие от меня он успевает все. И о Казахстане Ларри отзывается восторженно…
— Извини, что перебиваю. Организация по хранению ядерных арсеналов? Я не ослышался? Ты про банк ядерного оружия в Усть-Каменогорске? Я слышал о нем. Его хотели создать ещё в начале двухтысячных и вот, наконец, судя, по твоим словам, открыли. Я давно не следил за новостями. Продолжай.
— Ларри предложил мне приехать в Казахстан на постоянное место жительства, ввиду того, что в Нуртехе, где у Ларри основная работа, открылась вакантная должность. Он давно звал меня. Ларри нравится Казахстан, но он чувствует себя одиноким в новой для него стране, к тому же ему не хватает близкого человека, ведь мы с Ларри друзья детства. Я легко согласился, заключил договор с университетом и полетел навстречу Неизведанному.
— Близкий друг — ещё не причина для кардинальных перемен в жизни. Что послужило стимулом для того, чтобы ты изменил устоявшийся порядок вещей? Ты очень давно преподаешь в Корнельском университете. У тебя есть любимые студенты, в стенах альма-матер тебе вполне комфортно. И вот ты решаешь уехать в незнакомую страну. Должна же быть веская причина для такого неординарного поступка.
— Она, безусловно, есть. В последнее время, после развода с женой и участившихся сеансов одного и того же сна, преследующего меня чуть ли не с пеленок, я испытывал духовный кризис. Как философу мне интересна культура и мифология южноамериканских индейцев. Я чувствую угрызения совести из-за нашей кровавой истории, истории поработителей и убийц. Я чуть не сошел с ума, анализируя греховную хронологию человечества, не способного прийти к искуплению; не так давно случившиеся события, связанные с разгулом пандемии коронавируса, ещё больше повергли меня в уныние; сегодня эпидемия кажется страшным сном, оставшимся позади, но мир уже не станет прежним, напротив, он стал ещё хуже. Когда Ларри пригласил меня в Казахстан, я ухватился за его предложение, как утопающий хватается за соломинку, словно это может спасти его. Поездка в Казахстан — глоток воздуха, поиск ответа на главный вопрос моей жизни. Интуитивно я чувствую, что только в Казахстане обрету себя, выйду на верную тропу, найду правильную траекторию.
— Если ты не поверишь в человечество, ни одна поездка не сможет поставить точку в твоем блуждании. Тебе необходимо поверить в того самого человека, который может полностью уничтожить вирус оспы, оставив его штаммы лишь в двух лабораториях мира, в того самого человека, который может победить Гитлера и спасти мир от господства извергов, экспериментирующих с людьми посредством газовых камер, в того самого человека, который способен написать «Маленького принца» и «Пикник на обочине», снять «Хатико» и «Солярис», человека, способного любить ближнего как самого себя и призывающего к свободе и равенству. Когда ты сможешь увидеть человечество именно таким, только тогда ты сможешь обрести верную траекторию. Подумай об этом на досуге.
Габриэль не ответил. Слова приятеля глубоко запали в душу Габриэля. Но он предпочел промолчать, уйти в себя. Укрывшись теплым пледом — в самолете заметно похолодало, — Габриэль вновь заснул. В его руках застыла раскрытая записная книжка, в которой Габриэль успел набросать несколько строк экспромта — он был поэтом-любителем. На странице мелким убористым почерком было написано:
«Мы с тобою в ответе за все и за всех,
И за плач гугенотов, католиков смех,
И за пепел костра, где сжигали Джордано,
За ребенка-еврея, кричавшего: „Мама“.
Мы в ответе за боль и за раны людей,
В Сталинграде сломивших господство зверей,
Мы в ответе за кровь Монтесумы и Кинга,
И за смерти рабов в Колизее на ринге.
Мы с тобою в ответе за все и за всех,
За пролитие крови — допущенный грех,
И за боль Холокоста, за боль геноцида,
И за то, что порою немеет… Фемида».
Тем временем Рамон осмотрелся по сторонам. По узкому проходу, разделяющему пассажиров левого и правого крыла самолета, двигались стюарды с тележками. Рамон не любил обедать в самолете. Он привык к домашней пище, которую готовила ему жена, и даже в рабочие поездки брал запечатанные в фольгу обеды супруги.
Круглые, напоминающие окна в доме хоббита, любимого персонажа Рамона, иллюминаторы изрядно запотели, если вообще можно было бы так выразиться о них, и очень плохо отражали картину, развернувшуюся за окнами самолета. Рамон провел руками по воздуху, чтобы ощутить воцарившийся в лайнере холод.
Он вспомнил свои первые встречи с Габриэлем. Тогда Габриэль ещё был женат. Они с супругой часто ссорились, но не показывали этого на людях, поэтому Рамон ничего не замечал. Габриэль и Рамон познакомились в бассейне, куда Кортес ходил по воскресеньям. Правда, в отличие от Габриэля, Рамон увлекался не только плаванием. По вторникам он качался, по четвергам играл в любительской футбольной команде, а по субботам проводил свободное время на ипподроме. Они познакомились и очень быстро сошлись, хотя, учитывая мизантропию Кортеса, было странно, что Габриэль так быстро сдружился с малознакомым человеком. В выходные дни они семьями выезжали на природу, устраивали ланчи. Рамон любил готовить традиционные мексиканские блюда, особенно чили кон карне со стаутом. Говядину он резал на мелкие кусочки, морковь рубил тонкой соломкой, а сельдерей и красный лук шинковал мелким кубиком. Говядину Рамон покупал заранее. Торговцы часто обманывают, сбывая несвежее мясо. Поэтому Рамон предпочитал ездить на рынок сам. Лук, морковь и сельдерей нужно было тщательно обжарить на подсолнечном масле до легкого золотистого цвета. К овощам, когда они были уже прожарены, добавлялась говядина. Затем Рамон наносил последний штрих: в походную кастрюлю попадали кусочки томата. Все это тушилось около десяти минут, заливалось пивом и подавалось на разложенное на траве покрывало — импровизированный стол. Кто бы мог подумать, что эти дни безмятежного счастья когда-нибудь закончатся, что нежданный вирус нарушит покой миллионов семей, что друзья перестанут быть друзьями, а супруги — супругами? Не в этом ли счастье? В семейных трапезах, в задушевных беседах с друзьями, в уверенности в том, что завтра будет таким же, как сегодня.
«Да, славное было время, — подумал Рамон. — Будем ли мы с Габриэлем видеться в Нур-Султане?»
Рамон закрыл глаза, но не смог уснуть и попытался отвлечься. Он почему-то вспомнил анекдот о Ходже Насреддине, среднеазиатском шутнике, аналоге европейского балагура Уленшпигеля. Однажды Ходжа Насреддин увидел могилу, на надгробии которой было написано, что такой-то господин прожил на грешной земле три года и добился при этом славы и почета. «Как же мог сей уважаемый покойник обрести славу, если прожил так ничтожно мало?» — спросил вслух удивленный Насреддин. Проходивший мимо прохожий ответил Насреддину: «Этот великий вельможа прожил семьдесят долгих лет, но лишь три из них смог прожить в безмятежном счастье». Насреддин улыбнулся и сказал: «Тогда на своем надгробии я велю написать золотыми буквами: «Ходжа Насреддин, человек, попавший в могилу сразу из утробы матери». Мало кто может назвать себя счастливым человеком, а если и может, то счастливых дней при пересчете окажется намного меньше, чем ему хотелось бы помнить.
II. Если парус остается без ветра, он становится тканью
Единственный известный
людям способ куда-то попасть —
это оставить что-то позади
Кип Торн
Он определенно, нет, совершенно точно попал не в тот момент жизни, а, точнее говоря, выпал, был удален из своей временной линии; представьте себе, что вас, словно в «Черновике» Лукьяненко, удалили из жизни ваших родных и близких, вас никто не помнит — ни те, кого вы любили, ни те, кто вас ненавидел. События в этой, точь-в-точь схожей с его собственной, Вселенной шли в том же порядке, что и ранее; здесь его помнили, здесь о нём не забывали, тут всё было точно такое же, как в той материнской вселенной, но тут у него было больше свободы выбора, ведь он точно знал, что произойдет. Джону оставалось только дождаться Сансара и перевести его внимание на личность Кортеса: он знает, как это устроить, знает, как залечь на дно, ведь теперь можно выбирать наиболее благоприятный для него вариант развития событий. Джон решил, что теперь он будет жить спокойно, незаметно, не вмешиваясь в дела всесильных существ; человеческая жизнь потомка умных обезьян, расширивших свой потенциал и дошедших в долгом многотысячелетнем пути до изготовления технологий, от каменных орудий до атомной бомбы, слишком коротка для того, чтобы играть в Бога (трудно, как заметил Румата Эсторский, быть им): мы никогда не поднимемся до уровня высокоразвитых цивилизаций из параллельных миров, потому что они смогли избежать неверного выбора на перекрестках своей истории, а мы слишком погрязли в раздувании своей мнимой значимости для Вселенной. Наши проблемы и чаяния бесконечно малы по сравнению с широтой ежесекундных изменений в мультиверсе. Оставалась лишь одна мелочь: надо было подкинуть листок с формулами Кортесу, чтобы его потом прочел Ларри. Было ли ему жаль Кортеса, который теперь неминуемо пройдет его путем, по той же траектории? Мучила ли его совесть? Вряд ли. Для того, кто понял, как ничтожны земные люди со всеми их радостями и страданиями в масштабе многовариантных вселенных, угрызения совести — всего лишь набор видоизмененных инстинктов, управлявших человеческим поведением ещё на заре истории Homo sapiens.
***
Полный, розовощекий, со здоровым цветом кожи молодой человек с лицом, покрытым еле видной щетиной, постоянно улыбающийся, большими шагами ходил по холлу нового аэропорта, изредка вглядываясь в большой орнамент, украшавший потолок, выполненный в форме шанырака. Здание аэропорта примыкало к старому, ещё не пришедшему в негодность и казавшемуся совсем недавно построенным, аэропорту; о ковиде напоминала разве что санитарная зона и скульптура в центре холла, изображающая земной шар в маске; казалось, что человечество навсегда избавилось от опасности, нависшей над планетой всего лишь пару лет назад.
Его полнота не отпугивала окружающих, а наоборот, привлекала и располагала к доверию; можно было сказать, что человек этот вовсе не толст, а всего лишь в меру упитан, однако ему явно нужно было сбросить лишний вес и заняться спортом; конечно, молодому человеку можно было сослаться на отсутствие возможности заниматься спортом в фитнес-залах во время карантина, но хорошо знавшие его люди сказали бы вам, что он всегда был похож на Обеликса из забавных французских комиксов. Бросались в глаза добродушие и жизнелюбие, искрившиеся из зрачков, смотревших на мир с оптимизмом и непоколебимой верой в человечество: в меру и не в меру упитанные люди как правило добры и твердо уверены в том, что свет в сущности прекрасен. Он находился здесь уже целый час, терпеливо ожидая своего друга детства, с которым не виделся долгие годы, но при всем при том держал с ним непрерывную связь; глобализм и увеличение скорости транспортных средств привели к тому, что люди настолько легко и успешно меняют место работы и проживания, что им позавидовали бы номады. С тех пор, как объект нашего внимания покинул Итаку, ему случалось возвращаться в дом детства, в частности, на похороны матери, на которых присутствовало множество светил науки; но Итака никогда не притягивала его к себе, не манила; интересующий нас человек был скорее патриотом планеты, нежели какого-то одного населенного пункта, космополитом в хорошем смысле слова.
Этого молодого человека, эпикурейца телом и душой, любителя простых земных удовольствий, оптимиста до мозга костей, звали Ларри Грант; порой кажется удивительным то обстоятельство, что самые счастливые и жизнерадостные люди — те, которых жизнь чаще других била и испытывала на прочность; Ларри рос без отца, юность провел в относительной нищете, несмотря на регалии матери, подвергался насмешкам за свои оригинальные научные взгляды со стороны однокашников по Калтеху, но став уважаемым ученым с мировым именем, тем не менее, не растерял чувство юмора. Да, это был тот самый астрофизик, работавший на чужбине и просвещавший юных казахстанцев, с которым в ночь неудачной попытки сведения счетов с жизнью беседовал Габриэль; Грант пользовался в Нуртехе такой популярностью, что студенты даже записывали его лекции на смартфон и выставляли на «You Tube».
Ларри Грант был полной противоположностью Габриэля, его антиподом; а разве редки случаи, когда друзья, самые близкие после родственников люди, совершенно не похожи на нас? Рефлексия и переживания не были присущи молодому гению, удивлявшему сверстников и учителей ещё в дни далекого детства: лежа в колыбели, он заново, не зная прецедента с яблоком Ньютона, переоткрыл закон всемирного тяготения, а в начальных классах перечитал все учебники и научно-популярные книги, касающиеся астрофизики. Люди, обладающие жаждой познания, порой способны за короткое время осваивать материал, на изучение которого человечество потратило тысячи лет развития. Сриниваса Рамануджан, к примеру, вывел и доказал многие теоремы самостоятельно, обучаясь по старому учебнику, не имея перед собой учителей и помощников, самоотверженно шагая по колее, проторенной ученым миром в течение четырех миллениумов. Так же в свое время поступили Карл Фридрих Гаусс, Николай Лобачевский и Эварист Галуа, которые, да будет сказано ради справедливости, получили не в пример лучшее образование.
Ларри жил легко, свободно, не отказывая себе в удовольствиях, которые ежедневно преподносила ему жизнь, да и странно было отрекаться от запретных плодов; в конце концов, Адам был изгнан из рая не за то, что съел яблоко (или какой-нибудь другой плод, ибо в Бытии ничего не сказано о виде запретного дерева), а за то, что свалил вину на Еву; если все время придерживаться правил кодекса джентльмена, полагал Ларри, то можно избежать кары и при этом стать счастливым обладателем приятных мгновений. Древние назвали бы его гедонистом, сибаритом, последователем польского короля Генрика Валезы и французского писателя Александра Дюма, и были бы правы, ведь, повторимся, Ларри умел и любил жить в свое удовольствие: как астрофизик, он знал, что весь отрезок истории человечества на прямой бесконечной линии существования Вселенной — всего лишь секунда на часах вечности; следовательно, смертный человек не должен ни в чем себя стеснять.
Ларри не был похож на типичных физиков, занятых лишь наукой и забывающих о радостях, которыми наполнен мир, проводящих время в кельях-обсерваториях и предпочитающих шумному веселью сладостное затворничество в обществе фолиантов и приборов. У него определенно было много общего с Эйнштейном, чей облик ничтожно мало походил на внешность академического ученого; мир помнит высунутый язык гения, неопрятный вид и открытость в общении, так не присущую знаменитостям. Ларри напоминал автора теории относительности манерами и жизнерадостностью, любовью к дамам и музыкальным даром: Ларри играл на скрипке и часто выступал на днях рождения друзей.
Габриэль вышел навстречу Ларри вместе с Рамоном, таща с собой дорожные сумки, еле держась на ступеньках эскалатора: его заложенные уши до сих болели, несмотря на достаточную порцию леденцов; Кортес любил самолеты (смотреть на перистые, кучевые и слоистые облака, в которых купается лайнер — настоящий праздник глаз), но терпеть не мог турбулентность и заложенность в ушах. Хвала врачам, благодаря которым он знал, что просвет его евстахиевой трубы слишком узок, настолько узок, что по этой причине ему следует избегать полетов. И все же во имя страсти к облакам, ради любования которыми стоит совершать перелеты, Кортес продолжал игнорировать рекомендации служителей Асклепия. Проклятая турбулентность; говорят, что Гейзенберг, будучи на смертном одре, сказал коллегам, провожавшим его в последний путь, что после смерти задал бы Богу только два вопроса: «Господи, почему относительность? И почему турбулентность?». Гейзенберг был уверен, что на первый вопрос Бог бы точно ответил.
Рамон и Ларри были знакомы, но очень поверхностно, почти заочно; виделись пару раз, когда Грант ненадолго приезжал в Штаты; они не помнили друг друга, как некоторые люди зачастую не помнят чьих-то друзей и знакомых, которые им интуитивно не понравились, не привлекли внимание внешностью и манерами.
Габриэль очень устал, его утомленность отчетливо бросалась в глаза; бессонница, головные боли и спазмы с некоторого времени были его спутниками и косвенно свидетельствовали о наличии синдрома хронической усталости. Нур-Султан пока не заинтересовал его, как и аэропорт, похожий на десятки таких же аэропортов, которые Кортесу уже приходилось видеть; почитав независимую прессу, Кортес напрочь лишился розовых очков в отношении страны, принявшей его в качестве преподавателя. Казахстан считался одним из самых коррумпированных в Евразии государств с высоким уровнем бедности, большим социальным расслоением населения и наличием экологических проблем. Кортесу, человеку западной культуры, коррупция виделась каким-то непонятным атавизмом, аппендиксом, от которого нужно немедленно избавляться. Удивительно, что многие молодые политики Казахстана учились за рубежом в рамках программы «Болашак» и умудрились при этом смириться с существующей в стране системой взяток и поборов. Кортес вспомнил книгу, которую он читал в прошлом году — «Из третьего мира в первый», — написанную сингапурским политическим лидером Ли Куан Ю. Ему запомнился довольно интересный факт, являющийся лакмусовой бумажкой отношения сингапурского общества к поведению людей, наделенных властью. В тысяча девятьсот девяносто пятом году Ли Куан Ю приобрел два объекта недвижимости со скидкой. Правительство инициировало расследование для проверки законности этой покупки. Расследование было открытым, вся страна знала о подробностях дела. Коррупционных схем и нарушения закона обнаружено не было. В кристальной честности Ли Куана Ю Кортес не сомневался и до прочтения книги. Его поразило другое: подается иск на главу государства его же правительством, открыто, все об этом знают и следят за ходом дела. Причем глава государства не возмущается и спокойно ждет решения суда. Вот это страна, вот это политическая система. Можно лишь поаплодировать государству, где фразу «перед законом равен каждый» следует понимать буквально, где даже лидер страны живет на одну зарплату и ему приходится искать строительную компанию, которая может продать ему два дома со скидкой, так его ещё после этого вызовут в следственный комитет и возбудят дело с тем, чтобы узнать, все ли в этой сделке чисто. Габриэлю было жаль, что Казахстан не Сингапур; в постсоветском пространстве с коррупцией справилась лишь одна страна — Грузия.
Друзья обнялись так крепко, как и должны обниматься друзья детства, не видевшиеся вечность; в век кибертехнологий, когда с легкой руки коронавируса человечество перешло к дистанционному обучению, к онлайн-обслуживанию и к удаленной работе, потребность в непосредственном общении, в рукопожатиях, в невербальной коммуникации стала ещё более необходимой, чем до пандемии. Ларри сухо пожал Рамону руку, едва бросив на него небрежный взгляд, тот, в свою очередь, понял, что не принят в круг, и молча поплелся за Ларри и Габриэлем; Рамон чувствовал себя в этой компании словно не в своей тарелке, он мечтал поскорее заняться работой с клиентами, его излюбленным делом — психоанализом.
В воздухе пахло суетой, люди встречали друг друга, провожали и в этом броуновском движении ожидали, когда придет их время, куда-то стремились, спешили; кто-то из великих сказал, что только на вокзалах и в аэропортах люди по-настоящему искренни и чисты в помыслах. Потоки лиц кружили по холлу, хаотично устремляясь влево, вправо, вверх и вниз по эскалатору и на лифте; ныне каждый крупный город уподоблен неистовому Вавилону. Молодой среднеазиатский мегаполис, совсем недавно ставший миллионником, мало похожий на столицу, встречал гостей дождем; это явление столь привычно для астанчан, что коренным жителям порой кажется, что дождь — законный житель города с постоянной пропиской. Кортес почему-то подумал о прежних названиях Нур-Султана: Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана; подумать только, это ведь одна из самых холодных столиц мира, бывшее место ссылки политзаключенных империи и позже союза республик; старожилы, к слову, и подумать не могли о том, что маленький город целинников когда-нибудь станет главным мегаполисом страны.
— Дождь — явление для астанчан обычное, — заметил мимоходом Ларри, садясь с гостями в такси, — здесь постоянные перепады температуры, резко континентальный климат.
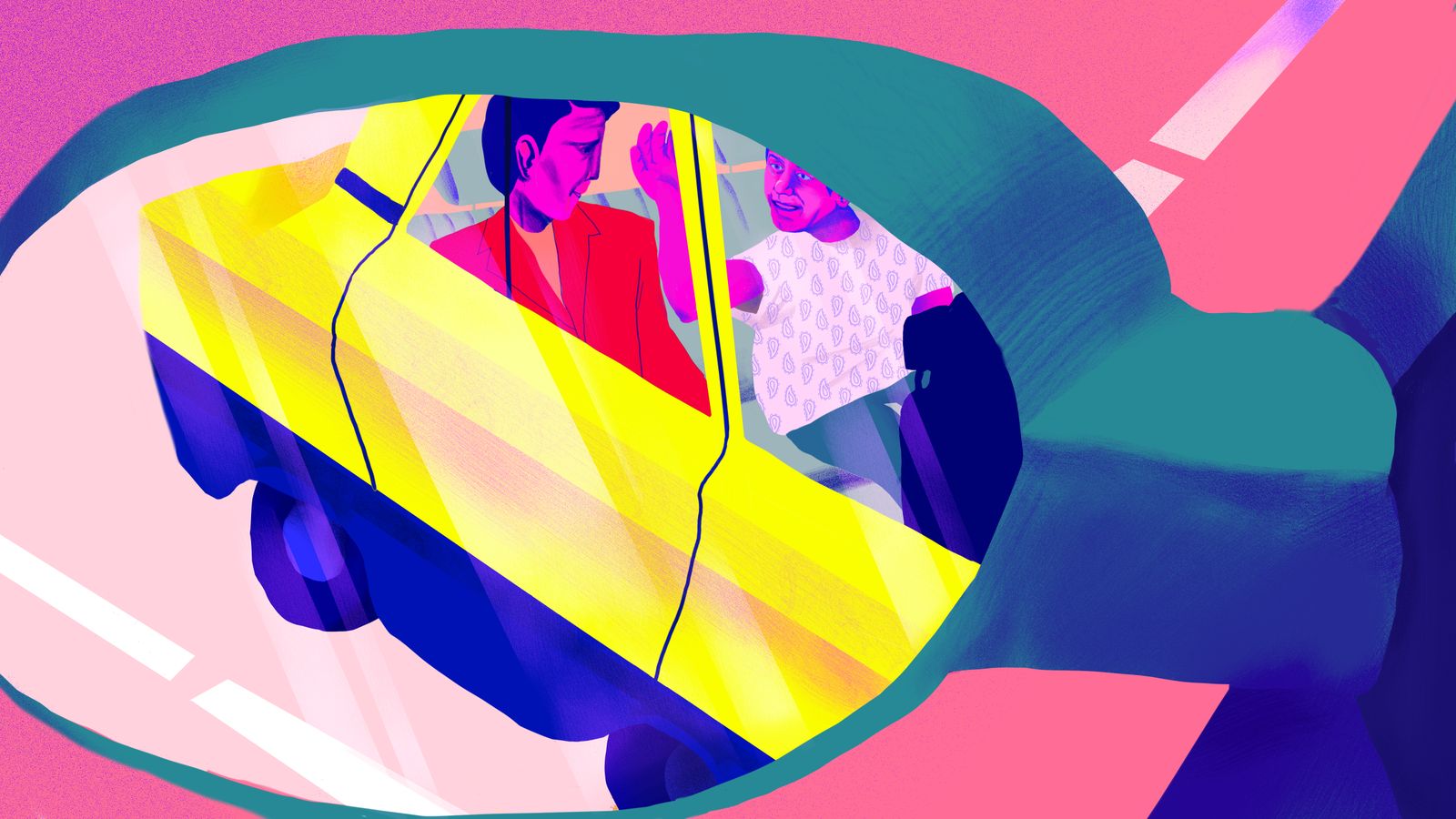
— Я люблю дождь, — сказал с задумчивым видом Габриэль, — под него хорошо думается.
— Узнаю старину Габри, — с улыбкой произнес Ларри. Он всегда называл друга именно так: «Габри». — У обычного человека от такой погоды разовьется сплин, у Габри же в подобном климате только повышается настроение. Хорошо, что ты сюда приехал. У меня такое ощущение, что приехав в этот город, я попал в комиксы DC, настолько здесь гнетущая атмосфера.
Ларри и Кортесу нравились комиксы, что, впрочем, было неудивительно, ведь разноцветные тридцатистраничные журналы с рисованными историями о сверхлюдях и попросту храбрых смельчаках несут в себе культурный код Соединенных Штатов. Стране без мифологии нужны были свои герои и боги. Богами стали магия и технология, героями — мутанты и жертвы экспериментов наподобие Халка или Спайдермена, пришельцы вроде Супермена, люди без сверхспособностей, но с мотивирующими лозунгами «Приемы — ничто, воля — все», «Зачем люди падают? Чтобы подняться», храбрецы, скрывающиеся под маской Бэтмена или за броней Айронмена. Казахстан, конечно же, не Готэм, хотя аналогии упрямо напрашиваются. Кортес почему-то подумал о том, что Бэтмен на самом деле не очень эффективный антикризисный менеджер. В нолановской трилогии его усилия мало к чему хорошему приводили, пожалуй, больше навредили, чем помогли. Горожанам следовало позвать Ли Куан Ю, тот бы на ура справился. Впрочем, Казахстану Ли Куан Ю тоже был бы полезен, однако только в том случае, если постсоветская страна хочет справиться с коррупцией по гамбургскому счету, с железной перчаткой наперевес. Кортес тут же поймал себя на мысли, что слишком суров к внутренней политике казахстанских властей. Консультант казахстанского президента Сума Чакрабарти неплохо проявил себя и уже добился значительных успехов.
Между тем на улице основательно разыгрался ливневый дождь, с грозой, с сильным, характерным только для Нур-Султана ветром. В начинающихся сумерках нескончаемый гром только усиливал ощущение мрачности и безысходности.
— А помнишь наши уроки музыки, там, в Итаке? — спросил Габриэль.
— Когда ты часами подряд мог играть «Лунную сонату»? Конечно, помню. Как я это выдерживал? Терпел только для того, чтобы полюбоваться Софи. Она ведь тоже ходила на эти уроки.
Габриэль явственно увидел глухого Бетховена, подбирающего музыку «на ощупь». Ставший жертвой частичной глухоты из-за сыпного тифа в двадцать семь, полностью оглохший в сорок пять, Бетховен продолжал писать, руководствуясь абсолютным внутренним слухом. В период глухоты на свет появилось множество сонат, в их числе «Лунная соната», и четыре симфонии, среди которых гимн Евросоюза «Ода к радости». Бетховен, Паскаль, Хокинг — эти и подобные им люди навсегда останутся примером для людей, впадающих в отчаяние. Им было сложнее, но они не сдавались. Человек сильнее рока, но только тогда, когда верит в это. Сомнения — табличка «стоп» для Вселенной, ибо Вселенная любит смелых и решительных.
— Софи, кстати, стала профессиональной пианисткой, играет в Сиднейской Опере, — сказал вслух Кортес.
— Знаю. Недавно моя мечта все-таки исполнилась, во время симпозиума в Сиднее. Нас с британскими астрофизиками пригласили в Оперу. Сидим, слушаем, смотрим, а там — она, вылитая Кейтлин де Виль, только не со скрипкой в руках, а за пианино. Ну, и естественно, все плавно перешло в продолжение вечера.
— Ты в своем репертуаре, Ларри. Наверно, уже вся свободная женская половина Нур-Султана сходит по тебе с ума?
— Увы, не вся. Это другая страна, не забывай, Габри. Иная культура, иные обычаи. Здесь женщины дорожат своей честью. Поэтому жертвами моего либидо становятся только красавицы западного происхождения, — при этих словах Ларри наклонился к уху Габриэля, поднося к губам указательный палец, — и среди них, замечу, много замужних.
Рамон, который сразу почувствовал, что пришелся не ко двору, не вмешивался в разговор друзей. На полпути он вышел, и весь дальнейший путь Ларри и Габриэль могли спокойно поговорить о жизни в Итаке и о распутье, на котором оказался Габриэль. Ларри не понимал зацикленности Габриэля на семейных проблемах, равно как и его стремлений делать акцент на мелочах. Ларри, будучи убежденным холостяком, никогда не связывал себя постоянными связями с девушками, не мечтал о детях, дорожил своей свободой и независимостью.
— Живи проще, — поучал Габриэля Ларри. — Для меня не существует другой любви, кроме науки. Все в этом мире непостоянно, кроме физических констант. Ты ведь помнишь, что к физическим константам относятся скорость света, постоянная Планка, заряд электрона, массы электрона и протона и гравитационная постоянная?
— Да, порядком запамятовал. А есть ещё и математические постоянные: число пи, золотое сечение, константа Хайтина, константа Непера и так далее, их около тридцати восьми, все не вспомнишь.
— Заметь, Габри, мир держится на этих константах, математических и физических. Была бы, допустим, гравитационная постоянная чуть выше, чем она есть, звезды были бы погорячее и стали бы нестабильными, была бы чуть меньше — звезды были бы холодными и неспособными к термоядерным реакциям. О чем это говорит? О правоте сторонников тонкой настройки Вселенной. Да, Габри, как бы тебе это не претило, но тот, кого некоторые называют Богом, все же существует. Удивительно, но некто до Большого взрыва, в небытии, обладая врожденными математическими способностями, установил необходимые постоянные и переменные и запустил реакцию, приведшую к зарождению Вселенной. Вот что для тебя Вселенная?
— То же, что и для всех философов. Объективная реальность, существующая независимо от нашего восприятия. Субъективное, конечно же, тоже имеется в наличии, но оно подобно платоновской пещере: люди, находящиеся в ней, видят свет, что брезжит за ширмой, но не каждый из них способен узреть истинное положение вещей. Мы ведь думаем, что приходим сюда жить, а на самом деле, по меткому выражению Мамардашвили, приходим занять точки пространства и времени, чтобы дополнить себя тем, чем мы сами не обладаем.
— Типичный ответ преподавателя философии. Для меня Вселенная — пространство, заполненное вакуумом, планетами, звездами, астероидами, метеоритами, черными и белыми дырами, квазарами, темной материей и темной энергией, имеющее диаметр двадцать семь миллиардов световых лет и радиус тринадцать миллиардов световых лет, постоянно расширяющееся с ускорением благодаря действию темной энергии. Такая Вселенная меня вполне устраивает. Она расширяется благодаря той же тонкой настройке. Вся сложная работа по настройке Вселенной была проведена до Большого взрыва. Надо было запрограммировать свойства объектов Вселенной, все остальное шло по заданным алгоритмам. Все детерминировано в этом мире, даже наш с тобой выбор. Мой выбор, например: я ведь предпочел занятия наукой семье и тихим заботам домоседа, и не думаю, что это обусловлено случайностями. При этом я, заметь, не монах от науки. Могу расслабиться, отдохнуть в свое удовольствие, для этого мы и живем.
— Живем не для этого, — возразил Габриэль, — вернее, не только для этого. Есть ещё совесть и способность рефлексировать.
— Оставь это адептам философии, Габриэль. Когда мы обратимся в прах, нам будет все равно, были ли мы праведниками или сибаритами. Господь или мозг Больцмана, кому как удобнее, не наказывает людей за грехи и не прощает, не слушает молитвы и не сидит в здании Страшного Суда, ожидая грешников с адвокатами и прокурорами, имеющими крылья, вросшие в ангельскую кожу. Бог создал Вселенную на основе констант, запустил механизм и теперь отдыхает где-нибудь в материнской для нашего мира вселенной, ведь он же не творил в абсолютной пустоте. Как там у Хайяма, помнишь?
«Что там за занавеской тьмы?
В гаданиях запутались умы.
Когда ж порвется с треском занавеска,
Увидим все, как заблуждались мы».
— Все проще, чем мы думаем, Габри. Бог — математик, в записной книжке которого земные математики подсматривают формулы и теоремы. Эти константы и переменные всегда были вплетены в ткань пространственно-временного континуума. Мир зиждется на них. Он детерминирован, наш мир. Именно поэтому нужно наслаждаться жизнью. В отсутствии свободы выбора и в присутствии всеобъемлющего принципа «мактуб» нам остается лишь одна вольность — гедонизм. Вот ещё строки из Хайяма.
«Пей, ибо скоро в прах ты будешь обращен.
Без друга, без жены твой долгий будет сон.
Два слова на ухо сейчас тебе шепну я:
Когда тюльпан увял, расцвесть не может он».
— Математик Хайям изрек все верно, Габри. Раз мы, подобно тюльпанам, имеем возможность цвести и благоухать здесь, то должны пользоваться всеми дарами Вселенной. Старик Хайям знал толк в удовольствиях.
— Да, здесь с тобой соглашусь, — сказал немного утомленный беседой Габриэль. — Хайям как никто другой умел чувствовать время, он понимал, что значит «здесь» и «сейчас», знал, что мы должны наслаждаться каждым мгновением. Вот ещё стихи от великого мыслителя Средней Азии:
«Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь,
Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь,
Ни былой, ни грядущей минуте не верь,
Верь минуте текущей — будь счастлив теперь!»
Водитель, молча слушавший разговор гостей, понимавший их речь, поскольку бегло разговаривал на английском, не выдержал и позволил себе вмешаться в беседу.
— А как хорошо сказал о времени наш философ и поэт Абай, вы только послушайте…
Водитель не стал полагаться на память и достал из бардачка небольшой томик стихов Абая.
«Часы — это воры, стучащие в такт
Тому, что уходит, скрывая свой шаг.
Не зная покоя, проносится время:
Пришло и ушло, не вернется никак».
— Браво Абаю! — зааплодировал Ларри. — К сожалению, наш гость не знает этого поэта и философа, ещё одного из величайших мыслителей Средней Азии.
— Ты прав, я не знаю его, хотя его портрет висит в моем кабинете в Корнельском университете, — ответил Габриэль. — Однако его мысли близки мне. Я большой поклонник мезоамериканской поэзии, но Азия благодаря вашему гению уже завоевала мое сердце.
— Предвижу твой восторг, Габри, когда ты прочтешь «Путь Абая», байопик, посвященный казахскому Шекспиру. Кстати, — Ларри обратился к водителю, — для местного жителя вы неплохо говорите на английском. Учились по «Болашаку»?
— Учился. Давно это было.
Водитель хотел ещё что-то сказать, но промолчал. В автомобиле повисла напряженная тишина, которую по прошествии пятнадцати минут нарушил Ларри.
— А хотите наглядно представить себе расширение Вселенной? Мысленно воссоздайте перед собой постоянно раздувающийся шар. — Ларри развел руками, показывая слушателям воображаемый шар. — Это и есть Вселенная, с некоторыми оговорками. На поверхности шара разместим маленькие наклейки. Расстояние между наклейками будет увеличиваться, а сами наклейки, естественно, — нет. То же с галактиками. Они — наклейки. Их размеры не меняются, чего не скажешь о расстоянии.
— Это интересно, — сказал водитель. — На самом деле, хоть этого по мне и не скажешь, я имею подкрепленное практикой представление о расширении Вселенной и обо всем, что связано с физикой, в частности, с квантовой механикой.
— Да? Теперь мне стало интересно, — Ларри приготовился слушать.
— Меня, кстати, зовут Акжан. С пассажирами вообще-то не принято разговаривать, но вы ребята особенные, для вас хочется сделать исключение. Так вот…. За рубежом я изучал IT-технологии и даже немного работал в компании, производившей квантовые компьютеры. Это, скажу вам, занятная вещь. Обычный компьютер работает по принципам классической механики. Он может предсказать погоду, показать будущее состояние кондратьевских волн, спрогнозировать финал футбольного матча или курс доллара на фондовой бирже, но за рамки классической механики выйти не способен.
— Да, все верно, Акжан. — Ларри вошел в раж, из которого, впрочем, и не выходил. — Прогноз погоды опирается на законы гидродинамики, описывающие движение атмосферы как сжимаемой жидкости, и осуществляется путем решения уравнений состояния идеального газа, переноса влажности, сохранения массы и движения тел в классической механике для конкретного состояния атмосферы. Прогнозы социальных катаклизмов, экономических показателей и исходов игр также имеют в своей основе законы классической механики. По траектории мяча нападающего, сложившейся в силу привычек и сноровки футболиста, легко определить исход матча. Передвижение денежных потоков ограничено скоростью грузовых перевозок. Делая политические революции, тоже невольно опираешься на классическую механику, куда же без нее?
— В точку. Только квантовые компьютеры по-другому работают. Они компетентны именно на квантовом уровне, где правит вероятность, поэтому он легко расшифровывает коды, выбирает верные методы для обучения систем искусственного интеллекта и подбирает нужные химические реакции для создания вакцины.
— Вы сейчас затронули важную для меня тему. Как человек, работавший с квантовыми системами, пусть и в IT-сфере, вы наверняка знаете о теории волны-пилота, интерпретации Эверетта, интерпретации фон Неймана-Вигнера и копенгагенской интерпретации?
— Безусловно. Но об этом в следующий раз, — водитель подал знак рукой, что машина приехала к месту назначения.
— Надо же, мы рядом с домом. За интересным разговором время летит быстро. Это ещё Эйнштейн заметил. Час с любимой и час в тюрьме — вроде бы они одинаковы по протяженности, но все же такие разные. Вот моя визитка. Преподаю в Нуртехе. Вы приятный человек, к тому же я с особым пиететом отношусь к англоговорящим.
— Будем знакомы.
Водитель повернул свое лицо к сидевшему рядом с ним Ларри и протянул руку. Черные глаза и волосы нового знакомого великолепно сочетались с его одеждой; темная рубашка аккуратно выглядывала из ворота куртки такого же цвета. Лицо у него было смуглое, характерное для местных жителей; узкие глаза смотрели на собеседника исподлобья; подбородок выступал вперед, что, по мнению физиогномистов, свидетельствовало о большой силе воли. На вид ему было лет тридцать — тридцать с небольшим.
Пока шел этот обмен любезностями, Габриэль уже вышел из машины; его голова испытывала боль от груза ненужной информации, от долгой дороги и болтливости Ларри.
***
Квартира Ларри находилась в поселке, где жили сотрудники Нуртеха, в самом начале Кремниевой степи. В глаза бросалась излишняя кичливость хозяина, кричащая роскошь. Ученые так не живут, подумал про себя Габриэль, зайдя в дом и осмотревшись кругом. Личный стол Ларри был завален листами с непонятными для Габриэля формулами, и лишь это обстоятельство свидетельствовало о том, что Ларри занимается наукой, а не является обычным прожигателем жизни.
Перебирая поздно ночью вещи, Габриэль обнаружил среди своих рабочих бумаг листок с формулами.
— Что это? — обратил внимание на листок бумаги сидевший рядом Ларри. Держа в руках смартфон, изготовленный специалистами Нуртеха, он играл в китайскую игру го, одну из самых любимых им игр, и лишь изредка обращал внимание на манипуляции с вещами, которые проделывал Габриэль.
— Не знаю, — растерянно ответил Габриэль, — я далек от математических формул; наверно, этот листок попал сюда случайно, когда я убирался у себя в кабинете, в Корнельском университете. Возможно, его зачем-то принес математик Уильямс и по рассеянности забыл. А я не заметил и положил его лист вместе с лекциями о Хайдеггере. Хотя, подожди, я кое-что припоминаю… Ну, конечно же…
Габриэль хлопнул себя по лбу: удивительно устроена человеческая память; человек помнит только то, что важно в данный момент.
— Мой беспечный студент Джон (я, к сожалению, запамятовал его фамилию) пересдавал мне экзамен и забыл в кабинете листок с формулами, приготовленный, скорее всего, для Уильямса, которому он тоже что-то должен. А я, не глядя на него, забрал этот злополучный лист с собой в Казахстан.
— Шпаргалка неуча, — презрительно зашипел Ларри. — Терпеть не могу таких студентов. Они у меня даже в другой семестр не проходят. Ты всегда был либерален с молодежью. Дай посмотреть на листок, хоть посмеюсь над ошибками.
Состроив насмешливую гримасу, Ларри принялся читать формулы и неожиданно для Габриэля громко выругался.
— Черт возьми, Габри! Откуда это у тебя?
— Я же сказал, беспечный студент…
— Я не об этом. Откуда у тебя ключ к Теории Великого Объединения? Я бьюсь над этим ребусом с тех пор, как узнал о споре Эйнштейна с Бором.
— «Бог играет в кости». Это оттуда?
Ларри кивнул; в его глазах появился блеск, присущий людям, находящимся в состоянии инсайта.
— Значит, что-то из курса физики все-таки помню. Я очень не любил ее, как ты помнишь.
— Зато я любил. И пронес эту любовь через всю жизнь. Наука умеет много гитик, то бишь вариантов или стратегий. Этим она и интересна. Формулы в записях неуспевающего студента, всего пять формул, объясняют, как можно объединить четыре взаимодействия, между которыми, на первый взгляд, нет никакой связи. Первые три, впрочем, давно объединены, так что теперь дело за малым. Мне бы так не успевать! Он вывел формулы, к которым я ни на шаг не мог приблизиться все эти долгие годы, делая гуголплекс безуспешных попыток. Конечно, эти формулы не дают окончательного ответа на все вопросы физиков, но это уже наполовину приоткрытая дверь. Дверь, которая полстолетия после Сольвеевского конгресса оставалась наглухо захлопнутой.
— Я ничего не понимаю, Ларри. Как это возможно, чтобы на обрывке писчей бумаги находился ответ на половину вопросов всех физиков мира?
— Как видишь, возможно.
— Так ты можешь на основании этих формул создать теорию этого… великого? Как ты его назвал?
— Объединения! —подсказал Ларри. — Или Теории Всего, как её по-другому называют. Все возможно. Я бы хотел рассказать тебе об этом, Габри, но боюсь, ты не поймешь. Как ты сам признал, физика никогда не была твоим коньком.
— Я постараюсь, — решительно, но неожиданно для себя, сказал Габриэль.
Впервые в жизни ему захотелось понять основы запредельной для него науки. Все свое существование Габриэль изучает философию, безуспешно ищет ответы на вопросы бытия, а истина, как оказалось, у физиков. Бог играет в кости. Или не играет? Это вопрос прежде всего для философов. А физик Ларри Грант очень скоро, если Провидение даст ему возможность разобраться в формулах, расправится с этим вопросом с такой же быстротой, с какой вундеркинд в игре «Кто хочет стать миллионером?» опустошает призовой фонд интеллектуальной передачи. Нет, я должен понять, сказал себе Габриэль.
— Добро пожаловать в наш клуб, Габри. Начну с азов. Мне как раз необходимо освежить все свои знания. Может быть, в разговоре с тобой я изобрету Теорию Всего.
За окном падали метеоры, ярко светила полная луна, бросавшая блики лучей на поверхность стекла. Казалось, что даже видимая с Земли часть космоса располагает к беседе на научные темы.
— Вселенная началась с Большого взрыва, — сказал Ларри Габриэлю, глядя на него своими пронизывающими темными глазами. Глазами гения.
— Что такое Большой взрыв с точки зрения твоей науки? — спросил Габриэль. — Я, конечно, читал Анри Бергсона, но мне интересен взгляд физика.
— Начнем с того, что Большой взрыв произошёл из сжатой до предела сингулярной точки.
— Что же представляет собой сингулярность, опять же с точки зрения физики? — последовал новый вопрос.
— Это очень легко. Представь себе звезду примерно в тридцать раз больше и тяжелее нашего Солнца. Такая звезда носит название «Сверхгигант» и является сверхновой звездой. В конце эволюции сверхновой происходит термоядерный взрыв или коллапс. Подобные взрывы хоть и несут с собой разрушение и гигантское количество радиации, но в то же время являются также строительным материалом, кирпичами для образования новых звезд, планет и даже их обитателей. Дело в том, что только вследствие подобных взрывов образуются такие химические элементы, как платина, золото, серебро и железо. Наша звезда Солнце является средней по величине и нам не грозит превращение её в черную дыру или во что-то подобное. В итоге через восемь миллиардов лет Солнце превратится в Белого карлика, в центре которого будет концентрированный углерод, то есть гигантский алмаз.
— Алмаз?
— Именно так, ведь земной алмаз не что иное, как аллотропноая форма углерода. Но вернемся к нашим сверхновым. В сверхновых все происходит по-другому. После стадии сжигания гелия они, как и обычные звезды, начинают сжигать углерод, синтезируя его в кислород. Но когда синтез доходит до стадии образования железа, вместо того, чтобы взорваться и превратиться в Белого карлика, звезда почему-то «решает» синтезировать из железа что-то еще, но ей не хватает для этого энергии. В итоге звезда, примерно размером с нашу Солнечную Систему, сжимается, и внешняя оболочка отходит. Звезда становится размером со средний город. Железное ядро и все, что осталось от него, сжимается и закрывается, выделяя энергию, все-таки достаточную для синтеза таких элементов, как золото, платина и серебро. Это называется коллапсом, что означает образование черной дыры, которая начинает «поедать» все, что осталось от ядра и оболочки, не успевшей улететь.
Черная дыра испускает излучение Хокинга и не подчиняется законам, действующим в нашей вселенной. Таким образом, вселенная, в которой находится черная дыра, может повлиять только на её образование.
Из-за неподчинения законам классической физики черная дыра тоже не может повлиять на вселенную, в которой находится. Испуская излучение Хокинга, черная дыра сжимается. Таким образом, если это излучение достаточно сильное, то черная дыра скоро сожмется до состояния сингулярности. И произойдет Большой взрыв. Отсюда вытекает одна из самых экзотических теорий насчет образования нашей вселенной, по которой число вселенных — бесконечное множество. И каждая из них происходит из другой, при этом в своем пространстве являясь бесконечной и никак не пересекаясь с другими вселенными, одна из которых, возможно, породила именно ее.
Смекнув, что его импровизированная лекция начинает утомлять Габри, Ларри решил перейти к земным темам.
— Когда моя мама, привившая мне любовь к физике, объясняла мне то же самое, о чем я сейчас тебе говорю, я понимал не всё. По прошествии многих лет догадки матери о множественности вселенных и серии больших взрывов стали высказывать ученые с мировым именем, такие, как Стивен Хокинг и Кип Торн. Именно под влиянием матери я выбрал профессию астрофизика.
— Твоя мама была замечательным человеком. Я помню ланчи на траве, долгие разговоры и беспечное времяпрепровождение в выходные дни. Наши семьи обедали вместе.
— И мы с тобой никогда не досиживали до конца. Ты всегда уводил меня с собой в лес, полюбоваться муравейником. Помнишь? Муравьи как мы, говорил ты. Они строят, любят, страдают. Как мы. Но мы не способны их понять.
— Помню. Но сейчас речь не об этом. Ты обещал рассказать.
— Разговор долгий. Уже пора спать. Пожалуй, я составлю для тебя конспекты, чтобы тебе было понятно. Может быть, пригодится. Вдруг я не успею закончить работу над Теорией Всего…
Ларри осекся. Он словно хотел сказать что-то страшное, но предпочел пощадить друга. Габри посмотрел на него широко открытыми глазами, не веря словам Ларри.
— Шучу, — сухо посмеялся, вернее, попытался изобразить смех, Ларри. — Не обращай внимания. Пригодится в любом случае. Вдруг мемуары о моем открытии напишешь. Впрочем, перейдем к делу. Завтра ты познакомишься с владельцем большинства зданий Кремниевой степи и ректором Нуртеха Андреем Вайнбергом.
— Это тот самый человек, который занимает третье место после Джеффа Безоса и Илона Маска в списке «Forbes» и является одним из немногих триллионеров Земли?
— Да, сказочно богатый немец казахстанского происхождения. Жил в Германии, владел самым успешным парком технологий в Европе, затем решил вернуться на родину и стал инициатором создания Кремниевой степи. Чакрабарти приложил немало усилий, чтобы диалог Вайнберга с правительством Казахстана стал возможным. Такими людьми как Вайнберг нужно восхищаться. У него к тебе очень интересное предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Прими во внимание тот факт, что Вайнберг — большой поклонник научной фантастики, и именно эта любовь стала стимулом для того, чтобы Нуртех и все, что с ним связано, претворилось в реальность.
***
И сказал Бог: «Да будет свет». И был свет, и не было тьмы. И сказал в тысяча девятьсот пятьдесят первом году декан инженерного факультета Стэнфордского университета Фредерик Терман: «Да будет Стэнфордский индустриальный парк». И был парк, и не было у Кремниевой долины недостатка в компаниях, производивших кремниевые полупроводники.
Но все же настоящий расцвет долины пришелся на тысяча девятьсот пятьдесят пятый год, когда в Калифорнию переехал физик Уильям Шокли, основавший здесь фирму, бывшую некоторое время довольно успешной. На этом поприще Шокли в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году удостоился Нобелевской премии за изобретение биполярного транзистора. Когда компанию по причине авторитарного стиля Шокли покинули восемь высококлассных специалистов, так называемая «вероломная восьмерка», Шокли обанкротился и устроился в Стэнфордский университет преподавателем. Бывшие подчиненные Шокли основали огромное количество конкурирующих компаний, благодаря которым Штаты стали центром развития компьютерных технологий.
В трудные годы восстановления мира после коронавирусной пандемии все развитые страны сосредоточились на нанотехнологиях. Триллионер из Германии Андрей Вайнберг смотрел дальше всех и предпочел заняться квантовыми компьютерами, к которым другие бизнесмены подступали весьма осторожно. В то время о квантовой механике говорили много, но считали её реальностью завтрашнего дня. Уже была открыта невозможность «эффекта бабочки» в квантовом мире и изобретено квантовое го, уже создали операционную систему для квантового компьютера, но человечество было ещё безмерно далеко от использования квантовых технологий. Вайнберг основал в Штутгарте Центр технологий, собрал лучших специалистов Германии и добился успехов в области квантовой криптографии. Не забыв о своей Родине — Вайнберг вырос в Казахстане и в лихие девяностые с грошами в кармане спешно уехал в ФРГ в поисках лучшей жизни, — эксцентричный бизнесмен по приглашению Чакрабарти приехал с визитом к президенту Касым-Жомарту Токаеву и предложил казахстанским властям идею Кремниевой степи — первого постсоветского технополиса в Средней Азии. Вайнберг вложил в развитие Кремниевой степи и построенного в ней Нур-Султанского Технологического Университета (сокращенно — Нуртех) большую часть своих средств; помимо него свои стартапы в Кремниевой степи запустили другие выходцы из Казахстана, ныне граждане США, Англии и Германии, решившие вернуться на Родину.
Кремниевая степь общей площадью двенадцать тысяч восемьсот десять квадратных метров раскинулась недалеко от здания в форме шара, в котором ранее проводилась Международная выставка «Экспо — две тысячи семнадцать».
В центре — здание Нуртеха в форме гиперкуба, вокруг него — павильоны, где специалисты «кудесничали» над квантовыми компьютерами, разрабатывали нанороботов по завету Фейнмана, давшего зеленый свет нанотехнологиям незабвенной лекцией «Там, внизу, полно места». Павильоны окружены широкими парками и каналом, опоясывающим технополис, раскинувшийся посреди степи.
Кремниевая степь поразила воображение Габриэля Кортеса великолепием зданий и грандиозностью архитектурных замыслов. Габриэль нашел Нуртех одним из самых красивых технологических университетов мира. Он очень быстро устроился на работу в Нуртех. Обстановка в учебном учреждении нравилась ему, студенты отлично говорили на английском и добросовестно выполняли домашние задания профессора Кортеса.
В первый день, до начала занятий, Ларри познакомил Габриэля с Вайнбергом. Андрей был высоким атлетически сложенным человеком, при этом слегка сутулившимся. Лишенная растительности большая голова Вайнберга производила неизгладимое впечатление выдающимися скулами лица и крупным носом. Он всегда носил футболки и спортивные штаны, поскольку терпеть не мог пиджаки и брюки. Свой день Андрей начинал с пробежек и поднятия тяжестей в фитнес-зале. На завтрак он выпивал стакан молока, съедал пару хрустящих хлебцев, брал ховерборд и мчал над дорогой с магнитным покрытием до Нуртеха — жил Вайнберг в самом начале Кремниевой долины, там, где находился поселок с многоквартирными домами работников технополиса, но чуть подальше от квартиры Ларри.
Вайнберг обнял Кортеса так, будто они были знакомы вечность, подал пухлую руку для рукопожатия, но тут же убрал ее, извинительным тоном сказав: «Не пожимаю по привычке. Коронавирус отучил».
Вайнберг предложил прогуляться по аллее напротив Нуртеха. Лучи солнца мягко скользили по граням гиперкубического здания, легкий ветерок приводил в движение ветряки, неровными рядами расположившиеся вдоль павильонов.
— Как вам Казахстан, господин Кортес?
Вайнберг говорил размеренно, будто никуда не спешил, с хорошей дикцией, внимательно глядя в глаза собеседнику. Он умел слушать и, взглядом сканируя говорящего, подмечал важные для себя детали.
— Пока ещё не освоился.
— Ах, да, вы же только вчера приехали. Ларри, что же ты перед встречей со мной не прокатил друга по Нур-Султану?
— Я был всю ночь занят расчетами, заснул под утро и едва не проспал. Хорошо, что Габри разбудил.
— Над чем ты работал?
— Я нашел ключ к Теории Всего.
Сутулившийся время от времени Вайнберг вмиг выпрямился и подошел близко к Ларри.
— Ты имеешь в виду…
Ларри утвердительно кивнул, оглядевшись вокруг, будто боялся, что их услышат. Вайнберг обрадовался и обратился к Габриэлю:
— Я собирался поговорить с вами о научно-фантастической литературе и только потом рассказать о причине, побудившей меня пригласить вас в Казахстан. Но прелюдии придется отложить. Вы знаете, чем квантовый компьютер должен отличаться от обычного?
Габриэль вспомнил беседу Ларри с водителем такси и с уверенностью ответил:
— В основе работы обычного компьютера лежат принципы классической механики, объясняющей наш макромир.
— Верно. Наш с вами макромир, как вам наверняка известно из «Корана», детерминистский, причинно-следственный, в нём все — и люди, и животные, и поток времени — «мактуб». У макрообъектов нет свободы воли, у истории нет сослагательного наклонения, в нашей двоичной системе счисления нуль всегда нуль, а единица — это только единица. Вы знаете, над чем мы здесь в основном работаем?
— Над квантовыми компьютерами.
— Да. За ними будущее. Ларри занимает в Кремниевой долине две должности. Днем он преподает астрофизику в Нуртехе, а в остальное время руководит группой специалистов, бьющихся над достижением квантового превосходства. Он ещё заведует Урхраном, организацией по хранению ядерных арсеналов, но это уже не в моей компетенции, там государственный заказ. Здесь же мы работаем в свое удовольствие. Я не физик, я просто любитель научной фантастики, не смотрю и не читаю ничего, что не связано с ней. Став богатым, я решил посвятить жизнь науке, приблизить будущее. Впрочем, наука для меня до сих пор тайна за семью печатями, да и зачем мне изучать ее, если на меня работают настоящие гении? Поэтому я не буду говорить того, чего сам не знаю. Даю слово Ларри.
Ларри понял, что его просят просветить Габриэля, и заговорил настолько уверенно, насколько ему это позволяла усталость от ночного бдения:
— В основе работы квантового компьютера лежат принципы квантовой механики, объясняющей микромир. Квантовые компьютеры не могут использовать привычную двоичную систему счисления, в нашем макромире бит — либо единица, либо нуль, а в микромире бит — и нуль, и единица, то есть уже не бит, а кубит, то бишь квантовый бит. У объектов в квантовом мире, другими словами, микромире, есть свобода воли, он не детерминистский, а вероятностный, потому и говорят, что в квантовом мире Бог может позволить себе игру в кости. Довольно сложно создать компьютер, — дословно, вычислительную машину, — работающий на принципах мира, где правит вероятность и где нет причинно-следственных связей. Квантовый алгоритм компьютера работает не на детерминистских началах, а угадывает простые множители с вероятностью правильного ответа больше пятидесяти процентов и находит их экспоненциально быстрее, чем обычный алгоритм.
— А в чем причина медлительности современных вычислительных машин? — спросил Кортес. Его не смущало собственное невежество в точных науках, наоборот, ему было интересно познавать новое.
— Они медлительны по той простой причине, что полезную работу в них совершают лишь электроны, перемещающиеся внутри транзисторов. Основная масса компьютера не используется как источник энергии, напротив, она препятствует свободному движению носителей заряда. В квантовом компьютере роль транзисторов играют кубиты, при таком раскладе полезную работу совершает весь компьютер, отсюда и небывалая быстрота вычислений. По сути, сейчас мы имеем дело не с квантовыми компьютерами, потому что на самом деле их ещё нет нигде на земном шаре, а с группами запутанных кубитов в процессоре. Они недолговечны и нестабильны, поэтому их приходится хранить в огромных холодильных камерах с жидким гелием, поддерживающих температуру чуть выше абсолютного нуля.
— Ближе к делу, Ларри, — перевел разговор на другие рельсы Вайнберг. — Мы покажем господину Кортесу наш действующий квантовый процессор, и он сам все увидит. Расскажи лучше об интерпретациях квантовой механики. Господин Кортес должен знать о том, что будет его непосредственной задачей.
— Охотно расскажу и об этом. На заре квантовой механики существовала её единственная на тот момент интерпретация — копенгагенская интерпретация. Дело в том, что элементарные частицы, в отличие от объектов в макромире, ведут себя очень странно. Это выяснилось при проведении опыта с пластиной, имеющей две щели, через которые проходит луч света. Каждый из фотонов за одну единицу времени должен проникать за пределы пластинки только через одну щель, ведь он же не может проходить одновременно через два отверстия. Но возникает парадокс. Когда на фотон никто не смотрит, он одновременно…
Ларри выделил это слово, произнеся его по-особенному громко. Усталость как рукой сняло. Он снова стал бодрым и полным сил.
— Одновременно проходит через две щели, чего не может быть. Вы же не можете находиться сразу в двух местах. А фотон может. Когда он проходит через две щели одновременно, то ведет себя как волна, оставляя интерференционную полосу, которая позволяет ученому сказать, что фотон прошел через две щели, хотя ученый этого не видел. Тогда исследователи решили пойти на хитрость. Они включили датчики слежения, то есть создали эффект наблюдателя. Оказалось, что фотон как будто понимает, что за ним наблюдают, и принимает лишь одно положение: он проходит только через одну щель, то есть проявляет себя как частица. Отсюда и термин «корпускулярно-волновой дуализм». Фотон может вести себя как волна, а может проявлять себя как частица. Чтобы объяснить миру опыт с двумя щелями, а заодно и законы непонятного квантового мира, отец квантовой механики Эрвин Шредингер в тысяча девятьсот тридцать пятом году придумал игровую ситуацию с котом — парадокс кота Шредингера. Кот сидит в закрытом ящике, подобно фотону перед одной из щелей пластинки. Он и жив, и мертв одновременно. Наблюдатель открывает ящик. Кот принимает одно из положений: он либо жив, либо мертв. Пример Шредингера наглядно иллюстрирует интерпретацию двухщелевого опыта. Эта интерпретация была сформулирована Гейзенбергом и Бором раньше, чем Шредингер придумал своего кота — в тысяча девятьсот двадцать седьмом году в Копенгагене. Она гласила, что в квантовом мире нет детерминизма, нет предопределенности, а есть вероятность и случайность. Эйнштейн тогда ещё пошутил: «Хотите сказать, что Бог играет в кости?»
— Думается, копенгагенская интерпретация неспроста не устраивала фаталиста Эйнштейна, к тому же воспитанного в иудейской традиции, — рассудил вслух Габриэль. Сейчас он ступил на тропу философии, на которой очень хорошо ориентировался. — Если детерминирован макромир, то почему такого не может быть в микромире?
— Именно так считают сторонники другой интерпретации — интерпретации де Бройля-Бома. — Ларри жестом пригласил собеседников сесть на скамейку. — Копенгагенская интерпретация не утруждается толкованием, почему фотон «решает» поступить именно так и чем обусловлен его выбор. А де Бройль и Бом объясняют, что фотон находится в двух состояниях до наблюдателя и в одном при наблюдателе, но это обусловлено законами, одинаковыми для микромира и макромира. Он ведет себя так, потому что такие поступки предопределены и их можно математически просчитать. У него есть скрытые параметры, позволяющие ему подобные фокусы. Эти параметры долго искали и в конце концов не нашли Эйнштейн, Подольский и Розен.
— Смею заметить, — вмешался в монолог Ларри Вайнберг, — что интерпретация де Бройля-Бома, носящее ещё одно название, «волна-пилот», не единственная детерминистская. Есть ещё одна, которую я больше всего люблю. Многомировая интерпретация Эверетта.
— Она и мне нравится, — поддержал босса Ларри. — Эта интерпретация постулирует существование параллельных реальностей, где мы сделали другой выбор. То есть наш шаг не предопределен, точнее, не предопределен в рамках мультиверса; есть вероятность, что мы можем поступить иначе, правда не здесь, а в другом, похожем на нашу вселенную, мире. Когда фотон проходит сквозь две щели, это на самом деле иллюзия. Он всегда проходит сквозь одну щель. Просто при отсутствии наблюдателя рождается мир, параллельный нашему. В нём фотон прошел в другую щель. Когда появляется наблюдатель, он видит только одно состояние, в котором фотон всегда находился в этом мире. Узрев интерференционную полосу, ученый считает, что фотон прошел сквозь две щели одновременно. На самом деле интерференционная полоса — след от пересечения нашего мира с параллельным.
Все трое улыбнулись. Они представили себе, как в другой вселенной каждый из них ведет себя иначе. Ларри встает со скамейки, в то время как в этом мире он остается в сидячем положении. Вайнберг в другом мире предпочел поспать и пропустил встречу с Габриэлем. Кортес из иной Вселенной, возможно, вовсе не вылетел из Штатов. Одна и та же личность сделала диаметрально противоположный выбор в разных мирах, проявила свободу воли, породив невидимую глазу интерференционную полосу. В космическом масштабе, с точки зрения вездесущего наблюдателя, кажется, что Габриэль одновременно и здесь, и в Итаке, в суперпозиции.
Увидев, что настроение Кортеса улучшилось, Ларри решил упомянуть о четвертой интерпретации.
— На стороне детерминизма ещё одна интерпретация — интерпретация фон Неймана-Вигнера. Согласно ей, на фотон воздействует человек-наблюдатель. Это он вынуждает фотон принимать вместо двух одновременных положений лишь одно. Данная интерпретация отрицает вероятность, а значит и свободу воли фотона. Поступок фотона предопределен воздействием сознания наблюдателя. Фотон может быть в двух состояниях одновременно, для него это нормально, но мозг наблюдателя, сам того не зная, подсознательно дает ему команду принять одно состояние. Сознание наблюдателя хочет, чтобы у фотона был лишь один вариант развития событий, ведь мы привыкли к тому, что объект находится лишь в одном месте. И фотон вынужден подчиниться наблюдателю.
Вайнберг зааплодировал. Эксцентричному триллионеру нравились умные люди, ему импонировали специалисты своего дела; он всерьез полагал, что общество ошиблось, не дав власть ученым. Служителей науки часто обвиняют в том, что они едва не погубили мир атомными бомбами и участвовали в организации принудительной стерилизации евреев во времена Холокоста, но ведь ученые просто-напросто выполняли волю политиков. Будь у ученых реальная власть, они распорядились бы ею правильно.
— А теперь к сути дела, мистер Кортес. Я пригласил вас в Казахстан не просто как преподавателя философии. Вы нужны мне в качестве профессионала, способного обосновать целесообразность важного для меня проекта.
— Не понял вас.
— Видите ли, я только что попросил Ларри рассказать об основных интерпретациях квантовой механики. Сделано это было для того, чтобы продемонстрировать вам доминирование числа интерпретаций, защищающих детерминизм. В то же время мой проект как раз-таки должен продемонстрировать существование свободы воли. Вы сами какой концепции придерживаетесь?
— Я убежден, что человек обладает свободой воли, несмотря на то, что мой отец был детерминистом и убедительно доказывал мне, что можно прогнозировать будущее на основе имеющихся в мире закономерностей. В частности, он изучал кондратьевские волны.
— Интересное учение. Но я предпочитаю жить в мире, где мы можем выбирать будущее. Я хочу признаться вам в том, что квантовые компьютеры, достигшие превосходства над классическими вычислительными машинами, не являются моей истинной целью. Да, это действительно реальность завтрашнего дня. Но я смотрю в послезавтра. Я читал работы вашего отца Марка Кортеса. И знаю, что послезавтра люди будут пользоваться другими компьютерами, не квантовыми.
— Релятивистскими? — спросил Габриэль. Он вспомнил школьный курс физики, где помимо классической и квантовой механик упоминалась релятивистская механика.
— Нет, вы не угадали. Компьютер, работающий на принципах релятивистской механики, в чистом виде пока не создан, — да и вряд ли это будет возможно в макромире, это скорее задача для мегамира, — но зато на этих принципах работают GPS. Я говорю о другом. Вы смотрели сериал «Разрабы»?
— Смотрел. Я, правда, мало что в нём понял.
— Неважно. Этот сериал мало кто понимает. Его суть такова. Бизнесмен Форест после гибели дочери, произошедшей по его вине, хочет научным способом доказать, что мир детерминирован, и таким образом снять с себя вину, ведь если смерть его дочери Амайи была предопределена, значит, его вины в случившемся нет. Богатый Форест нанимает гениев квантовой механики, которые создают самый совершенный квантовый компьютер, способный воспроизводить состояние элементарных частиц в любой точке пространства и в любой исторический период. Благодаря визуализации реальности Форест может видеть на экране компьютера с программой-эмулятором и прошлое, и будущее, причем будущее нельзя отменить, все происходит точь-в-точь, как показано посредством квантового процессора. Именно этот сериал вкупе с мечтой детства побудил меня создать технопарк в Штутгарте. Я долго советовался со специалистами и пришел к выводу, что квантовый компьютер не может показывать прошлое и будущее.
— Подтверждаю, — согласился Ларри. — Это невозможно. Квантовый компьютер не сможет смоделировать будущее макромира, он ведь работает с информацией на квантовом уровне, а в квантовом мире, согласно копенгагенской интерпретации, признанной на сегодняшний день самый верной, нет детерминизма. Наш мир детерминирован, поэтому квантовые компьютеры нам не помогут. Там даже кубит может быть и нулем, и единицей одновременно.
— Мы научимся прогнозировать будущее, точнее, его варианты, когда создадим компьютер, работающий на принципах Теории Всего, — уверенно произнес Вайнберг. — Эта теория объединит все виды фундаментальных взаимодействий, а значит, даст ответы на многие вопросы физики, в том числе на вопрос о природе времени. Если мы сконструируем вычислительную машину, работающую на принципах Теории Всего, это будет уже не компьютер, а настоящий навигатор времени, показывающий нам возможные варианты будущего. Представляете, как изменится жизнь? Мы сможем выбирать удобный для нас вариант ближайшего будущего.
— Замечательно, — уставший от многословия красноречивых собеседников Габриэль еле заметно улыбнулся. — Зачем же вам я? Ларри нашел ключ к Теории Всего, он может создать для вас такой компьютер, а я для чего нужен?
— Ну, я же вам толкую целый час, Габриэль. — Вайнберг начал терять самообладание. — Вы — сторонник концепции свободы воли, у вас есть работы, посвященные этой теме, вы компетентны в данной области, а значит, только вы сможете обосновать возможность создания навигатора времени с философских позиций. Общество следит за действиями технологических гигантов. Люди боятся, что мы захватим мир, будем диктовать человечеству, как ему жить и что есть на завтрак. Я все делаю в рамках закона. Я не Форест из сериала и не Виктор Франкенштейн. И, конечно же, не Оппенгеймер, приложивший руку к атомным бомбардировкам городов. Но мне никто не верит. Люди смотрят с подозрением даже на квантовые компьютеры. Поэтому мне нужен философ, который обоснует правоту сторонников концепции метафизического либертарианизма.
Габриэль, нахмурился, потер двумя пальцами правой руки лоб, что обычно делал в минуты сомнений, немного помедлил и ответил:
— Мне нужно подумать, господин Вайнберг. Все изучить. Я давно не работал с детерминистскими и вероятностными концепциями. Да, у меня есть книги по этой теме, и одно время меня считали ведущим специалистом, но это было три года назад, с тех пор я не занимался вопросом о свободе воли.
— Неважно. У вас есть опыт, и вы сможете вернуться к этой проблеме. Думайте, работайте. Сегодня вы приступаете к преподаванию философии. В учебной программе Нуртеха есть несколько разделов, посвященных детерминизму, специально для студентов, изучающих квантовую механику. Так что у вас будет много времени.
Вайнберг проводил Кортеса и Гранта до Нуртеха и попрощался с ними у главного входа.
— Ларри познакомит вас с коллегами и студентами. Я вынужден оставить вас. Мне нужно поиграть в го. Это единственное занятие, которое придает моему мозгу нужную для здоровой деятельности форму.
***
Калтех дал миру тридцать одного нобелевского лауреата. Два великих физика Фейнман и Гелл-Манн, создавшие Стандартную модель физики элементарных частиц, преподавали в Калтехе. По сей день Калтех остается самым престижным университетом для абитуриентов, желающих внести вклад в мировую науку.
Нуртех создавался как альтернатива американскому Калтеху и российскому Сколтеху и, по всей видимости, не желал уступать им в количестве высокопрофессиональных преподавателей и выпускников-лауреатов престижных премий. Этот амбициозный проект был по большому счету детищем одного человека — эксцентричного триллионера Вайнберга. Андрей Вайнберг работал в Советском Союзе инженером; после Развала многие предприятия были закрыты, и Андрею пришлось уехать на историческую родину. В Германии он долго занимался ресторанным бизнесом, до тех пор, пока не накопил достаточно денег для того, чтобы осуществить мечту детства и основать наукоград рядом со Штутгартом. После обретения личного счастья Вайнбергу захотелось сделать что-то хорошее для страны, в которой он родился. Основав Кремниевую степь в Нур-Султане, Вайнберг сосредоточился на развитии Нуртеха и взял шефство над ним, вступив в должность ректора.
В просторной студенческой аудитории, оснащенной новейшей акустической аппаратурой, Габриэль Кортес поприветствовал студентов и привычно занял место за кафедрой. Студенчество постепенно отвыкало от дистанционных форм работы, к которым вынуждено было обратиться в период коронавирусной пандемии. Высшее образование понесло заметный урон, и университеты поставили перед собой планку — сократить протяженность каникул. Студенты отнеслись к решению начальства с должным пониманием.
Кортес почувствовал, что внутренние резервы возвращаются к нему; апатия и усталость наконец-то покинули Габриэля, уступив место спокойствию и оптимизму.
— Прежде, чем я начну лекцию, мне хотелось бы попросить поднять руку тех, кто любит жизнь.
Увидев, что руки подняли все, Кортес ещё больше воодушевился и продолжил занятие.
— Что и следовало ожидать. Франсуаза Саган сказала, что тому, кто любит жизнь, не хватит слов, чтобы описать ее. Я добавил бы к её изречению, что мы не смогли бы не только описать, но и объяснить нашу любовь к жизни. Фрейд называл влечение к жизни Эросом и считал его составными частями инстинкт самосохранения и желание продолжить род. А теперь поднимите руки те, кого, наоборот, когда-либо влекло к смерти. Только честно.
Результат оказался тем же. Все вспомнили предательские минуты отчаяния или адского измора, когда хотелось согласиться с Альбером Камю в том, что самоубийство — самый серьезный вопрос философии.
— Как видите, я в этом вопросе не оригинален и тоже поднимаю руку вместе с вами в обоих случаях. Влечение к смерти Фрейд называл Танатосом и считал его оборотной стороной Эроса. Влечение амбивалентно, то есть двойственно, включает в себя два полюса, два отрицания самого себя. Каждый из нас имеет свободу выбора по отношению к каждому из этих двух влечений. Свобода выбора актуальна и в конкретных и в глобальных ситуациях, и, как правило, возникает в тех случаях, когда мы стоим лицом к лицу с амбивалентным. Амбивалентно все, даже человеческая цивилизация. Как вы считаете, что такое цивилизованность?
Все студенты сошлись во мнении, что понятие «цивилизованность» связано с термином «культура».
— Все верно. Мы часто называем культурного человека цивилизованным, показывая этим, что для нас данные прилагательные синонимичны. Но цивилизация — это больше, чем просто культура или воспитанность. Это определенный уровень технологий и общественных отношений. Римский водопровод, британская железная дорога, квантовый компьютер в Калифорнии или у нас в Нур-Султане — это цивилизация. Довольно интересен забавный лингвистический факт: в переводе с латинского «civilis» означает «гражданский». Здесь необходимо учесть, что в Риме гражданином считался не каждый, кто жил в нем, включая рабов, а только свободный человек, патриций или плебей, имевший возможность получить хорошее воспитание, усвоить римскую культуру, обладать доступом к существовавшим тогда технологиям. Таким образом, вы сами можете убедиться, что цивилизация амбивалентна — она подразумевает с одной стороны определенный уровень культуры, с другой — соответствующий уровень технологий.
— А что вы скажете о конце цивилизации, провозглашенном Фукуямой? — спросил один из студентов, смуглый юноша в правом ряду.
— Я понял, какую работу Фукуямы вы имеете в виду. Мало кто обращает внимание на то, что он в этой статье ставит знак вопроса после словосочетания «конец истории», то есть вопрошает читателя, напоминая ему, на каком этапе истории тот находится. Если принять во внимание год написания статьи — лето тысяча девятьсот восемьдесят девятого года, когда в социалистическом лагере уже было неспокойно и до сноса Берлинской стены и гибели Чаушеску оставалось меньше полугода, — многое в этой статье обретает ясные черты. Мир становился монополярным, и большинству философов казалось, что больше не будет ничего нового: либерализм — последнее политическое течение, капитализм — последний способ производства предметов потребления. Уничтожь их — и лишишь последнего человека комфорта. Фукуяма — апологет либерального образа жизни, он считал, что альтернативы европейским идеалам, провозглашенным ещё Великой Французской революцией, попросту нет. Но прошло время, и идеи Фукуямы устарели. История не закончилась.
— Потому что появился Хантингтон? — спросила студентка с русской внешностью. Она слушала профессора, затаив дыхание, внимая каждому движению рук любившего жестикулировать Кортеса.
— Именно. В точку. — Габриэль восторженно улыбнулся, порадовавшись всплескам интеллектуальной энергии молодых казахстанцев. — Учитель Фукуямы Хантингтон стал главным оппонентом своего ученика. Он заявил, что история продолжается, что она не застыла в стадии либеральных реформ, что цивилизация не просто сочетание культуры, технологий и свободы участников исторического процесса, цивилизация — это постоянный конфликт культур, начавшийся в незапамятные времена и обреченный не закончиться никогда. Воюют религии, воюют идеологии, воюют языки. Цивилизация вообще невозможна без конфликта, это её родимое пятно. С Хантингтоном я во многом согласен, кроме, пожалуй, одного пункта. Я считаю, что новый виток в развитии цивилизаций начнется тогда, когда человечество проявит свободу воли в глобальном смысле этого слова и устранит саму возможность возникновения конфликтов. Многие из вас наверняка читали роман Орсона Скотта Карда «Искупление Христофора Колумба». В нём герои находят поворотный момент мировой истории — открытие Колумбом Нового Света — и меняют его, создавая идеальную историю без конфликтов и ошибок, стоивших человечеству страшной экологической катастрофы и неминуемого вымирания. Возможно ли это? Существуют, по крайней мере, две точки зрения на этот вопрос. Детерминисты утверждают, что история неизменна, она словно застыла во всем своем многообразии цивилизаций, сторонники наличия в мире свободы воли, напротив, считают, что если бы мы доподлинно знали, какими будут последствия совершаемого нами поступка, то могли бы сделать выбор в пользу наиболее благоприятного варианта. Кто помешает мне не выходить на улицу, если я буду знать, что через пять минут мне предстоит погибнуть под колесами автомобиля прямо под окнами моего дома? На мой взгляд, высказывание «чему быть, того не миновать» очень сомнительное и надуманное. Скучно жить в запрограммированном мире, где нет других вариаций, где возможность выбирать есть только у элементарных частиц. У детерминизма много сторонников только потому, что никто ещё не доказал обратное. Мы не можем видеть будущее и вследствие этого не способны предотвратить нежелательные события. Найди мы лазейку в картине мира, как изменилось бы положение вещей?! Тогда бы мы точно знали, что предначертанной судьбы и предопределенности не существует. Возвращаясь к моей мысли о свободе воли в глобальном масштабе, я экстраполирую понятие реальности выбора в конкретных ситуациях на возможность изменения истории человечества в лучшую сторону. В романе Орсона Скотта Карда герои меняли прошлое, хотя на самом деле в этом нет необходимости. Прошлое нужно принять таким, каким оно было, ведь без него не было бы и нас с вами. Худшего мы ещё не совершали, но определенно находимся на таком этапе, когда знание будущего может сослужить человечеству большую службу, пока мы окончательно не погрузились в пучину природных катастроф, эпидемий, тотальных войн и противостояния с искусственным интеллектом, в котором мы явно будем не в выигрышной позиции.
Кортес тревожно посмотрел на аудиторию, потому что понял, что сказал слишком много. Габриэль, хорошо знавший концепции великих философов, не спешил с созданием собственной системы идей, хотя и сделал очень многое для повышения интереса общества к метафизическому либертарианизму. Он был преимущественно преподавателем, транслятором мыслей, циркулировавших в теоретическом наследии мировой философии. После беседы с Вайнбергом маятник творчества в правом полушарии мозга Кортеса начал свое неспешное вращение. Кортесу всегда была по душе именно теория liberum arbitrium, а после предложения Вайнберга все разрозненные пазлы стали складываться в единую стройную картину. Хорошо, что я не сказал студентам о навигаторе времени, подумал Кортес.
— На этом у меня все. В распоряжении человечества есть системы долговременного прогнозирования, например, форсайт-проекты, которые могут с приблизительной точностью предвидеть будущее состояние нашей планеты, изменение климата, дальнейший ход эволюции или грядущие технологии. У палеонтолога Дугала Диксона вы можете прочесть несколько книг о развилках будущей эволюции, а у Митио Каку — футуристические прогнозы. Но все же их книги не являются точными предсказаниями и скорее служат тренажером для мозга, нежели отражением будущего. Верьте в силу воли, ставьте перед собой цели вопреки мешающим факторам и помните, что причинно-следственной связи не существует, ведь не причина определяет следствие, а наше сознание.
Кортес уложился в рамки занятия, потому что сразу после его последнего слова прозвенел звонок. Габриэль вышел из-за кафедры под аплодисменты восторженных студентов и уже собирался выйти из аудитории, когда его остановил молодой человек с монгольской внешностью, который, по-видимому, не был студентом, поскольку он держался независимо, ни на кого не обращал внимания, в то время как многие студенты здоровались с ним, обращаясь на «вы», и выглядел так, будто он обладал здесь определенной властью. Это был человек низкого роста, с темными волосами на голове, прямым лбом, черными узкими глазами на широком лице, лишенном растительности. Во время лекции он сидел на правом краю самого последнего ряда, что не мешало ему более чем внимательно слушать профессора.
— Господин Кортес, здравствуйте. Меня зовут Темуджин Сансар, я преподаю фундаментальные основы нанотехнологий. Мы так долго ждали вашего приезда, что уже и не ожидали, что вы к нам приедете. У меня в Корнельском университете есть друзья, они о вас много рассказывали. Имеется несколько вопросов к вам, но мы можем обсудить их за чашкой чая в кафетерии на втором этаже.
— Конечно, господин Сансар. — Кортес с почтением пожал руку Темуджину.
Коллеги вышли из аудитории и проследовали в кафетерий, заказали чай с мармеладом и сели за стол.
— Во-первых, скажите, пожалуйста, — начал разговор Темуджин, — как вы адаптируетесь к местным условиям, были ли где-нибудь за пределами Кремниевой степи?
— Я приехал только вчера и ещё не успел нигде побывать. О красоте города мне много рассказывал мой друг Ларри Грант. С адаптацией у меня проблем нет, я словно ожил, воскрес и воспрял духом.
— Да, по вам это заметно. — Темуджин задумчиво посмотрел на Габриэля. — Все позади, господин Кортес. Здесь у вас не будет ни усталости, ни мыслей о суициде.
Габриэль испуганно взглянул на коллегу; на мгновение ему показалось, будто напротив него сидит пророк.
— Не пугайтесь так. Вы же сами признались в том, что вас, как, впрочем, и всех нас, влечет к смерти. Вы были так энергичны и полны сил на лекции, что вполне легко было предположить, что совсем недавно вы находились в подавленном состоянии, ведь зачастую периоды апатии быстро сменяются вспышками активности при смене обстановки. Выпейте монгольский напиток сутэй цай. Хозяин кафетерия готовит его специально для меня. Обратите внимание на ингредиенты — зеленый чай, воду, верблюжье молоко, соль, черный перец и обжаренное курдючное сало. Молока в сутэй цае ровно столько же, сколько и чая, все по старинному рецепту. Из-за соли вкус очень специфический, но вы привыкнете. Наши предки, столетиями кочевавшие по Великой степи и завоевавшие полмира, очень любили этот чай, во время кочевок он был их единственной пищей. Вполне возможно, что и наш национальный герой Чингисхан любил пить сутэй цай.
Габриэль успокоился и выпил напиток из поданной ему пиалы. Сутэй цай был очень горьким и слегка пересоленным. Кортес из вежливости не подал виду и допил монгольский чай до конца.
— Да, вы верно подметили, меня действительно посещали нехорошие мысли о смерти. Как же я сразу не догадался? Вы прочли меня как открытую книгу. Кстати, я же ничего не знаю про вас, Темуджин. Вы родом, я так полагаю, из Монголии?
— Я родился и вырос в местах далеких и малоизвестных местным жителям. Здесь, в Нуртехе, я нахожусь в ипостаси преподавателя и работника секретного научного отдела, работающего над Теорией Всего. Ларри Грант — мой непосредственный начальник. Вы, насколько я знаю, тоже имеете отношение к этому отделу.
— Да, верно. С сегодняшнего дня я занимаюсь философским обоснованием технологий, которые неминуемо зародятся с открытием Теории Всего. — Габриэль понизил голос. — Вы так громко говорите о секретном отделе, будто это вовсе никакой не секрет.
— Потому что это секрет Полишинеля. Все сотрудники Кремниевой степи знают об этом отделе. Вайнберг не разглашает средствам массовой информации суть проекта, потому что общественность может неправильно понять нас. Именно поэтому вас пригласили в Казахстан. Чтобы вы философским языком разъяснили общественности, что наша работа не идет вразрез с общепринятыми представлениями о научной картине мира.
— Чтобы я разъяснил? Да я ведь даже собственной концепции не имею.
— Разве? Я читал пару ваших книг. Вы — признанный авторитет в современной философии.
— Смею вас заверить в том, что мои книги не более чем популяризация философии, в них нет оригинальных, порожденных моим разумом идей.
— Значит, теперь у вас есть возможность создать свою философскую систему. Дерзайте. Мне самому всегда было интересно, какой взгляд победит — сторонников детерминизма или метафизического либертарианизма. Мактуб или свобода воли? Это самый главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Жаль только, что ответ на него не так тривиален, как ответ суперкомпьютера из романа Дугласа Адамса.
— Сорок два? — весело спросил знавший ответ Габриэль. — Если бы все было так просто, мы бы с вами тут не сидели. Там, кстати, вопрос был другой, не такой, какой ставим мы с вами. Вопрос, как оказалось, звучал так: «Где все заканчивается?» Выяснилось, что в доме сорок два.
— Тоже интересный вопрос, но, к сожалению, не главный. Итак, мактуб или свобода воли? Ответим на этот вопрос — ответим на все остальные. Некоторые физики всерьез полагают, что Теория Всего, которая, по моему мнению, и даст нам ответ на этот главный вопрос, не только объединит четыре взаимодействия, но и сделает мир более понятным.
— Представляете, как скучно станет жить? — спросил Габриэль. — В мире, где сфинкс больше не задает вопросов, где все и обо всем известно. Это будет Эдем, но вряд ли мы захотим в нём долго жить. Помните, Темуджин, серию из «Секретных материалов», где Малдер наконец-то получает от инопланетян ответы на все вопросы? Листая пухлую книгу, Малдер расстраивается оттого, что теперь не придется раскрывать тайны, получать удовольствие от знания факта, свидетельствующего о том, что где-то до сих пор есть белые пятна, на которые ещё предстоит пролить свет.
— Но это было, как мне помнится, только фантазией или сном Малдера. Мне сложно представить себя всезнающим существом. Было бы неплохо развивать скрытые возможности, но знать, ведать обо всем — это не подвластно никому, даже просветленным.
— Просветленным? То есть бодхисаттвам? Вы, простите, буддист? — с интересом спросил Кортес.
— Да, я исповедую буддизм.
— Превосходно. Я уважаю все мировые религии, поскольку сам являюсь бывшим верующим, католиком, крещенным при рождении. Никогда ещё так близко не сталкивался с почитателем Будды. Скажите мне, пожалуйста, это правда, что буддисты могут останавливать дыхание?
— Могут. Причем иногда даже на недели. Но это не у всех буддистов получается. Большинство из них ничем не отличаются от обычных людей. Согласно буддистскому канону, люди делятся на сансаринов и махасиддхов. К сансаринам, относитесь, например, вы. У вас нет сверхспособностей, называемых в буддизме сиддхи. А у махасиддхов они есть. Такие люди, используя все сто процентов мозговой активности, телепортируются на какие угодно расстояния, обходятся без сна, воды и пищи, обладают даром предвидения и телепатическими способностями. Я никогда не занимаюсь пропагандой, поскольку религия — личное дело каждого из нас, но с уверенностью могу сказать, что медитация поистине творит чудеса. Согласно последним исследованиям, медитация способствует удлинению теломер, а, следовательно, и продлению жизни. На мой взгляд, если бы буддисты, инидуисты и джайнисты отказывались от каких бы то ни было технологий и объединялись в устойчивые общины, на Земле можно было бы констатировать факт существования нетехнической цивилизации, наподобие человечества «Дюны», использующего вместо машин скрытые возможности мозга с помощью меланжа. Если вы помните, меланж действовал на человеческое сознание как сверхсильный ЛСД и одновременно являлся топливом для кораблей.
— «Дюну» я и читал, и смотрел, — ответил Кортес. — Но в нетехнические цивилизации не верю. Разве это возможно? Человек начал использовать технологии с момента изготовления орудий из камня и приручения огня. От этих примитивных технологий до колеса и выплавки бронзы, ставших вехами в зарождении цивилизации, прошли десятки тысяч лет. То есть технологии использовались задолго до появления первой цивилизации в Месопотамии и способствовали её возникновению. Есть ученые, разделяющие цивилизации на космогенные, техногенные и антропогенные, но я к этим классификациям отношусь с изрядной долей скепсиса. Нетехнических цивилизаций нет априори.
— Ну, почему же нет, господин Кортес? В реальности может быть и нет, но в литературе помимо «Дюны» примеров множество. Вы ведь читали трилогию Гарри Гаррисона «Эдем»? Там рассказывается о цивилизации разумных мозазавров иилане, появившейся на альтернативной Земле, где не было падения астероида и где никто не мешал дальнейшей эволюции динозавров. Иилане попали в схожую с человечеством ситуацию, которая в обоих случаях обусловила возникновение разума. Оба вида были беззащитны перед враждебной внешней средой и не имели естественных средств защиты. Человек выжил за счет использования каменных орудий и огня, а иилане — благодаря одомашниванию крабов. Человек защищался от холода и хищников, иилане — только от хищников. Поэтому иилане не знали, как пользоваться огнем, не умели обрабатывать камень, ведь в условиях теплого климата им это было не нужно. Зато они приступили к одомашниванию животных. Их цивилизация началась с открытия и исследования генетических структур. Иилане изменяли генетический код животных и использовали их возможности для своих нужд. У них были живые самолеты, живые корабли, даже живые фотоаппараты и камеры, да что там, живые плащи. Представьте себе: биогенная цивилизация, которая ничуть не хуже вашей техногенной, да к тому же, в отличие от последней, не образует углеродный след. Цивилизация людей сосредоточилась в городах, их цивилизация — тоже в городах, но по-своему уникальных, выращенных из семян деревьев особого вида.
— Да, я читал эту книгу, может быть, менее внимательно, чем вы. Зачем вы рассказали мне обо всем этом?
— Чтобы вы имели представление о том, что цивилизация может быть разной.
— Не все ли равно, на чем основывается цивилизация, на привычных нам технологиях, на использовании меланжа или генной инженерии, как у иилане, если конечным результатом действий цивилизации должно стать обретение свободы воли?
— Похоже, вы все же согласились с моими доводами. О свободе воли можно говорить вечно. Уже поздно, мне пора домой, медитировать. Я не смотрю телепередачи, только читаю, слушаю релакс и практикую йогу. Поэтому и выгляжу моложе своих лет. На самом деле я старше вас. Живу я, кстати, неподалеку от Нуртеха, можем вместе прогуляться.
— А как же секретный отдел? Вы мне его не покажете?
— Охотно покажу, но завтра. Все сотрудники уже ушли домой. Мы долго с вами беседовали; за приятным разговором время летит быстро. Завтра я познакомлю вас с сотрудниками. Меня попросили наблюдать за вами, оберегать.
— Оберегать? От чего? — Кортес не на шутку удивился.
— Проект очень секретный, потому и попросили. За ключом к Теории Всего охотятся вражеские силы. Мне вы можете доверять как себе. Но о нашем разговоре попрошу не рассказывать никому, иначе у меня могут быть проблемы из-за того, что я с вами разоткровенничался.
— Это была приватная беседа. Можете положиться на меня, Темуджин.
Коллеги расплатились с хозяином кафетерия, который уже закрывался, и вышли на улицу.
Подумав о книге Гарри Гаррисона и о других книгах, которые он читал, Кортес вспомнил Стругацких, «Пикник на обочине», в частности, финал повести. Сталкер Рэдрик Шухарт, профессиональный проводник в Зону, место посещения Земли инопланетянами, зарабатывающий на жизнь продажей найденного в Зоне хабара — инопланетных артефактов с не поддающимися научному объяснению особенностями, — в конце книги отправляется в Зону в паре с мечтательным сыном другого сталкера Стервятника Артуром. В Зоне есть шар, исполняющий желания. Все загадывают разное, но только для себя. Артур — первый человек, пожелавший счастья для всех, даром, кто сколько унесет. К сожалению, он не успевает дойти до шара, потому что попадает в мясорубку — ловушку для тех, кому предназначено быть жертвами, ведь Зона просит жертву в обмен на возможность прикоснуться к шару. Сталкер устал, измотался от своей непонятной, никчемной жизни, он хочет попросить личного, сокровенного, но в итоге просит того же, что пожелал Артур — безмерного счастья для каждого без исключения. «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» Пришло ли оно, свалилось ли на голову всех семи миллиардов живых людей — так и остается неизвестным. Да и возможно ли такое? Счастье каждому, счастье на блюдечке, счастья полные закрома.
III. Любовь делает умных безумными, кротких — буйными, а неукротимых — мирными
Я не верю в Бога,
который награждает и карает,
в Бога, цели которого слеплены
с наших человеческих целей.
Альберт Эйнштейн
— Это один из вариантов Земли, — сказал Ребилион.
На сенсорном дисплее появился голубой шарик с одним естественным спутником и четырьмя тысячами искусственных.
— Так планета будет выглядеть незадолго до своей гибели.
— Что, согласно вашим расчетам, может с ней произойти? — спросил Нонгорман.
— Поскольку это слаборазвитая в духовном смысле цивилизация, этот вариант людей может подвергнуть себя самоуничтожению, — ответил Ребилион. — Ядерная война, эпидемии, стихийные бедствия, играющие роль рикошета. Вероятность очень большая.
— Жаль, — с грустью сказал Нонгорман. — С другой стороны, таков финал почти всех двойников нашего человечества, не вступивших в конструктивный диалог со своей средой обитания. Это печально, кириос Ребилион.
— Печально. Но я пришел поговорить о другом. Экклесия уверила меня в том, что никто на Ликосе не будет препятствовать желанию нашей группы наблюдать за этой версией человечества, используя абсолютно новые методы, предложенные другом Экклесии Сансаром.
— Системы искусственного интеллекта тоже не возражают? — спросил Нонгорман. — Они лишь просканировали твой мозг и предупредили, что не следует вторгаться в хронологию землян. Твоему сознанию свойственно проявлять ненужное милосердие, однако я должен предупредить, что мы не должны вмешиваться в ход событий на двойниках нашей планеты. Считаю своим долгом напомнить, что нашей группе поручено наблюдать за другими вселенными для коррекции траектории собственной цивилизации.
— Я ознакомлен с инструкциями, и уж точно не полезу в чужую историю раздавать направо и налево скрижали с заповедями, по которым все равно никто не станет жить. — Правильно, — сказал, улыбнувшись, Ребилион. — Ты же не Румата Эсторский.
— Кто это?
— Персонаж одной из лучших книг человечества. Того самого человечества, за которым поручено следить тебе, мне и другим членам группы. Ах да, совсем забыл, тебе же ещё не давали доступ к их эйдосам. Завтра Сансар предоставит тебе все данные, и ты сможешь погрузить свое сознание в их вселенную. Внимательно изучи культуру народов Земли. И помни: слабый не значит неспособный. Это очень загадочная цивилизация. Они могут найти последнее уравнение раньше нас.
***
Днем Габриэль Кортес читал лекции, вечером гулял в районе Экспо, затем ехал на велосипеде домой, готовился к завтрашним занятиям, а перед сном беседовал с Ларри, который продолжал искать ключ к Теории Всего. Надо сказать, что Ларри не всегда вел богемную жизнь: в промежутках между работой в Урхране, преподаванием в Нуртехе и возлиянием вин честолюбивый Грант, не без оснований считавший себя талантливым ученым, денно и нощно разрабатывал математический аппарат Теории Всего, готовясь совершить прорыв в науке. Поскольку Габриэлю для философского обоснования секретного проекта Вайнберга нужно было владеть азами физики, то по его просьбе Грант все свое свободное время уделял беседам, посвященным теории относительности и квантовой механике. Благодаря другу Габриэль узнал очень много нового, например, о бозоне Хиггса и антиматерии.
В часы досуга Габриэль часто наблюдал за тем, как Ларри, с детства увлекавшийся астрофизикой, читает книги Кипа Торна, Стивена Хокинга, Митио Каку и Деграсса Тайсона. Грант любил рассказывать о том, как он в детстве обсуждал с мамой многие непонятные ему вопросы физики. У матери был дар: она могла легко истолковать самые сложные понятия. Объясняя другу азы теории относительности, Ларри составил небольшой конспект, благодаря которому Габриэль начал понимать, чем привлекла Ларри теоретическая физика.
«Теория Всего — будущая физическая теория, которая объединит в себе квантовую механику и теорию относительности, а также все виды взаимодействий частиц. Материя — объективная действительность, существующая независимо от нашего восприятия. Вселенная состоит из материи. Вещество — вид материи; имеет четыре состояния — жидкое (вода), твердое (лед), газообразное (облако), плазма (огонь, ионы). Вещество состоит из элементарных частиц. Поле — вид материи, взаимодействие между частицами вещества.
Выделяют четыре вида поля. Первое. Гравитационное взаимодействие. Каждая частица во Вселенной испытывает на себе действие гравитации. Это обмен гравитонами (виртуальными частицами, то есть парами частиц, берущих энергию у ближайшей области пространства; их невозможно обнаружить непосредственно) между частицами веществ. Гравитоны не доказаны, но недавно открыты гравитационные волны. Волна — колебание поля.
Второе. Электромагнитное взаимодействие — взаимодействие между электронами и кварками (электрически заряженными частицами). Третье. Слабое ядерное взаимодействие — взаимодействие нуклонов ядер. Четвертое. Сильное ядерное взаимодействие — взаимодействие глюонов с глюонами и глюонов с кварками.
Вся квантовая теория построена на принципе неопределенности Гейзенберга — нельзя одновременно определить положение и скорость частицы, то есть её траекторию, если можно так говорить о движении частиц, которые имеют вероятностное положение в пространстве, но при этом лишены конкретных координат и скорости. Теория относительности основана на простой идее: законы физики должны быть одинаковы для всех наблюдателей независимо от того, как они движутся при отсутствии гравитационных явлений. Пространство и время относительны, но скорость света постоянна в любой системе отсчета. Теория относительности оперирует понятием «траектория», которого нет и не может быть в квантовой механике».
Многие определения так и оставались для Кортеса китайской грамотой, но кое-что стало проясняться. Работая в Казахстане, Габриэль начал отходить от своей болезни, и сон о Кортесе перестал сниться ему. Душа успокоилась, детские переживания понемногу улеглись. Все мы родом из детства; наша память выхватывает самые яркие впечатления, и негативные, и позитивные. Глубоко внутри подсознания лежат наши комплексы, напоминая о своем существовании лишь в сумраке ночи. Кортес словно предчувствовал, что в его суматошную жизнь, полную тайных испугов и страхов, скоро ворвется что-то необычное, неожиданное, то, что перевернет сложившийся уклад.
***
Акжан Абенов, таксист, подвозивший Ларри и Габриэля, был интересен Гранту как специалист в сфере IT. C целью привлечь к работе над секретным проектом человека, имевшего опыт работы в иностранных компаниях, специализирующихся на квантовых технологиях, Ларри пригласил Акжана к себе домой.
Кортес был рад новому человеку в его жизни. У него всегда было мало друзей не из-за того, что люди не тянулись к нему, нет, людей он привлекал, дело было в том, что Габриэль сам не располагал к общению, не зря в университетской среде он слыл интровертом. Студенты любили его, но отношения с коллегами не складывались, главным образом из-за того, что иностранным преподавателям традиционно завидовали: большой оклад и привилегированное положение были такой роскошью, которая позволяется лишь зарубежным специалистам.
Во время учебы в Штатах Акжан подавал большие надежды, ему предлагали остаться в Америке и работать в престижной компании, но дома его ждала тяжело больная мать. Будучи младшим сыном, Акжан по казахским обычаям должен был находиться рядом с родителями. В Казахстане айтишникам платили в разы меньше, чем в Штатах, поэтому Акжан в свободное от работы время подрабатывал таксистом. Ларри в шутку называл его казахстанским Гайто Газдановым.
— Столько лет живу в Казахстане, — сказал Ларри, пригубив из бокала с кумысом, привезенным Акжаном, — а все не перестаю удивляться менталитету казахов. Во-первых, практически каждый казах знает своих предков вплоть до седьмого колена. Во-вторых, в вашей стране нередки многодетные семьи, особенно в селах. Женщины рожают столько, сколько Бог послал. В-третьих, конечно же, нельзя не отметить поражающее иностранцев гостеприимство.
— У нас говорят так: если жена хорошая, гости не переведутся в таком доме, если плохая — самый близкий друг обойдет твой дом стороной, — ответил Акжан. — Так что даже в фольклоре отражены стереотипные представления об облике настоящего казаха. А все остальное, о чем вы сказали, тоже правда. Детям мы всегда рады, считается, что прокормить большую семью нетрудно, ведь старшие подрастают и начинают помогать младшим вставать на ноги. А вот родословную до седьмого колена не каждый, увы, может перечислить. Революция и гражданская война свою роль сыграли. Но это оставим историкам…
Акжан немного помолчал и, решив, что тема исчерпана, перевел разговор в другое русло, тем более что собеседникам, судя по всему, не хотелось углубляться в историю.
— Между нашими народами множество существенных различий. Казахский народ двигался своей, довольно извилистой, магистралью, пока не вышел на тропу цивилизации. Многое ему ещё предстоит сделать. Экономика нашей страны медленно восстанавливается после разрухи девяностых. Большой разрыв между слоями общества и отсутствие среднего класса ещё больше усугубляют положение простого народа. Я не жалуюсь на свою судьбу, но и мне, чтобы обеспечить своей семье достойное существование, приходится подрабатывать.
— Это, безусловно, признак того, что общество больно и не может найти социальную вакцину, — сказал Габриэль, ранее не принимавший в разговоре никакого участия, — но так обстоят дела абсолютно в любой стране, с небольшими, правда, отличиями. Если для Шпенглера, который, кстати, разграничивал понятия «культура» и «цивилизация» и в отличие от меня не считал их тождественными, а, напротив, противоречащими друг другу, если для него эти тревожные симптомы являются признаками заката Европы, то я склонен идти дальше Шпенглера и заявлять о конце мира или о конце света, кому как удобней. Я принадлежу к той когорте философов, для которых вопрос о грядущем воплощении Рагнарека никогда не стоял ребром. Для меня он давным-давно совершился. Майя, которых любят вплетать в бесконечные дискуссии об апокалипсисе, никогда не говорили, что мир погибнет, они лишь твердили, что мир постигнет обновление. На самом деле не правы ни майя, ни современные кассандры, при любом удобном случае кричащие: «Волк, волк!». Волк уже пришел в овчарню и перегрыз всех овец, а мы и не заметили. Мы и глазом не успели моргнуть, как проблема перенаселения и, вследствие этого, нехватка продовольствия заявили о себе во весь голос. Я уже не говорю о горах мусора в океанах и таянии ледников, которые по логике вещей никогда не должны были растаять. Вечная мерзлота тоже оказалась невечной. Мир, который мы знали зрелым и цветущим, уже не пребывает ни в одной из жизненно активных форм существования. Конец света давно наступил и продолжает свое триумфальное шествие по планете.
— Это ваше личное мнение, Габриэль. А что говорят об этом другие философы, наши современники? — поинтересовался Акжан.
— Говорят об утрате ценностей, всеобщем разочаровании в идеалах, экологических проблемах, перенаселении, декларируют все то же, о чем я только что вам поведал. Все философы так или иначе понимают, что мира, каким мы его знали по воспоминаниям наших родителей и произведениям великих авторов, больше не существует. Альбер Камю сравнивал человечество с Сизифом, бесцельно и беспрестанно взбирающимся с огромной глыбой камня по склону горы и в который раз вынужденным наблюдать перманентное скатывание злосчастного камня к подножию. Таковы и мы с вами. Мертвы, как Сизиф, для которого камень — его достояние, но по собственным ощущениям живы, поскольку вновь вынуждены повторять из дня в день одни и те же действия. Нашим уделом остается эфемерное существование в мире катастроф и всеобщей утраты смысла.
— Насколько я помню, — вмешался Ларри, — у Камю это состояние именуется абсурдом.
— И абсурдом, смею заметить, сознательным. Причем настолько осознанным, что жертва такого абсурда полагает, что все вокруг него хорошо. Сизиф ведь считает себя счастливым. Он не ушел в небытие, не подвергся адским мукам, Сизиф трудится, хоть и бесцельно. Пусть его усилия тщетны, но все же жизнь Сизифа тем не менее продолжается. Так и мы с вами. Мир закончился, он перенаселен, его климат изменился не в лучшую сторону, мы пережили две мировые войны и, едва не угодив в сети атомного Морфея, растеряли остатки нравственности, ощутили привкус духовной смерти, но нам все ещё по инерции кажется, что мы продолжаем жить. Разве есть жизнь после Чернобыля? После всеобщей дискредитации смысла жизни и торжества культа потребительства? После эпидемии коронавируса, демонстративно обозначившей красную черту, за которой невозможно дальнейшее игнорирование конца? Да, мы все ещё существуем, кажемся друг другу. Но счастливы ли мы?
— Вечные вопросы ходят по улице, как справедливо отметил Ницше, — тихо сказал Акжан и добавил чуть громче, — мне не чужда философия, я изучал её в Штатах наряду с другими дисциплинами, но не задумывался о столь глубоко запрятанных слоях этой науки. А кто ещё говорил об обреченности мира?
Только сейчас, задумавшись над вопросом Акжана и словно в поисках ответа осмотревшись вокруг себя, Габриэль обратил внимание на картину, висевшую на стене. Это была работа кисти венецианского живописца Тициана Вечеллио. Безмерно уставший человек, слившийся в единое целое с камнем, в который раз взбирается на пустынный холм. Это же Сизиф, герой вечного и бессмысленного труда, неутомимый стахановец без премии. Как же Габриэль раньше не обратил внимания на эту картину? Хотя нет, он ошибается, это не Сизиф, это каждый из нас, со своей глыбой, с грузом нескончаемых забот.
— Много кто говорил. Но скорее об отчужденности, нежели об обреченности. Гегель, вслед за ним молодой Маркс, Сартр, Фромм. Суть их разнообразных и противоречащих друг другу формулировок, если говорить весьма упрощенно, состоит в том, что человек создал предметный мир, который отделился от него и стал противостоять ему. Из этого порочного круга невозможно выбраться. Любые попытки реагировать на отчуждение и абсурдность происходящего попытками насильственно перестроить мир оборачиваются концентрационными лагерями и шоковыми терапиями. Камю видел если не выход, то хотя бы иллюзию выхода в творчестве, в духовной переработке себя. В любом случае без самого человека мир или ощущение мира не изменить. Человек как субъект мира неизбежно будет влиять на события в нем.
— Вот это уже ближе к предмету, в котором я чувствую себя как рыба в воде, — произнес Ларри. Его уже утомили хитросплетения мыслей вслух, транслируемых Габриэлем. — Человек, точнее наблюдатель, безусловно влияет на окружающую действительность. Вся квантовая физика построена на эффекте наблюдателя, без которого многие явления в квантовом, а может быть и в нашем, мире было бы бессмысленно рассматривать, поскольку наблюдатель именно влияет на действительность, обуславливает реальность, в которой находится. Вспомните о коте Шредингера, который не может самостоятельно определить, жив он или мертв, и только посторонний наблюдатель один лишь способен вынести окончательный вердикт по поводу его состояния.
— Значит, по мнению физиков, мир не объективен? — спросил Габриэль. — Насколько я понимаю, результаты любого физического эксперимента существуют не сами по себе, а проверяются и определяются ученым, то есть наблюдателем?
— Совершенно верно. Это антропный принцип. Вселенная нереальна и даже бессмысленна без наблюдателя. С точки зрения копенгагенской интерпретации поведение атомных объектов нельзя отделить от их взаимодействия с наблюдателем и его измерительным прибором, естественным, если таковыми считать зрение и слух, или искусственным, то бишь техникой. Интересно, что Эйнштейн долго и ожесточенно спорил с автором интерпретации Нильсом Бором, но спор так никто и не выиграл.
Ларри, ступивший на родную ему тропу в бездорожье неспешного полилога, занял выжидательную позицию и озорным взглядом окинул своих собеседников.
— Держу пари, вас обоих всегда занимал парадокс кота Шредингера, ведь это поистине классический пример наличия у элементарной частицы набора состояний в один и тот же момент времени. Помимо парадокса кота есть и менее известный, но столь же интересный пример. Представьте, что вы пришли на вечеринку. Но вы не стандартный гость, у вас особый статус — статус наблюдателя. Все гости на вечеринке, кроме вас, могут находиться одновременно в разных местах. Вот, допустим, девушка в мини-юбке. Когда вы смотрите на нее, то видите её читающей что-то на смартфоне, сидящей за столиком и попивающей стакан с виски. Когда вы отворачиваетесь, эта девушка одновременно находится в трех местах — она проходит мимо вас, но уже в джинсах, она же продолжает сидеть за столиком, она же мелькнула за окном в бикини. Но когда вы поворачиваетесь, девушка только в одном месте — за столиком. В помещении появляется второй наблюдатель, но он видит девушку не за столиком, и не в мини-юбке, а за окном и в бикини. Когда вы оба не смотрите на девушку, она вновь оказывается в суперпозиции — в положении, когда объект находится сразу в нескольких состояниях. Девушка в этом примере — частица, наблюдатели на вечеринке — ученые.
— Довольно сложный пример, — прокомментировал Акжан, — я как специалист по квантовым технологиям понимаю вас, но меня беспокоит господин Кортес. Понял ли он?
— С парадоксом кота Шредингера было понятнее, — признался Габриэль.
— Ну, хорошо, — согласился Ларри, — с девушкой в бикини я переборщил, статус дамского угодника сыграл со мной злую шутку. Неудачная аналогия. Приведу другой пример. Вспомните, что в реальной жизни можно увидеть в суперпозиции даже обычную флешку. Вы не сможете вставить флешку в разъем, пока не посмотрели на нее. Вернемся к старому доброму коту Шредингера. Пока вы не открыли коробку, кот и жив, и мертв одновременно, оба варианта верны, но открыв ее, вы узреете только один вариант.
— Ларри, видимо, хочет сказать, что квантовый мир — субъективная реальность, — пояснил для Габриэля Акжан. — Если бы мы в нем жили, девушка была бы одновременно за столиком и на улице, пока вы на неё не посмотрите. Флешка была бы и вставлена, и не вставлена, пока вы не взглянете на нее, хотя такое явление наблюдается даже в нашем объективном макромире. В квантовом мире кот Шредингера и жив, и мертв, пока вы не открыли злосчастную коробку. Когда откроете — либо жив, либо мертв. В мире теории относительности, то есть в нашем макромире — однозначно либо жив, либо мертв, и до открытия, и после.
— Акжан понял меня правильно, — ответил Ларри. — Квантовый мир — субъективный мир, там все зависит от наблюдателя. Именно он заказывает музыку. Кстати, интересно, что девушка видит наблюдателя тоже в состоянии суперпозиции, то есть для себя она — наблюдатель. Владелец кота в коробке также находится в суперпозиции с точки зрения кота.
— Интересный все же этот квантовый мир, — сказал, разведя руками Габриэль. — Там элита — наблюдатели. Теперь я понимаю, почему меня не впечатлил квантовый мир в «Человеке-муравье».
— Не самый лучший фильм для того, кто хочет понять квантовую механику. — Ларри отпил недавно налитый им кумыс из бокала и продолжил. — Там, в квантовом мире, у всех обитателей, когда наблюдатель не смотрит на них, суперпозиция, пятидесятипроцентная вероятность обоих вариантов. И жив, и мертв; и пьян, и трезв; и женат, и холост. Пока наблюдатель не наблюдает за атомным ядром, оно в суперпозиции — и в состоянии распада, и в полной сохранности. То есть, когда ты думаешь: «Боже, пока я не смотрел на эту девушку, она была за столиком или на улице», — лови себя на том, что оба варианта верны. Но это только в квантовом мире. В реальности она либо на улице была, либо за столиком сидела.
Кортес представил себе размножившуюся девушку в мини-юбке и тут же подумал о том, как трудно было бы ему жить в квантовом мире, где ты можешь быть сразу в нескольких состояниях.
— По недоумевающему взгляду Габриэля несложно определить, что устройство квантового мира для него все ещё тайна за семью печатями, — сказал, снисходительно улыбнувшись, Ларри. — Но если учесть, что наша Вселенная на самом деле часть Мультивселенной, тогда все встает на свои места. В одной вселенной кот жив, в другой мертв. И в этом случае Бог играет в кости. Его костяшки — варианты одного и того же момента в разных вселенных. В отличие от нашего шефа Вайнберга я как старый фаталист настаиваю на том, что наш мир — детерминистский, в нем теоретически и будущее можно с точностью спрогнозировать, поэтому Бог нашего макромира — демон Лапласа. А квантовый мир — вероятностная реальность, как в комбинаторике, как в игре в кости. Смотришь на закрытую коробку, а в ней кот выглядит как облако вероятностей — он и жив, и мертв одновременно.
— Благодарю вас обоих за просвещение, это очень полезная информация, — учтиво произнес Кортес. — Но вот мы опять вернулись к спору детерминизма и метафизического либертарианизма. Думаю, вы согласитесь со мной в том, что точка в диспуте между теорией относительности и квантовой механикой будет поставлена, когда откроют Теорию Всего. Вот тогда мы и узнаем, является ли наша вселенная миром фаталистов или миром сторонников многовариантностей. А до этих пор мы все будем находиться в положении Розенкранца и Гильденстерна, удивлявшихся тому, что монета девяносто два раза выпала орлом вверх. Ведь не сама же она выбирала свое положение?! То же самое с элементарной частицей. Насколько я понял, слушая вас двоих, у частицы в квантовом мире есть свобода выбора или иллюзия этой свободы, поскольку она может находиться одновременно в нескольких состояниях, а в макромире у неё свободы воли нет, впрочем, как и у всех в макромире — там её выбор заранее обусловлен. В мультиверсе мы бы жили как в квантовом мире. Каждый человек имел бы несколько вариантов своего существования и мог бы легко выбирать тот или иной исход текущего момента. Вот это была бы настоящая свобода воли. А в нашем мире её нет, ведь в нем все предопределено.
— Да, возможно, Теория Всего сделает наш мир многовариантным, позволит обращать время вспять, выбирать наиболее подходящий вариант реальности, как о том мечтает наш Вайнберг, — ответил Ларри. — Но точно пока никто не может ответить, так это или нет. Вопросов до сих пор больше, чем ответов. Могу быть уверен лишь в одном: Теория Всего не только объединит теорию относительности и квантовую механику, но и удовлетворит искания философов.
— И вполне вероятно даст рецепт счастья, ведь в Теории Всего таятся новые возможности для человечества, — мечтательно сказал Акжан.
— Боюсь, счастливым человека уже не сделает никто и ничто, в особенности, мертвые пункты теории. — Кортес вошел во вкус, в таком состоянии его невозможно было остановить. — Мы вновь вернули нашу дискуссию на перекресток Альбера Камю. Повторюсь, мы все с вами сизифы, ибо, будучи на обочине истории, обманываем себя в том, что минуты нашей жизни имеют хоть какой-нибудь смысл. Разве можно быть счастливым в мире, где есть голод и отчаяние? Вспомните Йозефа из романа-притчи Кафки «Процесс», в котором герой не знает, за что его судят. Ожидая суда, герой продолжает есть, пить, любить, но при этом его жизнь превращается в пытку. Блюстители порядка не сообщают герою, в чем он виновен, не удосуживаются информировать его, когда состоится суд. Этот роман — метафора нашей жизни, особенно той, что сложилась после девятнадцатого века. Мы не знаем, зачем живем. Отмена долгосрочных целей и мечтаний превратила нас в жертв, которым предъявили обвинение, но забыли сообщить содержание приговора. Коллеги часто обвиняют меня в том, что я идеализирую образ жизни мезоамериканцев. Но ведь коренные жители Америки знали, зачем живут, их обряды и культура были защищены механизмом целеполагания, они не нагромождали вокруг себя множество запутанных физических теорий, и уж тем более не держали в ящиках котов, которым внушили, что они ни живы, ни мертвы, и только благодетель-наблюдатель сможет вывести их из пограничного состояния.
Ларри улыбнулся. Он представил своего большого кота Гринверса, живущего в его университетском кабинете, сидящим в ящике, сооруженном беспощадным Шредингером. В ящике темно, тихо, звуки и свет не проникают в квантовое пространство кота. Ни жив, ни мертв, кот ждет наблюдателя. Вот один из преподавателей, зашедший на чай в перерыве между лекциями, открыл ящик, крикнул: «Кот мертв!». Послушный кот немедленно начал разлагаться. Ящик вновь закрыли, до прихода уборщика. Но уборщику почему-то вздумалось сказать, что кот жив. Последний замяукал, возблагодарив своего спасителя. Удивительное положение вещей! Не зря Эйнштейн, полемизируя с Бором, говорил, что в таком мире даже белая мышь может изменить ход истории, лишь посмотрев на кота.
— Перефразируя нашего нового друга Акжана, скажу так: оставим это физикам, — сказал Ларри. — Ведь я как физик здесь в меньшинстве. А что касается рецепта счастья, то почему его не может быть?
— Вот именно, — поддержал Акжан Ларри, — он есть, и я могу доказать.
— Как?! — переглянувшись, в один голос спросили Ларри и Габриэль.
— Для этого мне нужны лук, чеснок, черный перец, соль и мука.
— У меня в коттедже, как в Греции, есть все, — сказал Ларри, вставая и направляясь на кухню.
— Я души не чаю в бешбармаке, национальном блюде казахов. Вот его и будем готовить.
Чтобы приготовить бешбармак, надо было варить мясо в бульоне с луком, чесноком, черным перцем и солью не больше полутора часов на медленном огне. Тесто замешивалось, раскатывалось в тонкую лепешку, чтобы сквозь неё был виден стол, и резалось на ромбики. Когда мясо было доведено до готовности, Акжан достал его и разделил ножом на кусочки. Тесто уже можно было положить в мясной бульон, где оно варилось пятнадцать минут. Затем Акжан выложил слоями в большой чашке, носившей местное название «табак», тесто, мясо, соус из лука и посыпал все это перцем.
— Вот это и есть счастье? — с улыбкой спросил Габриэль, орудуя, несмотря на инструкции Акжана по поводу традиции поедания бешбармака, ложкой.
— Счастье в работе, — сказал Акжан Габриэлю и Ларри, садясь по-турецки перед дастарханом, купленным Ларри в местном магазине, — я уже десять лет работаю не покладая рук, и мне без труда, сизифов он или нет, будет тяжело. Такси — это всего лишь подработка. У меня есть любимое дело — программирование; пусть оно и не очень хорошо оплачиваемое, но я отдаю ему всего себя без остатка.
— Я встречал в своей жизни множество людей, для которых счастье в труде. Это похвально. Но для кого-то счастье заключается в поглощении пищи, — сказал Габриэль, желая перейти непосредственно к бешбармаку. — Я же отношусь к тем представителям человечества, для которых еда символизирует те или иные человеческие ценности. А что символизирует бешбармак? Может быть, труд?
— Бешбармак символизирует сплоченность казахского народа. Хотя, возможно, и труд тоже. Ведь наши предки готовили его после тяжелой, изнуряющей, но приятной работы. Как вы могли заметить, форма табака напоминает о круглом столе, единении самых разных людей за трапезой, ведь все ссоры и разногласия уходили в небытие, когда гости садились за один дастархан.
— Труд — это прекрасное времяпрепровождение, мой друг Акжан, — сказал Ларри. — Но лучше, когда он хорошо оплачивается. Моему руководителю Вайнбергу нужен толковый айтишник, не понаслышке знакомый с квантовыми технологиями.
— Я работал на несколько фирм одновременно, так что опыта у меня предостаточно. Если при этом учесть, что каждая из них стремилась добиться квантового превосходства, то вопрос о том, насколько я компетентен, отпадает сам собой.
— Представляю, на какие уловки тебе приходилось идти, ведь квантовое превосходство — рекламный трюк, рыночный миф. Можешь считать, что ты принят. Начнем работу с тобой уже завтра.
«А всё-таки, жив он или нет, несчастный кот Шредингера?», — почему-то подумал Габриэль, убирая ложку в сторону и беря бешбармак руками, как и положено по казахским обычаям.
***
Утром чуть слышно пройдется по степи ветер, летний, осенний или весенний — все одно, холодный и пронизывающий. Даже в жаркую погоду нет-нет да сменится тепло легким дуновением. Шелестит ковыль, ветер сдувает шапки с одуванчиков, незаметно юркнет в нору запоздалый суслик. Солнце еле поднимает горящее тело над дугой неба, неизменно направляясь по своей привычной ежедневной траектории с востока на запад.
Ветер несет из степи в город прохладу и свежесть. Тепел весенний воздух в астанинских дворах. В Нур-Султане все непостоянно, и эта подаренная природой погода скоро сменится проливными дождями и неуютной атмосферой мрачных от жестоких ветров улиц.
Автобусы быстро проносятся по городу, благо нет ещё пробок и заторов на дорогах. Габриэль на велосипеде, обычном для него средстве передвижения, подъехал к зданию университета в такое же время, как и обычно, ведь Кортес был из тех, по ком можно сверять часы.
Припарковав велосипед и многократно проверив, все ли в порядке, ибо предосторожность была его неотъемлемой чертой, Габриэль прошел мимо охраны, небрежно засветив пропуск, и поднялся на второй этаж, где был его кабинет.
Рядом с аудиторией он встретил Аккана Сагдиева, студента-отличника, смуглого казаха, с большими карими глазами и слегка вытянутым вперед носом. Волосы на его голове были аккуратно уложены, а на плече висел кончик стильно заплетенной косички. Аккан писал дипломную у Ларри и проходил практику в его секретном отделе.
— Аккан, что так рано? — поинтересовался Габриэль, открывая дверь кабинета.
— Не дома ночевал, мистер Габриэль. У друзей. А они живут рядом. Вот и пришел с рассветом. А вы тоже сегодня рано.
— Это ты меня просто каждый день в такое время не видишь. Я всегда так рано прихожу. Пять часов сна для меня норма.
— Похвально. А я — соня, еле просыпаюсь к семи.
Видя, что Кортес торопится войти в аудиторию, Аккан, словно вспомнив о чем-то, спешно порылся в карманах и достал оттуда флаер.
— Вот, возьмите.
— Что это? — не понял Габриэль.
— Господин Вайнберг просил передать вам. Это приглашение на вечер.
— Вечер? — не понял Кортес.
— Да, вечер. Вечеринка.
— Что за вечеринка? Я похож на человека, который зависает на вечеринках?
— Не похожи. Совсем не похожи.
— Ни капли?
— Ни капельки. Но это закрытая вечеринка. Для самых близких коллег господина Вайнберга. Для тех, кому он доверяет.
— Доверяет?
— Да, доверяет. Я там тоже буду. Я пишу дипломную у господина Гранта. И подрабатываю в том отделе, где работают над открытием Теории Всего. Так что господин Вайнберг мне тоже доверяет.
— Отлично. Мы оба приглашены. А вы смотрели «Полночь в Париже»?
— Да, смотрел. Неудачливый писатель каждый вечер попадает в двадцатые годы двадцатого столетия. И становится удачливым.
— И все? — спросил Кортес, внимательно посмотрев на Аккана.
— Там много всего было. Это философский фильм. Главный смысл: нужно любить и ценить то время, в котором живешь. Гил Пендер жил мечтами о прошлом, ностальгией. А в конце фильма понял, что нужно жить настоящим.
— Мораль фильма не только в этом. Помните Адриану?
— Конечно.
— Это вымышленный персонаж. Пикассо рисовал портрет купальщицы с другой женщины, в то время как Адриана — плод воображения Гила Пендера. Когда Адриана остается в конце девятнадцатого века, с импрессионистами, это означает, что Гил оставил часть своих мечтаний в прошлом, а другую часть забрал в настоящее. От прошлого нельзя отрекаться, но и о настоящем нельзя забывать.
— Подождите, там же дневник Адрианы был. Его Пендеру читает экскурсовод, которую, кажется, играла Карла Бруни.
— Неважно. Дневник можно выдумать, для Пендера это не представляло трудности, он же писатель. Важно другое. Великий философ Вуди Аллен словно говорит нам этим фильмом: живите в свое удовольствие, вспоминайте прошлое, но обеими ногами стойте в настоящем, тогда у вас точно будет будущее. В фильме нет драматических моментов, но мне думается, что если бы Пендер принял решение остаться в мнимом прошлом, а оно без сомнения не настоящее, поскольку Пендер никогда не приносил оттуда вещественных доказательств, всегда встречал только тех, о ком читал и кем восхищался, тогда как в любом времени есть забытые гении, — мне думается, что прими Пендер другое решение, и нам показали бы мрачный финал: мертвый Пендер лежит посреди дороги.
— Возможно. А почему вы спросили об этом фильме? Я, конечно, люблю Аллена, каждый год жду его очередную картину.
— Почему спросил? Просто-напросто захотелось поговорить с кем-нибудь о творчестве Аллена, а тут вы подвернулись. Для меня фильмы Аллена всегда были и будут настольными. Брэдбери говорил, что если бы каждый из нас ежедневно думал о смерти, человечество стало бы коллективным Вуди Алленом. Не спешите аплодировать Брэдбери, он был неправ. Аллен боится не смерти, он боится быть забытым, как и его персонаж Пендер. Почему Пендер грезит Золотым веком литературы? Потому что он хочет написать такую же великую книгу, какую в свое время написали Фицджеральд и Хемингуэй. Он думает, что если напишет ее, то точно не будет забыт. Аллен называет это меланхолией Озимандии. Вы знаете, кто такой Озимандия?
— Что-то связанное со страной Оз Баума?
— Пальцем в небо. Это греческий вариант имени Рамзеса Второго, настоящего эгоманьяка, сомневаюсь, что кто-нибудь ещё так неистово поклонялся собственному эго. Рамзес покорял соседние страны, воздвигал повсюду статуи и обелиски с собственным изображением, оставлял после разрушительных походов надписи с упоминанием своего имени. У Шелли есть стихотворение, посвященное Озимандии. Там встречаются такие любопытные строки:
И сохранил слова обломок изваянья:
«Я — Озимандия, я — мощный царь царей!
Взгляните на мои великие деянья,
Владыки всех времен, всех стран и всех морей».
Кругом нет ничего… Глубокое молчанье…
Пустыня мертвая.… И небеса над ней.
— Великолепное стихотворение! — восхитился Аккан. — Вуди Аллен — настоящий интеллектуал. Я вспомнил! Меланхолию Озимандии он упоминает в нескольких фильмах.
— Не в нескольких. Во многих, — поправил Аккана Кортес. — Для Аллена это главная идея. Все умрут, и ни от кого ничего не останется, даже от Аристотеля и Платона, ведь и их будут помнить не всегда. «Полночь в Париже» — единственный фильм Аллена, который разрешает проблему меланхолии Озимандии. Не стоит пытаться ставить себе памятник при жизни, его занесет песками времени. Не нужно грезить о прошлом, иначе вы там и останетесь. Просто не думайте об этом. Живите настоящим моментом. Эту мысль можно развить и экстраполировать на нынешнее состояние умов казахстанской молодежи. Я понял, в чем ваша беда.
— Странно, но мне почему-то кажется, что вы сейчас скажете: «Вы слишком серьезны. Серьезное лицо ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица», — сказал, засмеявшись, Аккан.
— Вы ошиблись. Не знаю, откуда вы взяли эту фразу, кого цитируете, я ведь не могу всего знать. Я хотел сказать о другом. Казахстанская молодежь очень интересуется историей. Она грезит прошлым. Да, когда-то предки казахов сотрясали мир, покоряли Европу, держали в страхе половину человечества. Но на ностальгии не построишь будущее. Американцы потому и вырвались вперед, что не думали о прошлом и активно усваивали опыт соседних народов. Стартапы свершаются не в музеях и пантеонах, новые идеи рождаются там, где нет иллюзий и тоски по прошлому.
— Стоит подумать об этом, господин Кортес. Господин Вайнберг согласился бы с вами.
— Вайнберг, я полностью в этом уверен, думает точно так же. Поэтому он не строит музеи и усыпальницы. Вайнберг создает будущее, потому что прописался в настоящем.
— Насчет музеев вы неправы. У Вайнберга кроме технополиса есть и другие проекты. Сегодня на вечере будет представитель Фонда Наследия, спонсируемого Вайнбергом.
— Любопытно будет узнать об этом проекте от самого представителя. Я обязательно приду на закрытую вечеринку.
***
Весь день Габриэль проработал в предвкушении хорошего вечера. Закончив лекции и закрыв за последним уходящим студентом кабинет, он вышел из здания университета. В воздухе стало пасмурно, над верхними этажами красивых новостроек сгущались темные тучи. Привыкший к капризам здешней погоды, Габриэль открыл зонт, который в эту пору всегда таскал с собой, и под начинающимся ливнем быстро добежал до ближайшего такси.
Кортес подумал о том, что прошло уже две недели, как он преподает в Нуртехе, а его ещё до сих не познакомили с сотрудниками секретного отдела, работающего над созданием Теории Всего, и не ввели в курс дела. Темуджин, на которого Ларри возложил функции по координированию работы сотрудников, был занят важным для него открытием в области нанотехнологий, но обещал приступить к совместной деятельности в ближайшее время.
Кафе, где должно было состояться мероприятие, находилось на правом берегу города. По мере приближения к цели можно было увидеть, как шикарные торговые центры и хайвелы, одурманивающие одним своим видом, сменяются более скромными в планировке и внешнем облике зданиями. В конце пути пошли хрущевки, рассыпающиеся на глазах в пыль, и пугающие приезжего человека частные дома, покорно ждущие сноса. Столица представляла собой наспех построенное нагромождение карточных замков, окруженное наследием былой эпохи, которое почему-то не спешило покидать сцену. Но человек, долго живущий в таком городе контрастов, постепенно привыкает и к скоплению всего красивого, того, что создано напоказ, для взоров туристов, и к убогости старой части евразийского мегаполиса, упрямо засевшей перед вместилищем архитектуры будущего.
Ларри Грант, приехавший в кафе раньше Кортеса, развлекался с очередной пышногрудой красоткой, Темуджин о чем-то оживленно беседовал с Акканом и Акжаном, несколько малознакомых Кортесу сотрудников Нуртеха ели пиццу.
Вслед за Кортесом в кафе вошел Вайнберг в синей футболке и в спортивных штанах такого же цвета (Андрей не изменял своему стилю неформала) в сопровождении заметно стареющего мужчины европейской внешности в зеленом костюме и молодой девушки казахской национальности в голубом платье.
— Габриэль, рад видеть тебя. Я был занят и просил Аккана передать тебе приглашение на нашу вечеринку. Это сотрудник нашего знаменитого секретного отдела Юрий Михайлович Семецкий, лучший специалист по квантовым технологиям в постсоветском пространстве.
— Очень рад. — Кортес пожал руку Семецкому. — Надеюсь, вас сегодня не убьют.
Семецкий по-доброму улыбнулся, Вайнберг что-то шепнул Юрию Михайловичу на ушко, на что последний ответил второй порцией улыбки, и Габриэль понял, что лучший специалист по квантовым технологиям тоже читает Лукьяненко и других писателей, любящих убивать Семецкого.
— А это моя девушка и по совместительству директор Фонда Наследия Шынар Ордабаева. Очень скоро она станет фрау Вайнберг. Я не говорил тебе, что в круг моих интересов входит изучение казахского Возрождения, точнее попытки Возрождения? Значит, расскажу. Сядем за этот столик, располагайтесь поудобнее.

Шынар была высокого роста, на глаз примерно сто семьдесят сантиметров. Лицом она была смуглая, её большие черные глаза украшали и без того выразительное лицо. Густые черные брови дугой ложились поверх глаз, мясистый, выступающий, средней величины, нос делал лицо казашки милым и очаровывающим. Любой физиогномист скажет вам, что такой нос принадлежит великодушным и чувственным людям. Вьющиеся длинные густые волосы были собраны в косу. Спортивное телосложение только придавало девушке шарма и привлекательности.
— Шынар пишет стихи, — сообщил Кортесу Вайнберг. — Если гости желают, она прочтет их.
Кортес и Семецкий не возражали против стихов. Семецкий изучал японистику в Университете дружбы народов — это было его первое высшее образование, — и очень любил восточную поэзию. Кортес и сам писал стихи, но при этом не был ревнив к чужим творениям. Шынар встала из-за стола, закрыла глаза и проникновенно прочла:
Мы перестали писать о любви.
Мы позабыли, как сердце стучит,
Глаза наши — звезды на Млечном пути,
А мысли — как песни забытый мотив.
Будто узнали ответ на вопросы.
Кто ты, зачем и куда так спешишь?
Если любовь — это драмы и слёзы,
Стоит ли звездам смотреть сверху вниз?
Взглянем вослед мириадам столетий,
Спросим себя: в чем же смысл любви?
Может быть, в ласках лучей на рассвете,
В бурных приливах в багровой крови?
Горы вопросов становятся пылью,
Звезды близки, когда в сердце любовь,
Счастье в душе, мы об этом забыли,
Разум запутали нитями снов.
Мы перестали смотреть в небеса,
Верить в любовь на разумных планетах,
Алые видеть в морях паруса,
Думать о ранних и поздних заветах.
Не перестало лишь сердце стучать,
Также пылают огнем наши очи,
Хочется чувствовать, жить и мечтать,
Ставить в вопросах три жирные точки…
Там, на планетах, писать о любви
Будут, наверно, вовек, бесконечность,
Глаза наши — звезды на Млечном пути,
А сердце — далеких комет безмятежность.
Притихшие во время декламации стихов посетители кафе дружно зааплодировали Шынар. Вечер продолжился; вскоре стол, за которым сидели гости Вайнберга, расширился и дополнился сотрудниками Нуртеха. Вайнберг рассказывал всем о помолвке с Шынар, говорил о её профессиональных качествах и привычках. Как оказалось, Шынар писала стихи редко, в свободное от работы время, и считала эту деятельность незначительным хобби. Делом её жизни были дизайн, изобразительное искусство и скульптура. Человек высоких художественных вкусов, Шынар могла часами рассуждать о художниках, направлениях и школах. Она была остроумна, воспитана, начитанна. Девушка знала себе цену, но при этом не выказывала высокомерия. С малознакомыми людьми Шынар держала себя на расстоянии. её вежливость и улыбка производили очень сильное впечатление на окружающих. Кортесу показалось, что Шынар — типичная инженю.
Для Вайнберга эта вечеринка была возможностью собрать сотрудников, имевших отношение к секретному проекту, и поставить перед ними первоочередные задачи. Поэтому после нескольких реплик касательно личной жизни Андрей сразу перешел к главной цели вечера.
— Как и все мои сверстники, я проводил свое детство на футбольных площадках. Но однажды я сильно заболел. От нечего делать я снял с полки первую попавшуюся книгу, которой оказался томик с произведениями Жюля Верна, и с тех самых пор научная фантастика — моя вторая жизнь. Два малыша, Костя Циолковский и Жак Ив Кусто, прочитав в свое время «Из пушки на Луну» и «Двадцать тысяч лье под водой», изменили мир. Один из них стал основоположником советской космонавтики, другой изобрел акваланг и сделал многое для развития океанографии. Среди миллионов детей, подобных Косте и Жаку, был ещё один, который прочитав Верна, Уэллса, Азимова, Беляева, Стругацких, Гаррисона, Брэдбери, Кларка, Саймака, Хайнлайна, Лукьяненко и многих других фантастов, взлелеял и воплотил мечту детства — город ученых. Этим ребенком был я. Как видите, мне удалось создать такой город и населить его настоящими гениями. Конечно, я не был первым человеком, построившим наукоград, и мне, по сути, пришлось копировать уже известные в мире парки технологий. Но у меня была и вторая мечта, более оригинальная, которая пока ещё не сбылась. Я очень хотел создать машину времени, однако изучив курс физики и став инженером, понял, что сделать это невозможно. Тем не менее, ничто не мешает нам изобрести прибор, способный заглянуть в параллельные вселенные, увидеть разные варианты грядущего события и выбрать самый благоприятный. Сделать это поможет Теория Всего, над которой бьется наш секретный отдел. Наш координатор Темуджин Сансар эти две недели был занят важным делом — прорывом в области нанотехнологий. Поздравим его, друзья!
Темуджин благосклонно принял поздравления товарищей и заверил, что изобретенная им нанотехнология — имплант синапса — перевернет нейробиологию и поможет секретному отделу приблизиться к воплощению идеи навигатора времени.
— Темуджин не хочет спешить с выводами, — объяснил Вайнберг, — поэтому не станет раскрывать планы. Очень скоро мы задействуем изобретение Сансара. У нас уже есть почти все уравнения Теории Всего, и Ларри осталось совсем немного, чтобы закончить работу над математическим аппаратом теории. Думаю, вы все знакомы с его другом детства Габриэлем Кортесом. Он — преподаватель философии. Ему поручено дать философское обоснование нашей работы. Он присоединится к вам, как только Ларри и Темуджин закончат свою часть проекта.
Определив ближайшие цели своих сотрудников, Вайнберг решил перейти к отвлеченным темам. Он спросил Габриэля, какое кино нравится ему больше всего. Кортес ответил, что очень любит фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». Ларри Грант, Юрий Семецкий, Андрей Вайнберг и Акжан Абенов приятно удивились, услышав название, ведь они тоже любили эту кинокартину и считали её величайшим произведением кинематографа.
— В первый раз я ничего не понял, — честно признался Вайнберг, — но посмотрев «Гражданин Кейн» во второй раз, сообразил, что «rosebud» — это точка бифуркации, тот самый момент в биографии Кейна, когда он мог прожить иную жизнь, настоящую, но выбрал неверное решение.
— У меня было точно такие же мысли, — поделился своим мнением Кортес. — Во время просмотра я спрашивал себя: «Почему нам дважды показывают снежный шар?», и понимал, что это важное воспоминание Кейна о той самой точке бифуркации. Розовый бутон, который на самом деле является названием фирмы, изготовившей санки, показанные в начале фильма и сожженные в финале, и снежный шар — это символы детства, той поры, когда Кейн был по-настоящему счастлив, свободен и чист душой. Вся последующая жизнь Кейна была детерминирована деньгами, властью и изменой собственным принципам. Это самая сильная экзистенциальная драма в истории кино. её не зря называют лучшим фильмом всех времен и народов.
Гости перешли к обсуждению жемчужин кинематографа. Габриэль, посмотревший огромное количество гениальных фильмов, с легкостью анализировал ту или иную картину с точки зрения философии. Его собеседникам это явно нравилось, поскольку они с азартом подбрасывали ему то или иное название, стремясь узнать, что скрыто за коллизиями великолепных киноисторий.
Каждый заказал свой любимый напиток. Семецкий пил кофе, Вайнберг — чай, Ларри — апельсиновый сок, остальные — кока-колу. Все, кроме Вайнберга, ели конину. Андрей был большим любителем лошадей, обожал скачки, мог целыми часами пропадать на ипподроме, и не понимал пристрастия людей к поеданию животного, которое вот уже пять тысяч лет сопровождает человека в его неспешном шествии по тропе истории.
Когда заведение закрылось, все вышли на улицу и прошлись по проспекту Абая. Ларри обратил внимание товарищей на особенную красоту звездного пейзажа. Неведомый пахарь просеял ночное небо звездочками, белесая полоса, называемая Млечным путем, прорезала небесное поле.
— Человек — самое красивое существо во вселенной, — говорила Шынар спорившему с ней о чем-то Семецкому. Он держал в руках пачку «Parliament», но не решался закурить в присутствии девушки.
Ища глазами болтавшего с кем-то Вайнберга, Шынар встретилась взглядом с Кортесом. В этот момент Кортес поймал себя на мысли, что вновь начал испытывать чувство, которое, как ему казалось, навсегда атрофировалось в его выхолощенной невзгодами душе.
— Каждый скульптор и художник, работающий с портретом, знает, что человек отличается от других животных красотой тела, — продолжила отстаивать свою точку зрения Шынар. — Философы вторят нам, художникам, говоря, что красивый сосуд обладает соответствующим содержимым. Душа человека, так же как и его тело, прекрасна. Если мы самые красивые существа на Земле, то у Всевышнего наверняка есть планы относительно нас.
— То есть вы хотите сказать, Шынар, что у человечества особая роль в истории Земли? — вмешался Кортес в беседу девушки с Семецким. — Есть идея американской исключительности, которая мне претит, а вы, насколько я могу судить, продвигаете идею человеческой исключительности? Бог любит нас больше других существ? Но ведь они априори равны нам во всем. Человек мало чем отличается от животных, разве что излишней жестокостью и дьявольской хитростью, которая, в конце концов, оборачивается глупостью. Не животные вырубают леса и загрязняют воздух химическими веществами, не они занесли половину популяций земного шара в Красную книгу, предварительно истребив ни в чем не повинные виды. Животные, повторюсь, равны нам, но мы кичимся, хвастаемся своей разумностью, называем себя венцом природы, хотя на деле все ещё руководствуемся инстинктами и недалеко от них ушли.
Шынар от неожиданности рассмеялась. Она была особенно красива, когда улыбалась. В эти моменты на её щечках появлялись привлекательные ямочки, приковывающие внимание окружающих.
— Не думала, что вызову своими рассуждениями такую реакцию. Вы, как мне кажется, не верите в человечество, совсем как Джонатан Свифт, который в ходе написания «Приключений Гулливера» разочаровался в людях и превратил свой бывший поначалу юмористическим роман в едкую сатиру, памфлет. Если бы человечество было таким безнадежным, как вы говорите, Создатель нашел бы способ избавиться от нас, уж поверьте мне.
— Назовите мне хоть одну положительную черту человеческого общества, — сказал с неизвестно откуда взявшейся яростью в голосе Кортес, обращаясь одновременно и к Семецкому, и к Шынар. — Впрочем, вы не сможете найти ее. Понятие презумпции невиновности справедливо по отношению к конкретному человеку, но оно не работает, когда мы пытаемся выступить в роли адвоката человечества. Только человек кормит и растит животное, чтобы потом убить его, только мы убиваем больше, чем нам нужно, тогда как, к примеру, волки, которых мы называем одними из самых кровожадных в мире существ, убивают лишь в состоянии голода и уничтожают только слабых и больных животных; не зря их называют санитарами леса. Мы убиваем себе подобных, а некоторые из нас даже едят их, чего никогда не бывает у животных. Мы знаем, какой вред приносим планете, и все равно не можем остановиться…
— Прощу прощения, но вынуждена перебить, — сказала Шынар, решив сразить собеседника контраргументом. — Вы просили найти хоть одну положительную черту в человечестве? Извольте. Люди не только самые красивые существа на планете, они единственные в мире обладают чувством прекрасного. Музеи и памятники, которые вы видите, картины, которыми любуетесь, книги, которые вы читаете, фильмы, которые вы смотрите, музыка, которую вы слушаете, все это создано людьми. Конечно, скажете вы, не все здания красивы, есть картины, которыми не захочешь любоваться, есть книги, которые здравомыслящий человек не станет читать, есть фильмы, которые вызывают отвращение и спонтанно возникающую мысль «Для кого это снято?», есть музыка, не вдохновляющая и окрыляющая, а отупляющая и низводящая человека до состояния ведомого существа. И вы будете всецело правы. Но не забудьте, что правит миром все же не эрзац-культура, а истинное искусство, обусловленное тягой человека к прекрасному. Были целые периоды в истории человечества, такие как Средневековье, когда человечество погружалось в бездну невежества и предрассудков, запрещая творческим людям творить и совершать открытия. Но на смену мракобесию всегда приходил Ренессанс. Так было в Европе, когда Леонардо да Винчи, Донателло Барди, Рафаэль Санти и Микеланджело Буонаротти своими изумительными произведениями воскресили забытую античную культуру и провозгласили новую эру в истории человечества. Так было в Аравии, где ранний ислам дал толчок развитию научной мысли арабов, породив местный Ренессанс, ярчайшими представителями которого стали изобретатель первого планера Фирнас, врач Авиценна, энциклопедист Омар Хайям и поэт Навои. Чувство прекрасного, умение видеть красивое и быть красивым, вечный поиск гармонии — вот что является нашей отличительной чертой.
Габриэль вспомнил и прочел вслух Заболоцкого. Как уже было сказано ранее, Кортес немного говорил и читал на русском.
Что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
— Так, кажется, написал русский поэт Заболоцкий? Я изучал зарубежную поэзию, когда учился в университете. Ваши слова убедительны, и над ними стоит подумать. Признаюсь, вы поколебали мою веру, точнее, отсутствие веры в человечество. Обещаю поразмышлять на досуге и сделать окончательный вывод. И очень может быть, что я приму в этом вопросе вашу сторону. О, господи, что я говорю? Стой на своем, учили нас на факультете философии. Платон мне друг, но истина дороже.
— Ну, вот мы и дошли до моего дома, — сказала Шынар, когда они оказались в старом центре города. Здесь над домами возвышалось множество кленов, дома были ветхими, из-за чего район казался запущенным и нуждающимся в реставрации. Вайнберг взял Шынар за руку и попрощался со всеми.
— Андрей, позвольте задать вашей невесте последний вопрос. Вот вы, Шынар, говорили про четырех гениев арабского Ренессанса. Почему среди них нет художников?
— Потому, господин Кортес, что изображать людей и животных в исламе строго-настрого запрещено. Только Всевышний может быть творцом прекрасного. Но тяга к творчеству практически непреодолима. Поэтому арабские художники охотно расписывали стены дворцов, придумав каллиграффити — стиль, используя который можно было рисовать животных, представляя их в виде арабских букв, переплетенных в подобие контуров различных существ.
— Этот запрет, как мне помнится, действовал не у всех народов. Персидские художники вполне свободно рисовали людей. И не только персы, но и турки, — сказал долго молчавший Семецкий. — В Персии и в Турции отношение к науке и поэзии было несколько иным, нежели у арабов. В этих странах художникам разрешалось изготавливать миниатюры для книг. Чтобы избежать кривотолков со стороны фанатиков, они старались не использовать линейную перспективу, реалистичность изображения и индивидуальный почерк художника. Почитайте книгу Орхана Памука «Меня зовут Кара». Там об этом рассказано очень подробно.
— Да, это очень хорошая книга, — поддержала Семецкого Шынар. — Я как-то забыла про восточных миниатюристов. У Памука речь идет о книге для султана, в миниатюры к которой вкралось подражание флорентийской живописи. Некто из художников, фанатично преданный канонам мусульманской веры, убивает одного из своих коллег. Сюжет отдаленно напоминает «Имя розы» Умберто Эко.
— «Имя розы» я читал, — сказал Кортес. — её можно обсуждать вечно. Но Умберто Эко как раз-таки западный человек, искусствовед, знаток европейского средневековья. Памука я не читал, постараюсь в ближайшее время наверстать упущенное. Вы говорите, что Памук использует похожий сюжет в своей книге. Что ж, обязуюсь прочесть.
Кортес призадумался. Надо осваивать интеллектуальное наследие Востока, помыслил он. Я хорошо знаю американскую, европейскую и русскую культуру, а вот с восточной, увы, незнаком.
— Памук и Эко. Восток и Запад. А все-таки, если хорошо подумать, какие это разные миры, Запад и Восток, — размышлял вслух Кортес. — И тут, и там Возрождение и гении, опередившие свое время. В Европе ведь тоже были свои запреты. Церковь допускала только живопись на религиозные темы. Да Винчи и другим художником приходилось изворачиваться, применяя аллегорию. Например, в картине Пьеро делла Франческа «Бичевание Христа» под видом сидящего наблюдателя, беседующего с зеваками, присутствующими на казни, художник на самом деле изобразил предпоследнего императора Византии Иоанна Палеолога. Впрочем, я вижу, что вам с Андреем пора идти. Когда я могу вновь вас увидеть, Шынар?
— В Кремниевой степи скоро открывается Музей тюркского Ренессанса. Я — автор идеи и будущий директор музея. Мы с Андреем будем рады видеть вас.
Когда Вайнберг с Шынар скрылись в одном из подъездов старой хрущевки, Ларри, вместе с другими сотрудниками сопровождавший ректора Нуртеха, толкнул Кортеса в бок.
— Что с тобой, Габриэль? Это чужая невеста. Ты даже не пытался скрыть свой интерес к ней.
— Мы всего-то и беседовали о культуре, ничего более. Ренессанс, миниатюры, человеческая красота как объект искусства. Невинные темы.
— Как-то вы странно об этом беседовали, — заметил Семецкий. — Вмешались в наш спор, повторили мои доводы, не дали мне сказать и слова. Ларри прав, вы слишком откровенно на неё смотрели. Андрей был немного уставшим после долгой вечеринки, поэтому и не заметил блеска в ваших глазах. Предупреждаю: Вайнберг ревнив.
— Все в порядке, ребята, — поспешил заверить коллег Кортес. — Шынар — интересный человек, и, смею заверить, у меня к ней лишь интеллектуальный интерес.
Габриэль не помнил, как вернулся домой. Было уже поздно, когда Кортес прошел в свою комнату, разделся, выключил свет и попытался уснуть. Сделать это было трудно. Мысли теснились в голове, в душе рождалось чувство, о котором Габриэль уже успел забыть. Это не была страсть, которую он все ещё испытывал к Аманде, втайне надеявшейся на его возвращение в Итаку. В новом чувстве отсутствовали низменные порывы и плотские желания.
Из комнаты Ларри донеслась песня бессмертной группы «Битлз». В эфире лондонской радиостанции вспоминали ливерпульскую четверку. В далеком тысяча девятьсот шестьдесят пятом году битлы пели об утраченной любви. Известно, что автор песни Пол Маккартни посвятил её своей матери, умершей в то время, когда ему было четырнадцать лет. Однако песня явно была не о любви к матери. Каждый переживший безответное чувство мог бы назвать песню своей.
Yesterday,
All my troubles seemed so far away,
Now it looks as though they’re here to stay.
Oh, I believe in yesterday.
Suddenly,
I’m not half the man I used to be.
There’s a shadow hanging over me.
Oh yesterday came suddenly.
Кортес вспомнил фильм «Yesterday» с Химешем Пателем в главной роли, в котором показана альтернативная реальность: ливерпульская четверка никогда не создавала группу, никто не знает песни о Люси и о поезде, следующем за собратом, отправляющимся в девять минут десятого. Да, сложно представить себе мир, где в радиоэфире не звучит «Oh, I believe in yesterday». А можно ли верить во вчерашний день? С другой стороны, в эпоху всеобщего разочарования, когда завтра пугает, а сегодняшний день хочется не прожить, а пережить, не остается ничего другого, кроме ностальгии, веры во вчера. Впрочем, сейчас Кортесу хотелось верить во все времена сразу. Габриэль уже мог дать определение тому, что завладело его разумом и душой. Несомненно, это была чистая, всепоглощающая и возвышающая нас любовь, чувство, на которое способен не каждый. Только вот какая любовь? Агапе, филио, сторге, эрос? Уж точно не эрос и не сторгис.
***
«Экспериментальное подтверждение Большого взрыва при помощи Женевского коллайдера порождает ещё больше вопросов, чем ответов. Это дает всего лишь два ответа: первый — у Вселенной было Начало, второй — существует Реальное время. Есть ещё понятие «Воображаемое время» (мнимое). Это означает, что времени физически нет, а под ним подразумевается порядок изменения мира вокруг нас. Почему же Большой Взрыв подтверждает, что Время существует? Ответ на этот вопрос прост! Если взять время на квантовом уровне как простой порядок изменения мира вокруг нас, то получается, что Вселенная не нуждалась в Начале. Потому что одну секунду на атомных часах измеряют тем, сколько вспышек производит определенный атом в определенное количество времени. Если Момент Творения оказывается нулевым, то получается, что атомы существовали всегда! И взялись практически из ниоткуда. А значит, у Времени фактически не было Точки отсчета! Следовательно, в Воображаемом времени Вселенная самодостаточна и существовала вечно. А эксперименты говорят об обратном. Была точка начала Вселенной и точка Отсчета времени. Откуда же взялся Взрыв, неизвестно, но что происходило после него, мы знаем. Все мы слышали о Бозоне Хиггса или Частице Икс. Эта частица обладает нулевой массой и огромным количеством чистой энергии. Бозон Хиггса наверняка и был первой субатомной частицей Вселенной после секунды её зарождения.
Через секунду после образования Бозона Хиггса Вселенная была очень горячей и продолжала расширяться. В то время она расширялась с ужасающей скоростью. Например, за одну сотую долю секунды она превратилась из точки, которая в своих масштабах меньше атома, в пространство размером с теннисный шар. Кажется, немного. А теперь представьте, что за такой же отрезок времени теннисный шар стал размером с нашу Землю! То же самое происходило с нашей Вселенной. Чем больше она становилась, тем больше относительно этого размера она увеличивалась. Когда Вселенная начала остывать (по мере расширения), частицы в ней стали замедляться. Теперь Вселенная вступила в новый этап своего развития. Дело в том, что во время Большого взрыва возникло не только вещество, но и его враг — антивещество. Этот этап называют борьбой двух веществ. Что же такое антивещество? В математике отрицательные и положительные числа, например, один и минус один, при сложении дают нуль. Так же и с антивеществом. Вещество и антивещество обнуляют друг друга. К счастью, в первичной Вселенной вещества оказалось больше, чем антивещества. И на каждый миллион частиц антивещества приходилось миллион и одна частица вещества. Таким образом, атомы с каждого миллиона по одной сохранившейся частице построили Вселенную. Кажется, мало, но это не так. Выходит, все, что нас окружает — это остатки материи, которой мир был наполнен в период борьбы вещества и антивещества. И эти остатки составляют миллиарды световых лет в поперечнике. Известно, что скорость света составляет триста тысяч километров в секунду. Сравним эти миллиарды световых лет с расстоянием от Земли до Солнца, которое равно восьми световым минутам. Чувствуется мощь и разница? Вернемся к первичной Вселенной. После борьбы вещества с антивеществом вокруг нашей Вселенной образовалось молочное облако газов, внутри которого Вселенная продолжала расширяться, остывать, а частицы — замедляться. На это ушло примерно триста тысяч лет. Облако рассеялось, и что же мы видим? Вселенная остыла, и образовался водород. Тучи из водорода бороздят пространство, сталкиваются, нагреваются, загораются первые звезды. Появляется свет. Спустя примерно девять миллиардов лет на окраине нашей галактики образуется ещё одна звезда и одновременно с этим вокруг зарождаются восемь новых планет. Так появилась наша Солнечная система, возраст которой около пяти миллиардов лет».
Габриэль прочел абзац из конспекта, составленного Ларри по его просьбе, и закрыл тетрадь. В голове путались понятия, очень сложно было разобраться в дебрях теории.
В ночных снах он с недавнего времени часто видел Эйнштейна, с пышной шевелюрой, с хитрыми насмешливыми глазами, который у себя в доме на улице Крамгассе, сорок девять, в Берне, в период работы в Патентном бюро, бродил по комнате и ломал голову над теорией относительности.
«Сначала был Кортес, затем Колумб, теперь Эйнштейн. Может быть, в моих сновидениях есть что-то положительное? Мне кажется, что я иду на поправку, раз образы завоевателей сменяются личностями гуманистов и великих ученых. Мне непременно нужно снять внутреннее напряжение путем перенаправления энергии на творчество. Философия перестала быть для меня средством борьбы с фобиями. И я чувствую, что могу быть по-настоящему полезным миру», — подумал Кортес, готовясь к встрече с сотрудниками. Сегодня Темуджин соберет всех сотрудников секретного отдела, и Габриэль сможет начать работу над философской аргументацией навигатора времени.
Секретный отдел, святая святых Нуртеха, помещался в большом кабинете с квантовым компьютером посередине, который издалека был похож на паровую люстру из какого-нибудь фильма в жанре стимпанк, помещенную в цилиндрический корпус белого цвета. К корпусу были подведены насосы системы охлаждения с жидким гелием и несколько классических компьютеров с программой-эмулятором, имитирующих работу квантового компьютера.
— Эта люстра — квантовый процессор, — объяснил Ларри Грант Габриэлю Кортесу, когда сотрудники вошли в кабинет, — Радиосигналы поступают туда по этим проводам. Они преобразуются в кубиты, но ненадолго, поскольку квантовые биты нестабильны и нам нужно успеть выполнить какую-то одну определенную задачу, пока процессор находится в режиме работы. Как видишь, провода подведены таким образом, чтобы можно было избежать постороннего шума и перепада температуры в помещении. Станет чуть теплее или холоднее — и квантовый процессор превратится в бесполезную утварь.
— Сколько кубитов задействовано в этом компьютере? — спросил Кортес.
— Семьдесят. Больше, чем у какого-либо другого квантового процессора в мире. За три секунды решает задачу, с которой классический компьютер не справился бы и за два миллиона лет.
— Серьезно?
— Да.
— А какие игры потянет квантовый компьютер?
— Никакие не потянет. Ты даже не сможешь посмотреть на нем фильм, напечатать трактат или подготовить презентацию слайдов. Для этого есть классические компьютеры. Квантовый процессор предназначен для решения совсем других задач, с которыми не справится даже новейший суперкомпьютер. Управление беспилотными автомобилями, разработка систем искусственного интеллекта, обучение нейросетей, разработка криптосистемы, расчет химических реакций, оптимизация потока товаров в логистике, создание новых лекарств и вакцин — вот задачи, которые по зубам только квантовым компьютерам. А вот и Темуджин. Послушаем его.
В кабинет вошел Темуджин Сансар. Он поздоровался со всеми за руку, предложил сесть за круглый стол, располагавшийся рядом с квантовым компьютером, насосами системы охлаждения и классическими компьютерами. По Сансару было видно, что он полон свежих сил и готов к сотрудничеству.
— Имплант синапса был тем самым звеном, без которого наши усилия оставались напрасными, — сказал Темуджин своим коллегам, доставая из кармана титановый шуруп размером с горошину. — Это, естественно, лишь рабочий прототип. У меня давно появилось предположение, что квантовый компьютер, над созданием которого трудятся несколько конкурирующих гигантов индустрии информационных технологий, может оказаться не тем, чем кажется. На самом деле это приемник. Нелокальное принимающее устройство.
— Что оно принимает? — спросил Габриэль.
— Квантовый компьютер вполне способен принимать сигналы из параллельных реальностей. Это утверждение не противоречит интерпретации Эверетта, но мы ещё ничего точно не знаем, ведь имплант синапса испытывали только на мышах. Когда имплант вживляли в мозг мыши, она словно чувствовала, что мы собираемся выпустить её из клетки раньше обычного времени, и за пять минут до открытия уже сидела у двери. Когда мы в другой раз поставили перед ней тарелку с пустым пакетом, она не стала спешить с раскрытием пакета и зашла обратно в клетку, как будто знала, что мы её обманули. Были и другие опыты, подтвердившие нашу гипотезу: мышь видела альтернативные вселенные, в которых события шли по сходному сценарию. При этом расчеты, которые велись на эмуляторах, ещё далеки от совершенства и не позволяют нам судить обо всем этом со стопроцентной вероятностью. Однако мы можем проверить их с помощью уравнений, выведенных Ларри Грантом. Результаты наших исследований я предоставляю вам, господин Кортес.
Сансар встал из-за стола, подошел к шкафу, вытащил из него папку с бумагами, вернулся к столу и отдал документы Кортесу.
— Прочитав отчеты, вы можете дать им интерпретацию с точки зрения философа.
— Большое спасибо. Наконец-то я могу приступить к своей части проекта, — обрадовался Габриэль.
— Здесь большой фронт и для вас, господа, — Сансар обратился к Семецкому, Акжану и Аккану, — Нам нужно синхронизировать работу импланта синапса и квантового процессора. Мы на пути к созданию навигатора времени.
— Да, господа, навигатор времени почти в наших руках, — сказал Ларри, — примерно через месяц мы сможем представить миру результаты нашего общего труда.
Сотрудники ещё долго говорили о том, каким потенциалом обладает их изобретение и как оно может изменить мировую историю. Кортес был в восторге от того, что ему довелось стать свидетелем прорыва в науке и принять в нем активное участие.
На следующий день Сансар сообщил Гранту о том, что ему необходимо уехать в Пекин, чтобы принять участие в казахстанско-китайском проекте по созданию квантовой сети. Грант был недоволен, поскольку без Сансара очень сложно было довести дело до конца.
— Дело за малым, — утешил Сансар Ларри, — Нужно вывести недостающие уравнения Теории Всего, синхронизировать работу импланта синапса и квантового процессора, обосновать исследования с точки зрения философии. Все это вы можете сделать без меня. Вайнберг в курсе, он сам настоял на моем участии в международном проекте. Я буду на связи.
— Это все понятно, Темуджин. Я другое не понимаю. Почему вам необходимо уехать прямо сейчас, когда самое трудное позади? Пусть найдут другого специалиста, их у нас в Нуртехе полно. Да, нам нужно всего лишь вывести уравнения Теории Всего и выбрать правильную позицию в отношении того, каким является наш мир: детерминированным, компатибилистским или вероятностным, сиречь подчиненным случаю. Но без вас мы не справимся.
— Не думаю, что могу быть полезен вам в ближайшие два месяца, а именно столько времени займет ваша работа, — ответил Сансар. — Я чувствую, что очень скоро в нашем секретном отделе произойдут события, которые окончательно убедят вас в том, что Бог играет в кости.
— Разве буддисты верят в Бога? Я всегда думал, что теология — последнее, что интересует последователей Сиддхартхи.
— Вы правы. Будда не задавался вопросами о существовании богов, поскольку был сосредоточен на борьбе со страданием. Знаете, как он смог победить страдание? Будда понял, что мир и все, что с ним связано, не более чем иллюзия. Почему настоящий буддист всегда избегает конфликтов? Потому что их не существует. Наша реальность иллюзорна. Я стал изучать квантовую физику именно потому, что она перекликается с основными положениями буддизма. Воззрения Бодхисатвы ничем не отличаются от представлений физиков о так называемом мозге Больцмана, возникающем в результате случайной флуктуации и обретающем дазайн.
***
Католик по рождению, Габриэль безуспешно искал католическую церковь рядом с Кремниевой степью. Он нашел её недалеко от дома Шынар, которую не видел уже несколько дней.
Священник польского происхождения Ян Вишневский отслужил мессу и собирался удалиться в конфессионал, когда Кортес попросил о личной беседе. Они вышли во двор, где прихожане наслаждались редким затишьем на улице.
— Не верите в Бога? — спросил гладко выбритый, в строгой сутане, пожилой брюнет Вишневский, всматриваясь в лицо Кортеса. — Или верите иначе? Вы не молились во время мессы.
— Мне сложно называть себя верующим, — признался Кортес, — я поэтому и пришел к вам. Я — преподаватель философии.
— Понимаю. Необходимость штудировать десятки концепций автоматически делает человека если не атеистом, то, по меньшей мере, агностиком. Я вырос в семье коммунистов, простых советских людей польского происхождения, бывших непоколебимыми материалистами. «Капитал» и «Календарь атеиста» были моими настольными книгами. Все изменилось в начале девяностых, когда я уже был женат. Советская власть пала, в стране была неразбериха, люди подавались в секты, которые в то время росли как грибы. Я же в отличие от них искал настоящую истину. Коммунизм был дискредитирован, а православие казалось мне насквозь прогнившим и фальшивым, к тому же произведения Льва Толстого «В чем моя вера?» и «Розекрейцерова соната» привили мне критическое отношение к любой религии. Впрочем, как сказал Шарль Пеги, никто так не сведущ по части христианства, как грешник. Мы с женой переживали не лучшее время, но у нас был полулегальный бизнес, который контролировался организованной преступной группировкой, в те времена такое было сплошь и рядом. В тот знаменательный для меня день мы с супругой находились в Риге, где должны были встретиться с деловым партнером. Он был католиком и посещал Церковь Скорбящей богоматери. Церковь была битком набита людьми, певшими на незнакомом нам языке. Мы ждали партнера у входа в храм, нам были хорошо слышны слова священника. Когда он произнес: «Offerte vobis pasem», что означало: «Приветствуйте друг друга с миром и любовью», у нас с супругой внезапно случилась глоссолалия, и мы неожиданно для себя стали приветствовать прихожан на ангельских языках. Это был момент религиозного экстаза, минута причастности к вечности. Вот тогда я и поверил в Бога. Вы должны понять, что этого не объяснишь словами. Это чудо, одно из тех чудес, что открывают заблудшему человеку истинный взгляд на Бога. Кому-то Бог говорит: «Я — Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна» — и делает его святым Павлом, а кому-то открывает глаза вот таким небольшим чудом. Я не сразу стал посещать Католическую церковь, мой путь к Богу был долгим. Но мысленно я обещал стать ревностным католиком. Богу свойственно оказывать милость, говорит Фома Аквинский в «Сумме теологии». Он проявил эту милость ко мне, не дав мне затеряться в мирской суете и не позволив забыть о данном мной обещании. Так я стал католическим священником.
— Мне не хватает такого чуда, — с грустью сказал Кортес, — все в этом мире говорит мне об отсутствии всесильного существа, управляющего Вселенной. Достоевский когда-то написал: «Если Бога нет, то все дозволено» и глубоко ошибся. Сартр на одной этой фразе построил целое учение — экзистенциализм, а я своим образом жизни опроверг ее. Да, я не живу по духу и букве религиозного морального кодекса. Но благодаря этому обстоятельству, то есть отсутствию в моей жизни незримого существа, пугающего меня адским огнем и муками, я вынужден более серьезно задумываться о последствиях своих поступков, расширять круг чтения и учиться жить в гармонии с людьми, не будучи при этом зависимым от религиозных стимулов. Верующему человеку кажется, что жизнь без Бога невозможна. Таким людям я всегда отвечаю, что задолго до появления у еврейского народа девяти заповедей у шумеров, египтян, финикийцев, ахейцев и майя были аналогичные правила поведения в обществе. Мой Бог — законы общечеловеческой морали. Я живу в соответствии с категорическим императивом Канта «Поступай с другими так, как тебе хотелось бы, чтобы поступали с тобой», и мне этого достаточно. Религия дала миру истребление майя, ацтеков и инков, Варфоломеевскую ночь, инквизицию, крестовые походы и конкордат с Гитлером. Я боюсь Бога, оправдывающего такие позорные предприятия.
— Да, это отчасти так, — согласился священник, — только истинный Бог тут не причем. Знаете, у русского поэта Майкова есть такие строки:
Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.
— Бог выше помыслов и деяний людей, и когда тебе плохо, только Бог может исцелить тебя. Бог не отвечает за конкретные действия тех, кто совершает омерзительные поступки, прикрываясь Богом. У церкви были ошибки, никто не отрицает этого. Если вы помните, двенадцатого марта двухтысячного года, в первое воскресенье Великого Поста, в традиционной воскресной мессе в соборе Святого Петра папа Иоанн Павел Второй публично покаялся в грехах Католической церкви и попросил прощения за преследование евреев, раскол церкви, инквизицию, религиозные войны, крестовые походы и многие другие очерняющие церковь поступки. Важно не то, как вели себя отцы церкви, ибо они тоже люди. Важно то, что настоящий христианин найдет в себе силы покаяться за ошибки братьев и сестер, поскольку он знает, что Бог есть любовь. Я только что приводил примеры из поэзии, но Нагорная проповедь — ярчайший образец хорошей поэзии, квинтэссенция любви, а Иисус — величайший поэт. «Блаженны нищие по велению духа, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены. Блаженны кроткие, ибо примут они в наследие землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо будут они насыщены. Блаженны милосердные, ибо будут они помилованы. Блаженны те, чьи сердца чисты, ибо увидят они Бога. Блаженны миротворцы, ибо наречены они будут сынами Божьими. Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царствие небесное». Уже одних этих восьми строчек мне достаточно для веры в Бога.
— А что вы скажете об иных мирах? Верят ли в Бога на других планетах? Сейчас ученые активно ищут в космосе радиосигналы от развитых цивилизаций. Помнится, церковь сожгла Джордано Бруно за то, что он осмелился говорить о возможности существования инопланетных форм жизни.
— Здесь мы подходим к довольно интересному моменту. Дело в том, что ни Коперник, утверждавший, что Земля вращается вокруг Солнца, ни Галилей, подтвердивший его гипотезы, ни упомянутый вами Бруно не поколебали идею уникальности земли, декларируемую Библией. Земля создана для человека, явствует из Книги Бытия. Разве не о том же говорит антропный принцип в физике? Я получил светское образование, поступал на факультет ядерной физики ещё в благополучное советское время, в канун перестройки, но отказался от поступления перед последним вступительным экзаменом; тогда я был молод и не знал, чего хочу на самом деле. Но база осталась, и я могу привести несколько доводов в пользу уникальности условий, благоприятных для человека. Если бы расстояние от Солнца до Земли было больше или меньше всего на два процента, жизнь на нашей планете была бы невозможна. Если бы Земля имела большее время вращения вокруг своей оси, то разница температур дня и ночи стала бы слишком большой, что так же бы свело на нет шансы на возникновение жизни. Если бы Земля была хоть немного дальше от Солнца, температура её поверхности поднялась бы выше точки кипения воды, и жизнь стала бы невозможна, по крайней мере, в привычной для нас форме. А если бы Земля была ещё дальше от Солнца, то в атмосфере появилось бы слишком много углекислого газа, и наш с вами разговор категорически бы не состоялся. Поэтому говорить о возможности существования жизни на других планетах, где все условия совпали бы с нашими, на мой взгляд, бессмысленно. Хотя, с другой стороны, если Богу будет угодно вдохнуть жизнь в материю в других мирах, он сделает это.
— Тогда получается, что там, где есть разумная жизнь, тоже верят в Бога? — спросил Кортес, подходя со священником к церковной ограде.
Он только сейчас заметил, что пан Вишневский все это время вел его к воротам. «Видимо, я успел надоесть его святейшеству, если он так деликатно указал мне на дверь».
— Убежден, что Бог не оставит другие цивилизации без милости. Когда родился Иисус, в небе на Востоке зажглась звезда. Таким способом Бог дал благоволение всем разумным существам во вселенной. Иисус умер не только за нас, но и за всех, кто живет в большом, населенном по воле Всевышнего цивилизациями, мире. Если, конечно, Бог создал на других планетах условия, близкие к нашим.
— Ваши слова напомнили мне рассказ Артура Кларка «Звезда», — сказал Кортес, задумчиво глядя на ограду. — В ней Бог взрывает сверхновую звезду, которую через миллионы лет увидят на Земле в момент рождения Иисуса. Один из астронавтов, изучавших останки звезды, по совместительству иезуит, в сердцах восклицает: «Боже, существовало так много звезд, которые ты мог использовать. Какая была необходимость предать жителей этой звездной системы огню, чтобы символ их гибели светил над Вифлеемом?». Так что, если Бог существует, нам никогда не удастся понять логику его мыслей. Если вы обратили внимание, святой отец, я вовсе не атеист, я скорее агностик. Как бывший католик могу сказать, что когда существование Бога наконец-то будет доказано, в нашей жизни появится больше смысла, а как агностик я обреченно вздыхаю и вынужден констатировать, что мы никогда не сможем узнать, есть ли тот, кого мы называем Всевышним.
С этими словами Кортес подал священнику руку. Вишневский принял рукопожатие и ответил:
— Мне не нужно никаких доказательств. Бог существует в наших сердцах, и этого достаточно. Я не могу говорить с Богом непосредственно, тет-а-тет, но Бог разговаривает со мной на языке обстоятельств.
— Прощайте, святой отец. Обещаю подумать над вашими словами.
— Да хранит вас Господь.
Пройдя несколько шагов, Кортес повернулся к уже уходящему священнику и, возможно, повторяя жест несломленного папским престолом Галилея, громко, во всеуслышание, крикнул:
— Падре, подождите!
Кортес замолк, сглотнул слюну, и вновь собравшись, соблюдая мерность звучания своего голоса, с четкой расстановкой акцентов сказал:
— А что делать с теми шестью миллионами индейцев, что навсегда утеряны для истории в угоду разбогатевшим на крови Кортесу, Писарро и им подобным? Католичество повинно, оно несет прямую ответственность за разгул Конкисты, вы не можете не знать этого, падре. — Кортес назвал священника именно так, на испанский манер, чтобы подчеркнуть сопричастность мирового католичества к зверствам, творившимся от имени испанской короны и ватиканского папства. — Не можете не знать. Но история вещь упрямая. Не боитесь, что с вами поступят так же? Спросите, кто? Ну, хотя бы те самые инопланетяне, которых Бог готов был сжечь, дабы волхвы могли лицезреть сияние Вифлеемской звезды. Впрочем, вам не понять…
***
Покинув территорию церкви, Габриэль созвонился с Шынар — он взял её номер телефона у сотрудников музея Тюркского Ренессанса, которые временно занимали первый этаж Нуртеха, — и направился к её дому. Шынар с мамой жили в трехкомнатной квартире старой хрущевки. Грязный подъезд, дряхлые санузлы, контрастирующие с отделанными по последнему слову техники квартирами, стали нормой для многоквартирных домов на правом берегу.
Шынар задерживалась в пробке — был час пик, что для Нур-Султана не редкость, — и попросила подождать ее. Дома находится мама, она может занять Габриэля, пока Шынар едет домой.
Внешне Шынар была очень похожа на маму. В меру полная, с едва проступающими на лице морщинами, Марьям-тате была гостеприимной хозяйкой. Она работала учительницей начальных классов и часами могла рассказывать о том, каким должно быть правильное воспитание.
— Рада вас видеть, господин Кортес, — сказала Марьям-тате, приглашая гостя на кухню, где в духовке пеклась домашняя пицца, а на столе красовались аппетитные манты в глубокой тарелке. — Шынар предупредила меня, что вы подождете ее. Вы хотели поговорить с Шынар по поводу открытия Музея тюркского Ренессанса? Я не знаю подробностей, поэтому не буду смущать вас дилетантскими попытками рассказать о неведомом для меня. Зато я могу рассказать вам о новом казахстанском образовании. Вы представляете себе, Габриэль, раньше я каждый день выставляла детям оценки. Нужно было не меньше шести оценок поставить, приходилось «рисовать» или проводить мини-контрольную, чтобы можно было раскидать оценки по клеточкам. Вы не поверите, какой это был ужас. Стыдно вспоминать! В журнале нельзя было сделать помарку, завуч писала замечания по каждому поводу. Хорошо еще, что находились умельцы, способные искусно вырвать испорченный лист и заменить его чистым. С введением новой системы, мы называем её критериальным оцениванием, все изменилось в лучшую сторону. Бумажные журналы заменили электронными, оценок каждый день ставить уже не надо. Дети пишут по две контрольные работы в четверти и ещё одну, заключительную, получают за каждую работу баллы, эти баллы выставляются в специальных графах в электронном журнале, после выставления за последнюю работу баллы автоматически суммируются и компьютер сам выдает оценку. Это такая красота! Родители, правда, недовольны: ежедневных оценок нет, и мамы не знают уровень своих детей. Домашних заданий очень мало, в тетрадях пишут редко, больше работают устно, в группах. Я и сама вижу недостатки. Раньше у нас дети писали лучше, я вам могу показать тетради десятилетней давности, такие замечательные каллиграфические почерки у них были. А теперь почерк у детей испортился, да и требований таких нет, люди ведь больше за компьютером работают. Глубоких знаний нет, потому что новая программа их не требует. А какие ужасы нам пришлось перенести из-за перехода на дистанционное обучение в период пандемии коронавируса, и вспоминать страшно!
— Поверьте моему слову, Марьям-тате, — Габриэль поспешил успокоить учительницу со стажем, — у нас в Штатах та же проблема. Считается, что ученику нужны навыки, а не натасканность в знаниях. Ваш советский опыт изучался на уровне университетов, это было связано с первоначальным отставанием Штатов от Советского Союза в годы освоения космоса. Выяснилось, что глубокие знания и нацеленность на всестороннее изучение предметов не дают опытного в конкретной сфере деятельности работника. Всезнайки зачастую оказывались неконкурентоспособными, что потом выяснилось в девяностые, когда выпускники советских вузов мыли полы в гостиницах. Поэтому Штаты не пошли по пути СССР. В научно-исследовательских университетах Америки работает множество ученых из бывшего Советского Союза. Они отличаются от американцев глубиной знаний и начитанностью, но не могут выжить в условиях конкуренции. Современное американское образование нацелено на профильность и овладение, прежде всего, практическими навыками. Темы не закрепляются, это, конечно, плохо, но учебная программа в каждом штате своя, поэтому где-то программа ближе к советской, где-то продолжает оставаться навыкоориентированной.
— А откуда вы так хорошо знаете особенности школьной системы, ведь вы не педагог?
— Я как раз-таки педагог, правда, университетский. Но в школе мне тоже приходилось работать, в первые годы после университета. Я преподавал историю в провинциальной школе.
***
Габриэль вспомнил свой первый рабочий день в школе. На уроке говорили об эпохе Великих географических открытий. Габриэль Кортес рассказывал шестиклассникам о первых конкистадорах, покорителях Америки.
До Колумба Америку открывали как минимум дважды: в первый раз — тридцать тысяч лет назад, когда семьдесят-восемьдесят предков индейцев перешли на североамериканский континент по сухопутному мосту на месте будущего Берингова пролива, во второй — в тысячном году, когда викинг Лейф Эриксон основал на острове Ньюфаундленд поселение, известное сегодня как Ланс-о-Медоуз. Христофор Колумб, генуэзец, исколесивший всю Европу в поисках информации о западном морском пути, ведущем в Индию — эту идею ему внушил флорентийский географ Паоло Тосканели, — обращался со своим проектом поочередно к правительству Генуи, к португальскому королю Жуану Второму, к английскому королю Генриху Седьмому, и наконец, к испанской королеве Изабелле Кастильской и к её супругу Фердинанду (в этот раз проект Колумба был одобрен и поддержан). Тринадцатого октября тысяча четыреста девяносто второго года, спустя два месяца после отплытия, Колумб высадился на острове Сан-Сальвадор, что стало началом третьего открытия Америки. Вслед за мореплавателями в Америку устремились десятки тысяч обедневших испанских рыцарей, бежавших от экономического кризиса, постигшего Испанию после разрушительных последствий Реконкисты, и от непосильного бремени уплаты налогов в пользу королевской четы и Католической церкви. Самыми известными конкистадорами считаются Эрнан Кортес и Франсиско Писарро. Первый, небогатый, но знатный идальго, завоевал Мексику в тысяча пятьсот девятнадцатом году, вероломно казнил Монтесуму и после смерти стал самой темной фигурой в истории Конкисты. Второй, свинопас и солдат, человек самого низкого происхождения, беспощадный не в пример первому, завоевал империю инков, обладавших собственной письменностью и летописью; печально известен тем, что его солдаты не щадили даже женщин. Конкиста стала самым жестоким, беспрецедентным террором в истории человечества, перед масштабом которого меркнут репрессии режимов двадцатого века.
Заканчивая урок, Кортес задал школьникам излюбленный вопрос, которым повергал в шок и своих одноклассников в детские годы в Итаке, и однокурсников в институте:
— Могли ли первооткрыватели, как величественно их называют апологеты европоцентризма, обойтись без геноцида индейского населения, или империи традиционно надо строить на горах трупов и крови? До Колумба в Америке проживало тринадцать миллионов человек. После нашествия конкистадоров численность индейцев сократилось в два раза, то есть теперь их стало в лучшем случае шесть миллионов человек. Остальные семь миллионов канули в Лету, будучи истреблены «цивилизованными» испанцами. Так вот, я спрашиваю вас, стоило ли открытие Нового Света, стоило ли оно убийств ни в чем не повинных аборигенов, настоящих хозяев земель, обагренных кровью, стекавшей с острий мечей наших предков — испанцев и англичан, причем и первые, и вторые в равной мере повинны в геноциде индейцев? Мы едим картофельные чипсы и хлопья кукурузы, курим табак и пьем кока-колу, но разве эти блага цивилизации стоят отданных за них жизней мирно обитавших вдали от Старого Света майя, ацтеков и инков? Нет, господа, нам пора пересмотреть искаженное кровавыми пропагандистами отношение к истории. История нуждается в ревизии.
Класс аплодировал стоя. Женская половина класса плакала, мужская сжимала кулаки, стыдясь негероического прошлого. Спустя три дня администрация школы попросила Кортеса уволиться.
— Ваши взгляды противоречат политике нашего учебного заведения. Как вы можете поливать грязью собственную нацию, господин Кортес, не говоря уже обо всем американском континенте? — гневно спросил потомка конкистадоров директор школы, сам наполовину латиноамериканец.
***
Прошлое легко забывается. Но во снах воскрешают самые потаенные боли человеческого мозга. Совсем недавно, спустя долгие годы после урока истории, чуть не ставшего концом карьеры Кортеса, ночные кошмары, прекратившиеся после приезда в Казахстан, повторились. Теперь в своих снах Габриэль видел плывущего на запад, фанатично всматривавшегося в сторону мнимого Индийского океана, Христофора Колумба. Высокий, белокожий, рыжеволосый, с орлиным носом, он направлял свои синевато-серые глаза в сторону Саргассова моря и в отличие от всей команды, готовой к кровавому бунту, один-единственный верил, что Индия близко. В два часа пополуночи матрос Родриго де Триана, сидя в вороньем гнезде каравеллы «Пинта», издает крик радости: «Земля! Земля!». Матросы бегут по палубе, благодарят Колумба за его дальновидность и прозорливость, показывают пальцами на клочок суши, видный в отступающей тьме невооруженным глазом. Колумб хитро смотрит в лица морякам и вновь что-то записывает в корабельный журнал.
Психологи советуют не держать свои фобии в себе. Рефлексируйте, говорят они нам, признавайтесь в своих слабостях, только так вы победите страх. Вспомните Гюго, который сказал, что победа над страхом придает нам силы.
Повинуясь тяге к рефлексии, Габриэль, сам не понимая, как это произошло, открылся Марьям-тате, исповедовал ей ту боль, в которой не признался святому отцу. Католичество повинно, несет ответственность за разгул Конкисты, вспомнил Габриэль свои слова, сказанные в сердцах католическому священнику. «Но ведь я прав, — подумал Кортес. — Сто тысяч раз прав».
Марьям-тате, мудрая женщина, молча выслушала Кортеса и только изредка, в знак согласия, кивала. Иногда, чтобы успокоить внутреннюю боль человека, достаточно помолчать с ним в унисон. Слова только ещё больше ранят душу, выворачивают её наизнанку. Марьям-тате вытащила из духовки горячую пиццу и пригласила к столу.
— Колумб был бы доволен таким блюдом, — неуместно сострил Габриэль, — он ведь родился там, где пицца была для местных жителей тем, чем являлся для инков картофель.
— А теперь мы едим и то, и другое, — подытожила Марьям-тате. — Индейцев вы не вернете, мистер Кортес. Надо жить настоящим. Помните Гумилева?
Вот девушка с газельими глазами
Выходит замуж за американца.
Зачем Колумб Америку открыл?
— У истории нет сослагательного наклонения. Открыл, и слава Богу. Так уж получилось, что счастье одной половины людей куется за счет несчастья другой половины.
— Должен вам сказать, Марьям-тате, что к любым попыткам ввести рецепт, формулу счастья, я отношусь с большим скепсисом.
— А я вам так скажу: счастье есть. Оно в настоящем моменте. Недавно я прочитала, что нейробиологи доказали: настоящее длится три минуты. Счастье в этих трех минутах настоящего, которые уходят безвозвратно. ещё недавно настоящее было будущим, а через мгновение оно станет прошлым. Иногда я думаю, что счастье мое ушло вместе с моим мужем Ибрагимом. Без следа ушло. Сгорело в том страшном пожаре. Мой муж был пожарным, господин Кортес, в тот день он вышел вместо заболевшего коллеги, не в свою смену. В мгновенья печали я кляну обстоятельства, вынудившего мужа быть в роковой час в опасной ситуации. А потом я начинаю анализировать и понимаю, что счастье-то есть, оно близко. Дочь моя всегда со мной, рядом, а значит, и счастье неподалеку. И другого не надо.
«Мудрая женщина, — отчего-то с горечью подумал Кортес. — Почему, при всей своей образованности и склонности допытываться до сути происходящего, мне недостает этой простейшей бытовой мудрости, бесхитростного взгляда на события и людей? Куда, до каких подводных камней, доведет меня привычка во всем и во всех сомневаться, в какую точку, не лежащую на прямой, вынесет меня траектория моих суетных дней?»
Габриэль спросил себя, почему открылся незнакомой женщине, даже если она мать его возлюбленной и после недолгих раздумий мысленно ответил, что Марьям-тате, излучающая доброту и вызывающая доверие, всем своим видом располагала к разговору без обиняков, к искренней беседе.
Между тем домашняя пицца пепперони, приготовленная на дрожжевом тесте, так и манила своим аппетитным видом. Готовилась она очень просто. В теплой воде растворялись сухие дрожжи. Мука насыпалась горкой, в неё добавляли соль и дрожжевую воду, все это смешивалось, добавлялось подсолнечное масло. Тесто накрывалось пищевой пленкой, ставилось на двадцать минут в теплое место, а затем раскатывалось на посыпанном мукой столе тонким слоем и выкладывалось на смазанный маслом противень. В отдельной посуде соединялись кетчуп, майонез и соевый соус. Все это размешивалось до однородной массы, которой смазывалась поверхность пиццы. Соломкой нарезали салями, терли сыр и помидоры. Духовку разогревали до ста восьмидесяти градусов и помещали туда сырую пиццу на пятнадцать минут.
— Вот представьте себе, Габриэль, — сказала Марьям-тате, разрезая пиццу, — ни одна пицца не обходится без помидоров или томатной пасты. А ведь это подарок Колумба. Не было бы открытия Америки, не ели бы мы сейчас с вами пиццу.
— Но пицца была известна ещё в древнем Риме.
— Да, но тогда это была не привычная для нас пицца, а фокачча — обыкновенная пшеничная лепешка с сыром. И ели её в основном бедные слои населения. Впрочем, вижу, что вас не переубедить.
В дверь позвонили. Габриэль встал, готовясь открыть, но Марьям-тате опередила его, направившись к выходу.
— А вот и Шынар. Сейчас вместе поедим пиццу и продолжим нашу дискуссию.
Пока Марьям-тате открывала дверь, Габриэлю вспомнился сюжет одного из лучших рассказов Урсулы ле Гуин «Те, кто покидает Омелас». Сюжет был не нов и перекликался с фразой героя бессмертного романа Достоевского Ивана Карамазова, употребленной в беседе с братом Алешей: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка». В Омеласе все счастливы и живут в полной гармонии друг с другом. Однако такой идеальный уклад жизни держится на боли одного лишь несчастного человека в городе — никому не нужного мальчика, страдающего в темном подвале. Никто не в силах изменить положение вещей, поскольку счастье этого мальчика станет причиной несчастья всех остальных жителей города. Люди, не согласные с политикой рока, довлеющего над Омеласом, покидают сей райский уголок. Это мир относительной гармонии, где каждый счастливый человек априори несчастен, поскольку знает, что его счастье прекратится в тот момент, когда кто-то смелый предпочтет постыдному выбору между замалчиванием и уходом из города попытку прекратить страдания ни в чем не повинного малыша.
В мире, где есть несчастные, пусть и внушающие себе иллюзию счастья люди, нет места настоящей гармонии. Есть только самообман. Все люди, до сих пор встречавшиеся на пути Габриэля, пребывают в состоянии фокусников, факиров, устраивающих представление для усыпленной ими боли. Зачем вы придумываете себе счастье, Марьям-тате, если осознаете, что оно покинуло ваш дом с уходом Ибрагима?
IV. Маленькая спичка сжигает большой лес и дом
Если сияние тысячи солнц вспыхнуло бы в небе,
это было бы подобно блеску Всемогущего.
Я стану смертью, разрушителем миров.
Роберт Оппенгеймер
Он помнил все, что нужно было запомнить о Земле и её обитателях, воспринимал восемью органами чувств целостную картину Мультивселенной. Его учили беспристрастному отношению исследователя к земным людям, но Нонгорман не мог заставить себя смотреть на них холодными глазами ученого. Это сейчас ликосиане одна из разумнейших цивилизаций в мультиверсе, а начиналось все с тех же пещер и костров. Да, не все цивилизации со сходными сценариями развития благополучно доходили до уровня ликосиан, многие схлопнулись уже на стадии средневековья. Следовало подтолкнуть землян, дабы они выжили, но начальство просило Нонгормана не вмешиваться в ход чужой истории. Нонгорман же считал, что раз земное человечество выдержало испытание атомным оружием и двумя мировыми войнами, то небольшая помощь не будет считаться вмешательством извне. Со стороны будет казаться, что земляне и в этот раз справились сами.
***
Шынар одарила гостя мудрым пронизывающим взглядом, красноречивым и безмолвным; так смотрят на горизонт, за которым вот-вот взойдет солнце. Габриэль попросил её рассказать о подготовке к открытию Музея тюркского Ренессанса; Марьям-тате приготовилась в сотый раз слушать возвышенную речь дочери, которая любила поговорить о славном прошлом её народа.
Перед мысленным взором Кортеса, умевшего и любившего фантазировать, пронеслись гряды барханов, над которыми горячий ветер вздымал тучи ослепляющей пыли. Караваны с людьми и верблюдами, навьюченными тюками с разноцветными тканями и сундуками с блестящим золотом, блуждали по Великому шелковому пути, который мог привести неутомимого путника и в далекий Арабский халифат, и в не менее далекий Китай.
Кортес явственно увидел перед собой молодого красавца в белой чалме и в изаре, прикрывавшем тело от пояса до колен, восседавшего на верблюде. Двадцатилетний потомок знатного тюркского рода тарханов Мухаммед сын Мухаммеда отец Насра из Фараба, на арабский манер Мухаммед ибн Мухаммед абу Наср аль Фараби, вместе с другими родовитыми юношами Великой степи держал путь в Багдад, тогдашний центр мировой культуры; мировой её можно было назвать без всякого преувеличения, поскольку европейские города в это же время утопали в грязи, чуме и невежестве и явно находились не в центре ноосферы. С малых лет Мухаммед, сын военачальника, выбравший в качестве постоянного занятия науку, изучал священные книги ислама, обучался персидскому и арабскому языкам, постигал азы науки в Фарабской библиотеке, второй по значимости в мире после Александрийской. Его тянуло в Багдад. Здесь в Фарабе, городе Караханидов, тюркских правителей, принявших мусульманство, он чувствовал себя одиноким. Тюрки-язычники, возмущавшие город постоянными набегами, не спешили внимать речам образованных миссионеров ислама. Аль Фараби, тюрок, говоривший и думавший по-арабски, понимал, что Степь ещё не готова воспринять его мировоззренческую концепцию, поэтому он спешил попасть в Дом Мудрости в Багдаде, аналог сегодняшней Силиконовой долины. Интеллектуал-самородок, вынужденно ставший эмигрантом, ещё вернется на Родину, но уже через тысячу лет после смерти на чужбине, признавшей его вторым величайшим ученым после Аристотеля.
Как получилось так, что Аравия, земля малограмотных бедуинов, стала обителью гениальных умов всей Азии? В восемьсот двадцать седьмом году нашей эры, через двести семнадцать лет после возникновения исламской религии и первой проповеди пророка Мухаммеда, спустя сто девяносто пять лет после основания Праведного халифата, двадцать четвертый халиф Абдуллах аль Мамун из династии Аббасидов, сын Харуна ар-Рашида, основал в Багдаде Дом мудрости. Благоволение к искусствам и науке передалось Мамуну от отца: Харун ар-Рашид, изучавший грамматику и поэзию под руководством известного филолога ад-Даби, построил в Багдаде университет и библиотеку. Мамун собрал в Доме мудрости всех выдающихся учёных и поэтов Аббасидского халифата. Это был не случайный акт, поскольку пророк ислама высоко ценил стремление человека к знанию и его наследники старались подражать ему. В коранической суре «Пророки», в седьмом аяте, сказано: «Стремитесь к знаниям, спрашивая у знающих», а в хадисе, переданном абу Шайхом, говорится: «Знания — это душа ислама и опора религии». Мусульманин не должен был ограничиваться молитвами и чтением Корана, поэтому Аббасиды, наследовавшие четырем праведным халифам и Омейядам, поставили своей целью расширить кругозор уммы, направить арабоязычное общество к научному прогрессу.
Мамун видел большой потенциал в древних книгах, написанных греческими и александрийскими учеными. Он слышал о них от несториан, которым разрешили жить в халифате и не налагали на их образ жизни никаких ограничений. У несториан не было икон и статуй, они запрещали изображать Бога и его сподвижников, чем заслужили уважение мусульман, которые тоже не приветствовали визуальное отображение Аллаха, ангелов и пророков. Однако не только это обстоятельство, то бишь некоторое сходство во взглядах мусульман и последователей архиепископа Нестория, расположило к несторианам хорошо образованного халифа Мамуна. Его привлекла особенность приверженцев несторианского учения: многие несториане знали несколько языков, в том числе греческий, свободно переводили древнегреческих авторов и разбирались в философии Платона, Аристотеля и их последователей.
Мамун ближе всех сошелся с талантливейшим из несториан Хунайном ибн Исхаком аль Ибади, свободно владевшим четырьмя языками. Возможно, аль Ибади был первым сотрудником Дома мудрости после Мамуна. Мамун поведал ему планы относительно возрождения утерянных истин греческой и александрийской мудрости, и аль Ибади посоветовал ему закупить в Византии, куда последние ученики александрийской женщины-ученого Гипатии вывезли остатки Александрийской библиотеки, хранившиеся в монастырях ценные для жаждущих знаний свитки. Византийский император Лев Армянин остался в большой выгоде, продав Мамуну имевшиеся в его стране архивы.
Аль Ибади перевёл с греческого на арабский труды Платона, Аристотеля, Гиппократа, Галена и Диоскорида. Опираясь на работу Птолемея Александрийского «Альмагест», где ученый излагал взгляды на устройство мироздания, в котором, по его мнению, Земля находилась в центре, а планеты при этом вращались вокруг неё по причудливым эпициклам, опираясь на труд, где помимо явных ошибок все же было запрятано зерно истины, Мамун, этот первый арабский астроном, измерил дугу меридиана в долине Синджар; погрешность расчетов составила один процент. Первая обсерватория в Аравии появилась также благодаря неутомимому в познании мира халифу-астроному и вдохновителю арабского Ренессанса аль Мамуну.
Мамун собрал вокруг себя созвездие гениев. Математик, астроном, географ и историк аль-Хорезми помогал Мамуну в его геодезических работах в долине Синджар, написал первый трактат по алгебре, классифицировал линейные и квадратные уравнения, составил географическую карту известной ему Ойкумены, более точную, чем аналогичная карта Птолемея. Аль-Кинди переложил учение Аристотеля на арабскую почву, нотировал музыку, изучал музыкальную гармонию и вслед за Пифагором считал её частным проявлением мировой гармонии. Аль-Фаргани сконструировал астрономический прибор астролябию, восстановил разрушенный ранними христианами нилометр, находившийся близ Каира, составил таблицу звездного неба и вычислил окружность Земли, раньше Галилея обнаружил пятна на Солнце. Выходец из средневекового Казахстана, уже упомянутый нами уроженец Фараба (по-тюркски Отрар) аль-Фараби, представитель второго поколения сотрудников Дома мудрости, разрабатывал концепцию идеального государства, внес большой вклад в теорию музыки, считал своими учителями Платона и Аристотеля, в рамках своей системы взглядов «примирил» их учения. Андалузский поэт и изобретатель Аббас ибн Фирнас изобрел метроном, водяные часы, лупу, планетарий, парашют и прообраз дельтаплана.
Сменялись династии, расширялись границы халифата, а знания, собранные и преумноженные деятелями арабского Ренессанса, продолжали приносить пользу арабоязычному обществу. Люди разных наций, говорившие на объединявшем их арабском языке, стекались в Багдад со всех концов большого государства.
— А как же тюркский Ренессанс? Был ли он? — спросил Кортес, когда Шынар закончила свой рассказ.
— И был, и не был одновременно. — Шынар заметно погрустнела, когда произнесла эти слова. — Великая степь всегда была плацдармом сражений завоевателей, которые постоянно отодвигали простой народ назад в развитии. В июле семьсот первого года на реке Талас встретились лицом к лицу китайцы, изобретшие к этому времени порох, и арабы, поддержанные тюрками. Эта битва ознаменовала собой окончательный поворот тюрков к исламу, хотя поклонники тенгрианства оставались непоколебимыми ещё пятьсот лет после воцарения Караханидов, верных эмиссаров ислама. Мусульманство принесло Степи цивилизацию, но вместе с тем вытеснило и подавило её самобытную культуру. Сегодня мы, историки, искусствоведы и обычные люди, видим зародыши чисто тюркского Ренессанса в Туркестане, где зодчие создали прекрасные мавзолеи и дворцы, где поэты, говорившие на тюркском наречии, писали на языке коренного степного народа. Увы, этот период продлился недолго. Я и мои коллеги пытаемся реконструировать эту короткую эпоху.
— Это потрясающе! — восхитился Кортес. — У вас есть своя история, и вы бережете ее. Ваши мероприятия по сохранению исконно казахской культуры достойны восторженной похвалы. Американцы в отличие от вас напрочь лишены прошлого, им нечем гордиться.
— Вы можете гордиться отцами-основателями и Авраамом Линкольном, — вмешалась в разговор Марьям-тате. — Мы с господином Кортесом долго беседовали до твоего прихода, доченька. Я успела немного изучить нашего интересного гостя. Господин Кортес клянет свою страну за то, что она, подобно Петербургу, строилась на костях. Все так, нужно это признать, колонисты пришли не на свою землю. Но от прошлого не следует отказываться, каким бы оно ни было. Сегодня в вашей стране сносят памятники конфедератам, переписывают историю Гражданской войны, тем самым извиняясь перед чернокожим населением, насаждают политкорректность. Как человек, видевший Перестройку и Желтоксан и переживший неспокойные девяностые, могу сказать со стопроцентной уверенностью: когда народ начинает сомневаться в правильности своего прошлого и низвергать кумиров, его дни сочтены. Коммунисты пытались сформировать советский народ, и у них это почти получилось, но люди стали сомневаться в фактах, изложенных в учебниках истории. Теперь советского народа нет. Наш казахский народ сформировался в шестнадцатом веке из трех разрозненных тюркских племенных союзов — жузов — под началом дальновидных военачальников Жанибека и Керея. Мы выдержали натиск джунгаров и гнет российского самодержавия, но остались сплоченной нацией, потому что никогда не осуждали поступки наших исторических деятелей.
— Моя мама права, сэр Кортес — поспешила смягчить появившуюся в разговоре тяжесть Шынар. — В Штатах сейчас очень много людей, размышляющих точно так же как вы. Это может привести к распаду государства. Конечно, все должны свободно высказывать свои мысли, не подвергаясь осуждению, этот постулат задекларирован в Конституции вашего народа.
— Я понял, к чему вы клоните, — ответил Кортес, который думал сейчас вовсе не о предмете разговора, а о глазах Шынар. — Маленькая спичка сжигает большой лес и дом. Бабочка, махая крыльями в одной части света, может вызвать цунами в другой.
— Да, все мы несем ответственность за каждое наше действие и мысль. Это так называемый эффект бабочки. Тем более что о прошлом, как мне кажется, следует говорить, как о покойнике — либо хорошо, либо ничего.
— Ну, дочка, что ты? — всплеснула руками Марьям-тате. — Такими сравнениями и напугать недолго. Я вам лучше процитирую двадцать шестое слово назидания Абая. Читали ведь «Слова назидания»? Нет? Обязательно прочтите. Абай любил свой народ и в то же время критиковал его за леность и подверженность коррупции. Он словно предвидел нашу с вами беседу, потому что ясно сказал следующее: «Посмотри на всех животных и посмотри на себя. Разве мы одинаково воспринимаем действительность? Человек способен думать о своем прошлом, настоящем и будущем. Животное же смутно помнит свое прошлое и настоящее, а о будущем и не помышляет».
— Золотые слова, — восхитился Габриэль, — очень созвучно цитате из Вольтера: «Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя».
— А я вот вспомнила стихи Абая, — сказала Шынар, — они словно сегодня написаны.
Когда расстроен твой народ,
Он, как болота топь и гниль.
Озерных птиц не слышен шум,
Скоту и то уж он не мил.
— Слышите схожий мотив? Смута рождается в наших мыслях…
— Но если она рождается, — поспешил перебить Шынар Габриэль, — значит, что-то не так в настоящем. Я недавно рассуждал обо всем этом и понял, что наше время сложно назвать великой эпохой. Мы перестали мечтать о космосе, не пишем берущие за душу книги, не снимаем киношедевры, и, как вы правильно сказали тогда, на закрытой вечеринке, мы позабыли, как сердце стучит. Сегодня я написал стихотворение на эту тему, послушайте его.
Нет эпохи. Я согласен.
Ни битлов вам и ни Лема,
Вот тогда — борьба, дилемма,
Вера в жизнь на красном Марсе,
И рукой подать до Альфы.
Книги, фильмы, словно Альпы,
Грандиозны и масштабны,
Мы с планетою на равных.
А сегодня — боль и привкус,
На губах полынь, Чернобыль,
Судный час давно уж пробил,
Поселился в людях искус.
Звезды в небе гаснут молча.
Может, время это волчье,
Уступив дорогу свету,
Канет болью в сердце Леты?
Будет ли вдали эпоха?
Или нам не ждать рассветов?
Время планов и успехов,
Время выдоха и вдоха.
Где ты, радость человека?
Радость жизни и мечтаний,
Не лишенная страданий,
И любовь, что век от века.
Нет эпохи, только веха,
Переправа сквозь болото,
Тошнота и спазмы, рвота,
Смех без нужного нам смеха.
Ну, а все-таки, эпоха?
Все не так, наверно, плохо,
Пусть живем в «Процессе» Кафки,
Пусть всего лишь мы булавки
В лоскутах увядших будней,
На бродящем в бурю судне,
Только крикну в даль: «Эпоха!».
Без свершений все же плохо.
Нет величия на свете,
Нет битлов, побед и Лема,
Нет уже нигде дилеммы,
Только стонет тихо ветер.
— Вы точно американец? — с доброй усмешкой спросила Марьям-тате. — Не думала, что американцы настолько пессимистичны и к тому же склонны к ностальгии по шестидесятым.
— Я скорее человек мира, Марьям-тате.
— Как я вас понимаю, господин Кортес, — тихо и нежно сказала Шынар, которая затаив дыхание слушала чтение Габриэля.
Она сидела на диване, поджав колени, напротив Кортеса, который вместе с Марьям-тате восседал за обеденным столом.
— Как я вас понимаю. Вы впитали в себя всю боль вселенной. Я так и вижу вас опустошающим содержимое сосуда, наполненного цикутой, сидящим на коленях перед папским престолом с припасенной заранее фразой о вращении Земли, висящим на кресте на Голгофе, пишущим черновик «Логико-философского трактата» на поле боя, входящим в газовую камеру вместе с детьми-евреями, стоящим с авоськой в руке перед танками, делающим маленький шаг для человека, но большой для человечества.
— Хорошо, что вы не сказали: «перед камерой Стенли Кубрика». У нас в Штатах любят оспаривать подвиг Нила Армстронга. Мне конечно приятно, что вы сравнили меня с ним, а заодно и с Сократом, Галилео Галилеем, Иисусом, Людвигом Витгенштейном, Янушом Корчаком и безымянным героем на площади Тяньаньмэнь, но поверьте, я не заслужил такую аналогию. Я всего лишь сомневающийся во всем преподаватель философии.
— Сомнения делают нас слабыми. Когда я подала Андрею идею о создании на базе Кремниевой степи Музея тюркского Ренессанса, меня одолевали опасения. Наши предки всегда стремились к свободе, но при этом всегда подпадали под влияние сильных народов. Арабы во времена Арабского халифата, монголы в дни разрушения Отрара и других городов Степи, русские при царизме и при Советской власти, китайцы в эпоху династии Тан до Таласской битвы — носители различных по духу идеологий навязывали нам свое мнение, диктовали образ жизни. О каком Ренессансе казахов может идти речь, если мы почти всегда были под чьим-то игом? Но Андрей, человек прогрессивный и патриотично настроенный, горячо поддержал меня и подхватил идею основания музея. Ренессанс тюрков был, сказал он мне тогда, просто его никто не заметил. Акыны, зодчие, искусные ремесленники Великой Степи и музыканты, игравшие на домбре и кобызе, и были той самой солью незаметного Ренессанса. Он потонул в цокоте копыт лошадей монгольских воинов, поступи миссионеров ислама, в шелесте бумаг с декретами и резолюциями советских наркомов.
— Вы правы, Шынар, — сказал, немного подумав, Габриэль Кортес. — Прошлое нуждается в том, чтобы мы его помнили. Я мог бы сказать, что ваш народ не несет на себе клеймо завоевателей и оттого ваша миссия по реконструкции расцвета истории тюрков не выглядит святотатством, но я не буду этого говорить. Каждый из нас останется при своем мнении. Если завтра Штаты начнет пошатывать от того, что кто-то порицает неблаговидные поступки колонистов, я буду только рад этому обстоятельству. У нас на Западе хвалили Михаила Сергеевича Горбачева, высшего должностного лица страны, открыто осудившего преступления большевиков. У вас его ненавидят и считают предателем Родины. Но со стороны всегда виднее. Сегодня ваш народ свободен. Быть ли новому казахскому Ренессансу — решать вам. Если в нашей стране признают вину американского народа перед коренным населением, томящимся в резервациях, будет только лучше. А сейчас я вынужден с вами попрощаться, надо готовиться к занятиям.
***
В последнее время Ларри редко бывал в Кремниевой степи. Грант часто выезжал в Усть-Каменогорск по делам Международной организации по хранению ядерных арсеналов в Казахстане, сокращенно Урхран, где он возглавлял группу ученых, разрабатывавшую технологии по утилизации ядерных отходов. Пока Темуджин Сансар был в отъезде и работа секретного отдела по сути свелась к поиску новых уравнений Теории Всего и исследованиям, связанным с имплантом синапса, Ларри мог на время забыть о разработке навигатора времени и сосредоточиться на делах Урхрана.
В один из приездов в кабинет Ларри постучался биолог Дэвид Спенсер из Кембриджа. Дэвид являлся потомком одного из родоначальников эволюционизма Герберта Спенсера. Он был сильным и рослым человеком и от этого больше походил на атлета, а не на кабинетного ученого. Дэвид заметно прихрамывал на правое колено — в детстве он неудачно упал с велосипеда. Несмотря на присущий родовитым британцам снобизм, Дэвид с уважением относился к потомкам колонистов и обожал американскую культуру. Его любимым фильмом был «Гражданин Кейн», а настольной книгой — «Великий Гэтсби» Френсиса Скотта Фицджеральда.
— Ларри, я хотел поговорить с тобой по поводу новых экспериментов в области утилизации ядерных отходов.
Ларри в этот момент решал какие-то уравнения, но, услышав Дэвида, он положил карандаш на поверхность стола, закрыл блокнот и внимательно посмотрел на коллегу.
— Да, говори, Дэвид, я слушаю тебя.
— Председатель Совета Безопасности Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил перед нами четкую задачу: Казахстан должен стать безъядерной зоной не на словах, а на деле. Дело в том, что до сих пор эта страна добывает в среднем двадцать с половиной тысяч тонн урана, то есть тридцать девять процентов от мирового объема его добычи.
— И это при том, что Семипалатинский ядерный полигон был закрыт в девяносто первом году, Лиссабонский протокол, где декларировали отказ от атомных боеголовок, подписан в девяносто втором, все ядерное оружие вывезено в Россию в девяносто пятом, а последняя штольня для ядерных испытаний была уничтожена в двухтысячном. Я отлично знаю предмет своей деятельности. Ближе к делу, Дэвид. Мы ученые, а для ученых время — деньги.
— Вот и я о том же. Разоружаться Казахстан начал сразу после падения коммунистического режима, а воз и ныне там.
— Какой воз? — не понял Ларри. Он не всегда понимал своих сотрудников, которые между собой критиковали босса за отсутствие юмора, в то время как Ларри, как успел заметить читатель, был вполне веселым и живым человеком. Дело в том, что, приходя на работу, Ларри автоматически становился серьезным и молчаливым, чрезмерно строгим и требовательным к людям.
Дэвид рассмеялся так громко и искренне, что Ларри почувствовал себя неловко. Спенсер никогда не сдерживал эмоций, даже если следовало тактично промолчать.
— Ты же несколько лет живешь в Казахстане, а до сих пор не понимаешь здешних фразеологизмов. Аналогом этого чисто русского выражения, рожденного умом незабвенного Крылова, служит наше «И ничего не изменилось». Так вот, все осталось на прежнем уровне. Урановая промышленность уступает только нефтедобыче, двадцать пять тысяч человек трудоустроены на урановых рудниках, число радиоактивных отходов составляет двести тридцать семь миллионов тонн. Ящик Пандоры пока наглухо закрыт, но в стране, где коррупция подобна гидре, у которой отрубленные головы вырастают в геометрической прогрессии, остатки некогда мощной ядерной промышленности могут сыграть роковую роль в мировой истории. Чего стоит уже позабытый скандал с сообщением «Ассошиэйтед пресс» о поставке в две тысячи девятом году тысячи триста пятидесяти тонн очищенного уранового концентрата в Тегеран. Правительство Казахстана открестилось от причастности к поставкам ядерного топлива в страны, пытающиеся стать ядерными державами, но все мы знаем о честной репутации вышеназванного информационного агентства, не позволяющего себе дезинформацию. Впрочем, кто знает, ведь Назарбаев — честный друг Соединенных Штатов. Даже предназначенный для развития мирной атомной промышленности Парк ядерных технологий, построенный в две тысячи третьем году, таит в себе много опасностей. В ноябре две тысячи семнадцатого года французские средства массовой информации обвиняли Казахстан в утечке радиации на одном из реакторов в городе Курчатов, приведшей к появлению радиоактивного облака над Европой. МАгАтЭ тогда ничего не нашло. Но ты же понимаешь, Ларри, что, имея такие запасы урана, Казахстан сегодня ходит по краю. До сих пор нет государственного радиоактивного могильника, отвечающего экологическим требованиям. Пять атомных реакторов Казахстана лишены надежных хранилищ для ядерных отходов.
— Это все понятно, Дэвид. Ядерную энергию нельзя считать рациональной и эффективной. Она основана на простой идее, которая недалеко ушла от догадки первобытного человека использовать горение древесины. Дело в том, что у атомов тяжелых элементов протонов так много, что их ядра становятся неустойчивыми. Достаточно незначительного толчка и ядра разваливаются, выделяя энергию в атомных реакторах и при взрыве атомной бомбы. Мир так сложно устроен, что невозможно обеспечить безопасность использования атомной энергии. Сейчас на дне океанов и морей находятся более пятидесяти ядерных боеголовок и десять атомных котлов. От аварий на атомных электростанциях, подобных Чернобыльской, мир не застрахован. Столько лет ничего не решалось, а политики на все закрывали глаза. Но в этом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес кардинальные изменения в закон о ядерной энергетике. Скоро будут закрыты все атомные реакторы. Президент понимает, что цивилизованный мир должен отказаться даже от мирного использования атома. Да, из одного грамма урана можно извлечь энергии столько же, сколько от сжигания трех тонн каменного угля. Но стоит ли оно того? Ведь есть другие технологии, от которых не вырастает ядерный гриб и не умирают люди. Солнце дает в пять тысяч девятьсот раз больше энергии, чем люди в настоящее время производят, только нужно научиться использовать эту энергию. Недавно господин Назарбаев сам сказал на конференции, что атомная электростанция в Чернобыле, призванная давать тепло и электроэнергию, принесла миру больше вреда, чем все атомные бомбы вместе взятые. Никто не застрахован. Ты об этом пришел сказать?
— И об этом, и кое о чем ином. Я разработал принципиально новую технологию устранения ядерных отходов.
Глаза Ларри посветлели. Он обдумал бесчисленное количество вариантов утилизации отходов, но так и не смог продвинуть работу организации дальше закрытия атомной электростанции в Шымкенте.
— Да ты что? Рассказывай.
— Мы в эти годы научились лишь одному — захоронению ядерных отходов, но преступность становится все более изощренной. Что стоит гипотетической террористической группировке добыть ядерные отходы и изготовить из них атомную бомбу? Конечно же, в этом случае отходы надо будет обогатить. Для обогащения нужны высокоскоростные центрифуги. Это дорого, но теоретически возможно. Террористические организации сейчас располагают бюджетами, сравнимыми с бюджетом среднего европейского государства. Так что не следует сбрасывать это предположение со счетов.
— Так. Что ты предлагаешь? Надо думать, совершенно революционную технологию устранения запасов урана?
— Именно. В точку. Мысли витают в воздухе, и моя идея не исключение. Она не раз высказывалась другими учеными. Ты слышал про анаэробные бактерии?
— Увы, нет. Это какие-то особые бактерии?
Скривив уголки губ, Дэвид Спенсер, который никак не мог излечиться от частых проявлений британского снобизма, с еле заметным чувством превосходства продолжил:
— Это бактерии, способные выживать в среде, не содержащей кислород. Мы с тобой аэробные организмы. То есть для нас благоприятной является только кислородная среда. Анаэробы же весьма комфортно чувствуют себя в нитратной, серной и азотной средах. Не так давно в природе были обнаружены бактерии, приспособленные к жизни в местах скопления масляных пятен нефти и помимо органики поедающие в качестве десерта нефть. Именно они стали первыми бактериями, которых попытались приручить и заставить служить интересам науки. В две тысячи десятом году американские ученые в лабораторных условиях вывели бактерию Синтию — искусственный организм с уникальной ДНК, в чьей генетической программе заложена лишь одна задача — поедать нефть. Очень скоро, правда, обнаружилось, что бактерия вышла из-под контроля и переключилась на животных и людей. Теперь ученые заняты перестройкой генома бактерии. К чему я все это говорю, Ларри? Я вывел новый вид бактерий, чувствующих себя в радиоактивной среде как рыба в воде. В их генетической программе заложен лишь один инстинкт — питаться запасами урана и плутония. Как я уже сказал ранее, эта идея не нова. В тысяча девятьсот девяносто шестом году на ядерном могильнике в Саванна-Ривер, в Южной Каролине, совершенно случайно были обнаружены оранжевые бактерии, адаптирующиеся к уровню радиации, который в пятнадцать раз превышает смертельную дозу для человека. В две тысячи семнадцатом году доктор Джонатан Ллойд из Манчестерского университета провел опыты с этими бактериями и доказал теоретическую возможность создания генетически модифицированного организма, способного поедать кубометры запасов урана и плутония. Но дальше слов дело не пошло. Звезды сложились таким образом, что именно мне удалось завершить этот научный эксперимент. За пару лет, втайне от научного сообщества, я вывел бактерию, которая не питается органикой, абсолютно послушна, с её генетической программой все в порядке, она ест только уран и плутоний и за шесть месяцев может расправиться со всеми запасами в Казахстане. Потом мы примемся за другие страны. Человечество вздохнет спокойно и перейдет к освоению безопасных технологий.
— Браво, Дэвид!
Ларри зааплодировал. Он уже предвкушал Нобелевскую премию и всевозможные гранты, славу и безбедную старость где-нибудь на берегу австралийского континента.
— Я как руководитель группы возьму твой проект на вооружение и в скором времени представлю его президенту. Подготовь оборудование для наглядного представления возможностей бактерии. Этот проект необходимо сохранять в тайне. Ни одна живая душа, кроме нашей группы, не должна знать о существовании бактерии.
— Естественно, Ларри. В тайну посвящены только я, ты, генетик Джозеф Гринч и врач-бактериолог Николас Кэмпбелл.
— Замечательно. Как ты назвал бактерию?
— Эдит.
— Какое красивое имя! Это имя твоей жены?
— Нет, это имя жены Отто Гана, немецкого физика, одного из отцов немецкой атомной бомбы. Бомбы, которую немецкие ученые так и не изобрели.
— И слава Богу, что не изобрели, Дэвид. У нацистов не хватило денег на финансирование проекта, и работа велась слишком медленно. Зато хватило денег в нашей стране и в СССР. Господи, как же много людей погибло и гибнет до сих пор из-за последствий маниакальных устремлений Гитлера! Он хотел захватить мир, а Штаты и Советы, в свою очередь, желали обуздать нацистов, а затем и друг друга.
— Благодаря нам, Ларри, ядерная энергетика, эта опухоль на теле человечества, будет низвергнута в Лету. Так американская нация искупит свою вину перед жителями Хиросимы и Нагасаки. Такари Симидзу, японский поэт, написал об этом как нельзя лучше, чем могу сказать я:
Город
Раскрыл
Обожженный рот
В муке невыносимой…
Люди, вы слышите?
Песню поет,
Песню поет Хиросима!
…Люди!
Вы слышите?
Песня звучит,
Песнь о великом горе.
***
Камеры журналистов носились по конференц-залу, располагавшемуся в одном из павильонов Международной выставки ЭКСПО «Энергия будущего», проводившейся в две тысячи семнадцатом году; сегодня власти Казахстана любезно предоставили сотрудникам Урхрана здание сферической формы «Нур Алем», вмещавшее в себя Музей энергии будущего, в качестве площадки для презентации новой разработки. Уникальность «Нур Алема» заключалась в том, что это было первое в мире здание в форме полной сферы. Внутри павильон был оформлен в стиле «хай-тек». В нем располагалось несколько уровней-этажей; демонстрация разработки проходила на самом верхнем уровне.
Красивые дамы фотографировались с известностями, в то время как повсюду сновали обслуживавшие публику официанты. Публика была в предвкушении, ведь вниманию зрителей должны были представить научное чудо. Когда приехал президент, в зале стало тихо. Все как по команде заняли свои места. На сцену вышел Ларри Грант, красивый, в строгом костюме, с неизменной на таких мероприятиях улыбкой, которая, как казалось частым посетителям подобных вечеров, никогда не сходила с его лица. Он рассказал о целях сегодняшнего мероприятия и пожелал скорейшего решения ядерного вопроса, ведь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев только вчера подписал все документы о запрете использования ядерной энергии в стране в каких бы то ни было целях. Жест президента был хорошо воспринят в мире; все страны-члены ядерного клуба, кроме США и России, официально заявили о поэтапном отказе от атомных реакторов и всего, что с ними связано.
В дальнем углу сцены находился огромный, почти двухметровый, стеклянный ящик, в котором, как сказал публике Ларри, находилась урановая руда. Ларри показал на него указательным пальцем и, по-актерски подмигнув публике, громко продекламировал:
Кружись, айналайн, Земля моя!
Как никто,
я сегодня тебя понимаю,
все болезни твои
на себя принимаю,
я кочую, кружусь по дорогам
твоим…
— Это слова вашего великого поэта и гуманиста, борца за безъядерное будущее, инициатора движения «Невада-Семипалатинск» Олжаса Сулейменова. И он был прав, прав как поэт, прав как человек, предостерегая нас от заигрывания с атомной энергией. Итак, дамы и господа, представляю вашему вниманию виновника самых страшных катастроф двадцатого и начала двадцать первого столетия. Уран, точнее, энергия, содержащаяся в нем, разрушительная сила его атомов. Именно уран дал нам временное иллюзорное спокойствие, мнимую гарантию, что больше никогда не будет мировых войн, потому что ни одна держава так и не решится нажать на ядерную кнопку. Это обстоятельство усыпило нашу осторожность и бдительность и позволило нам слепо взирать на аварии на атомных электростанциях, на загрязнение атмосферы, на заболевания и смерти ни в чем не повинных людей; это обстоятельство едва не поставило крест на будущем человечества. Даже если сейчас все атомные державы демонтируют каждый из огромного числа атомных реакторов на планете, это не будет означать нашу полную победу над ураном. Понадобятся годы, если не века, возможно, даже тысячелетия, чтобы атмосфера Земли освободилась от выбросов радиоактивных веществ. Угрозу будут представлять захоронения использованных в качестве топлива для реакторов руд урана и плутония, с которыми ничего невозможно сделать. Их нельзя утилизировать, переработать, растворить. Начав эксперименты с радиоактивными элементами во времена Кюри, Склодовской и Бора, мы слишком поздно поняли, что загнали себя в угол, так что теперь нам осталось только нажать на курок атомного ружья. Впрочем, никогда не следует забывать, что человек поистине удивительное существо, ведь он способен выпутаться из самой безвыходной ситуации. Так обстоит дело и сейчас, когда мы с вами стоим у самого края пропасти и живем в момент, который может стать концом Истории. Но к всеобщей радости История дала нам шанс. Ящик за моей спиной символизирует ящик Пандоры, который мы открыли, начав с безобидного деления ядер перед Второй Мировой. Сегодня пришла пора захлопнуть этот зловещий ящик. Моя команда не только приложила руку к отказу многих стран, в том числе и Казахстана, от любого использования ядерной энергии, она создала противоядие от урана. Чтобы ни у кого не было соблазна возродить атомную промышленность, чтобы навсегда были забыты понятия «лучевая болезнь» и «ядерная зима», мы создали новый вид бактерий, которые питаются только ураном и плутонием. Итак, пора перейти от слов к действиям, господа.
На сцену внесли небольшой металлический цилиндр без крышки. Ассистенты подали Ларри электронный микроскоп. Ларри поднял его над собой и потряс им.

— Это, дамы и господа, микроскоп со встроенной в линзу камерой. Когда я наведу окуляр на цилиндр, вы сможете узреть бактерии нового поколения, убийц урана.
На большом экране зрители увидели множество кишащих в цилиндре оранжевых бактерий. В конференц-зале громко зааплодировали.
— Эти крошки абсолютно безвредны для вас, их мишень — уран.
Когда цилиндр поместили в ящик с ураном и высыпали мириады бактерий на пол ящика, — бактерий, естественно, зрители не видели, поскольку их можно было рассмотреть лишь под микроскопом, — публике не пришлось долго ждать зрелищ. Очень скоро, минут через двадцать, от урановой руды не осталось ничего. Урановые камни исчезли на глазах всего мира, наблюдавшего за представлением у себя дома, в пабах, на улицах, ведь на Земле не осталось ни одного уголка, куда бы ни проникли телевидение и интернет. Аплодисменты всей планеты обрушились на голову счастливого Ларри.
***
Через два дня Дэвида Спенсера, отца Эдит, поедающей уран, нашли мертвым. На теле были обнаружены язвы, характерные для жертв вирусов и вибрионов. Внутри организма врачи нашли штамм оранжевых бактерий.
Поскольку дело пахло международным скандалом, расследованием гибели ученого с мировым именем занялся Интерпол. На первый взгляд казалось, что все ясно как божий день: бактерия Эдит убила своего создателя. Однако работники лаборатории утверждали, что в генетический код подконтрольных ученым анаэробных организмов был встроен инстинкт поедания урана, следовательно, бактерии не могли покуситься на человека. Можно либо было изменить код? Можно, отвечали сотрудники, но это довольно сложная операция, подвластная лишь гениям генной инженерии. Кто же это сделал? Разведки государств-членов ядерного клуба? Террористические организации? Кто-то из генетиков Урхрана?
Инспектор из Лиона Мишель Давенпорт, добродушный сыщик, раскрывший сотни архисложных преступлений, прилетел в Усть-Каменогорск самым ранним утренним рейсом. Осмотрев труп, обследовав каждый квадратный метр в здании Урхрана, поговорив с каждым сотрудником и зачем-то записав номера телефонов их ближайших родственников, Давенпорт предложил Ларри Гранту встретиться в местном ресторане.
— Здесь можно готовить самому, — сказал мсье Давенпорт, когда они с Ларри заходили в заведение, — отдельная свободная плита уже подготовлена, шеф-повар будет консультировать меня по особенностям приготовления местных блюд.
Ларри, впервые услышавший о том, что посетитель ресторана сам готовит себе блюдо, изумился и, посмотрев на инспектора, только сейчас обратил внимание, что у детектива очень нестандартные черты внешности: крупный заметный нос, большая голова и широкие плечи, которые совершенно не вязались с невысоким ростом, небольшим брюшком и тихим глуховатым голосом.
— Не удивляйтесь, мистер Грант, признаюсь, я большой чудак. Я часто путешествую по долгу службы. Обычно меня приглашают в тех случаях, когда хотят избежать международных скандалов и широкой огласки. Я приезжаю, ловлю преступника, получаю неплохой гонорар, возвращаюсь в родной Лион на пару дней, а потом опять еду по очередному приглашению. От такой работы можно сойти с ума. Надо же мне отдыхать! Я очень люблю готовить, делаю это даже в отелях и ресторанах, не доверяю чужим рукам, но могу разрешить консультировать меня касательно тех блюд, которые я ещё не готовил. Однако консультируют меня лишь профессиональные повара, исключительно люди той национальности, в чью страну я еду. То есть я не подпущу к себе русского повара, живущего, скажем в Китае, и наоборот, китайца, который готовит в московском ресторане. В каждой стране, куда меня пригласили, Мишель Давенпорт готовит только блюда этой страны, то есть в Испании я не буду готовить шашлык, а в Норвегии — котлеты по-киевски.
— Вы хотели поговорить со мной о гибели Дэвида Спенсера …
— Господь с Вами, Ларри, не в этом месте, — испуганно сказал мсье Давенпорт. — Когда я занят кулинарным искусством, ем или готовлюсь к приготовлению пищи, я говорю только о еде, ничего иного вы не услышите из моих уст. Об убийстве поговорим после обеда, на улице. Кухня и комната для трапезы — это для меня священные места.
Давенпорт вытащил из кармана обрывок тетрадного листа с набросанным на нем мелким почерком рецептом — инспектор не пользовался блогом, который для него завела бывшая супруга, сохранившая с мужем теплые отношения, и по старинке писал на бумаге, — показал его шеф-повару ресторана и тот, утвердительно кивнув, подал сыщику поварской колпак и фартук.
Давенпорт прошел вместе с шеф-поваром и Ларри на кухню и выбросил в мусорный контейнер листок, в котором более не нуждался: у него была фотографическая память. Прочитав один раз объем текста не меньше пяти страниц, Давенпорт мог воспроизвести его точь-в-точь, причем запоминал надолго; то же касалось бесед с людьми — их он мог пересказывать с удивительной точностью, подражая интонации собеседников.
Облачившись в костюм кулинара, Давенпорт подошел к плите и, положив на кухонный стол корзину с продуктами, своим характерным глухим голосом провозгласил:
— А сейчас мы вместе с шеф-поваром ресторана, который любезно согласился ассистировать мне, продемонстрируем вам мои скромные кулинарные способности. Это разновидность казахского плова, хан-плов. Принято считать, что плов — на санскрите «рисовый шарик», — чисто узбекское блюдо. Это историческое заблуждение. Плов упоминается уже в сборнике арабских народных сказок «Тысяча и одна ночь» за авторством предшественника братьев Гримм Шахерезады. Его готовят почти все народы Азии, в том числе и в Казахстане. Не могу не вспомнить строки бессмертного Хайяма:
«На чьём столе вино и сладости, и плов?
Сырого неуча. Да, рок, увы, таков.
Турецкие глаза, красивейшие в мире,
Находим у кого? Обычно у рабов».
— На столе вы видите по одному килограмму баранины, репчатого лука, моркови и риса, одну головку чеснока, соль, специи и бутылку с растительным маслом. Итак, приступим. Хочу предупредить вас, мистер Грант: приготовление пищи я всегда сопровождаю комментариями и подробными алгоритмами.
Давенпорт замочил килограмм риса в глубокой миске, а затем положил его в кастрюлю с заранее прокипяченной водой.
— Обычно рис и все остальные составные части плова варят отдельно. Воду кипятят в три раза больше по времени, чем рис, но за меня это уже сделали. На килограмм риса в сухом виде берут пять литров кипятка и пять ложек соли. Однако рис надо замочить перед отвариванием в теплой соленой воде, что уже было выполнено нами.
Рис доварился до нужной степени готовности, Давенпорт перелил воду в большой дуршлаг и дал стечь всей жидкости. Далее он переложил этот рис в казан и принялся запаривать его. Дно казана шеф-повар выложил тонко раскатанным тестом.
— Дело в том, мистер Грант, — и вы наверняка знаете это, — что когда тесто обжаривается, получается очень вкусно, а когда подгорает рис, то запах от него распространяется по всему казану. Поэтому я предпочитаю поджаривать тесто, это и приятнее, и полезнее. И жена у меня готовит точно так же. Бывшая, правда, но до сих пор любимая. Так вот, корочку из теста, что образуется на дне казана, любят все. Рис, как вы сами видите, заворачивают в тонкое тесто и запекают в таком виде. В этом и состоит отличительная черта хан-плова от остальных разновидностей исконно арабского, а может быть, индийского, блюда. Часть воды из риса испаряется, тесто впитывает лишнюю влагу и обволакивает своим запахом сам рис. Чтобы тесто не пересохло и не пригорело, а вкусно зажарилось, его и форму казана смазывают топленым маслом. Надо, чтобы рис лежал не в утрамбованном виде, а свободно — так, чтобы пар мог циркулировать между рисовыми зернами.
Давенпорт попросил у шеф-повара шафран, растер его в ступке с солью и залил кипятком, чтобы он настоялся.
— Настоем шафрана надо полить рис сейчас, а не потом, как это делается при приготовлении традиционного плова. И топленое масло нужно добавить в рис именно в эту минуту.
— Было бы правильнее, если бы мы сделали это позже, — в первый раз вмешался шеф-повар, покорно передавая инспектору топленое масло. — Когда рис просохнет, в нем останутся свободные поры, в которые масло впитается очень легко.
— Не спорьте со мной, Куаныш. Закройте крышку. Знаете, что происходит сейчас с маслом? Оно тает и опускается вниз, скользя по рису. А теперь я открываю крышку и переворачиваю плов. Видите, масло снова течет по рису. Но на этот раз рис уже подсох и охотно впитывает масло. В итоге все масло оказалось внутри риса. Ведь что такое плов, мистер Грант? Это рис, пропитанный маслом. Если масло ароматизировано другими продуктами, то вкус и аромат этих продуктов переходят в рис. В данном случае масло приобрело вкус поджаренного теста, а этот вкус приятен всем без исключения. К плову можно приготовить десятки разновидностей приправ и соусов, хотите — из мяса, хотите — из курицы, хотите — из сухофруктов и орехов. Теперь дело осталось за малым — отварить отдельно баранину, лук, морковь и чеснок.
Когда все было готово, сыщик и астрофизик уселись за стол и молча пообедали. Ларри успел устать от нескончаемой болтовни словоохотливого инспектора, и Давенпорт заметил это. Он знал меру красноречию, которое, как не трудно было догадаться, использовалось для усыпления бдительности подозреваемых и расположению их к откровенному разговору.
Выйдя из ресторана и направившись в парк, Давенпорт с Ларри обменялись друг с другом ничего не значившими фразами о погоде в Нур-Султане и в Усть-Каменогорске, об отличии людей в Европе и в Азии.
— Я плохо знаю Лион и в целом Францию, мистер Грант, потому что всегда нахожусь в пути. После очередного расследования я приезжаю на два дня на свою фазенду, проверяю, все ли в порядке у моих муравьев на ферме, за которой присматривает племянник, и, получив новое задание от Интерпола, еду дальше. И так всю жизнь. Жена не выдержала, развелась, родила детей местному фармацевту, но звонит с прежней регулярностью, как будто ничего и не было. Я люблю свое дело, и у меня оно хорошо получается. Так что я не отступлю и теперь, когда получил самое запутанное дело в своей жизни.
Давенпорт многозначительно посмотрел на Ларри, остановился и пригласил его сесть на скамейку. Они оба сели, и разговор продолжился.
— Вы подозреваете меня, я так полагаю?
— Вы — один из главных подозреваемых, но не единственный. Глава группы всегда несет ответственность за все, что происходит с его подчиненными. Знаете, у меня свой метод работы. Когда я приезжаю в чужую страну, а путешествовать мне приходится только по служебным обстоятельствам, я будто и не работаю вовсе над расследованием. Готовлю пищу для себя в ресторане и в гостинице, покупаю коробки со спичками. — Давенпорт вытащил и повертел в руках спичечный коробок казахстанского производства. — Знаете, как получают спички? Берут бревно, режут его на тонкие листы, которые, в свою очередь, делят на тонкие палочки для спичек. Сами бревна с торцов красят известью, чтобы не портились. Заготовки-палочки идут в дальнейшее производство спичек — в химические цеха. Там спичечные палочки пропитывают ортофосфорной кислотой, а после этого парафинируют, чтобы они не портились. Потом заготовку окунают в серный раствор, чтобы получились спичечные головки. Таков путь спички в каждый дом на планете.
— Мсье Давенпорт, я полагаю, вы пригласили меня не для того, чтобы говорить о своих увлечениях. Давайте ближе к делу.
— Это часть моего метода. Я удивляю предполагаемого убийцу кулинарными изысками, рассказываю о своем хобби, наслаждаюсь пребыванием в новой для себя стране. Как я уже сказал, я и свою страну плохо знаю. А в чужой меня интересуют лишь местные рецепты и спички. Убийца похож на спичку. Да, не смейтесь. Любой человек, как бы хитер он ни был, выдаст себя уже потому, что у него есть нервы и он уязвим. Он может вспыхнуть как спичка, то есть признаться или сделать ошибку. Нужно только воспламенить его спичечную головку. Как бы убийца себя не парафинировал, ничто не скроется от Мишеля Давенпорта, уж поверьте моему опыту.
Ларри заметно занервничал. Он положил правую ногу на левую, почесал за ухом и, тщательно подбирая слова, сказал:
— У вас явно мания величия. Возомнили себя оригинальным сыщиком. А сами применяете давно известный метод. В отрочестве я был фанатом сериала «Коломбо». Так вот, главный герой сериала часто панибратски общался с подозреваемыми, беседовал на отвлеченные темы, как бы успокаивая этим убийц, а сам дожидался, когда преступник выдаст себя, допустит оплошность и споткнется об собственную ногу. Я знаю, что вы опросили всех моих сотрудников, поговорили с ними не только о предмете расследования, но и на всевозможные темы, даже записали номера телефонов их родственников.
— И друзей детства. Видите ли, я отношусь к следствию более дотошно, чем Коломбо, он ведь так не делал. Лейтенант ограничивался беседами с преступниками. Мне же нужна вся подноготная возможного убийцы. Мишелю Давенпорту платят неплохие деньги, ему доверяют, приглашают расследовать резонансные дела. И я выкладываюсь на все сто процентов. Мой метод несколько отличается от метода Коломбо и его прототипа Порфирия Петровича из «Преступления и наказания». Помните, как он добился признания Раскольникова? Порфирий Петрович довел Раскольникова до нервного срыва и признания всевозможными неожиданностями, ловушками, намеками и издевательской иронией. То есть, по сути, он делал то же, что и Коломбо. Только вот преступники, с которыми приходилось иметь дело лейтенанту Коломбо, в отличие от Раскольникова были напрочь лишены зачатков совести. Я встречал и таких, как Раскольников, и таких, как типичные собеседники Коломбо. Я дотошнее, веселее и в то же время ненавязчивее Коломбо и Порфирия Петровича вместе взятых.
— И болтливее, — заметил Ларри. — К тому же у них не было хобби, и кулинарным искусством они не увлекались. Да и в целом как личности были неинтересны, в отличие от вас. Не говоря уже о вашем вкусе к стильной одежде, которого не было у выше названных сыщиков. Я начинаю питать к вам симпатию. Только вы зря стараетесь. Я — не убийца, и мне не в чем признаваться. Я — ученый с мировым именем.
— Но без Нобелевской премии. А у Спенсера она была. И даже имея ее, он продолжал работать на вас. Как сказали мне ваши подчиненные, он любил вас, уважал, был на короткой ноге с вами. Его приняла бы любая научная организация, а он не хотел покидать вас. Замечали ли вы его отношение к вам?
— У меня с подчиненными чисто рабочие отношения. Мы с Дэвидом были на «ты», это правда. Я ценил его. Он был Дон Кихотом от науки, если хотите услышать мое мнение о нем, самозабвенным фанатиком эволюционизма, не зря ведь Дэвид приходился родственником одному из родоначальников эволюционной теории.
— Я охотно верю вам, тем более что в моей голове стала выкристаллизовываться более или менее ясная картина, в которой вам отведена печальная, но реабилитирующая вас роль.
— О чем вы? — настороженно спросил Ларри.
— А вот о чем. Вы читали «Десять негритят» Агаты Кристи?
— Читал? Я помню имя каждого убитого персонажа.
— Превосходно. Тогда вы поймете меня. Не буду спрашивать, читали ли вы «Имя розы» Умберто Эко и «Незаметные убийства» Гильермо Мартинеса или смотрели фильм «Семь», потому что вижу, что имею дело со знатоком литературы и кино детективного жанра. Конечно же, читали и смотрели. Так вот, моя мысль состоит в том, что кто-то, возможно, хорошо знакомый вам, принялся реализовывать схему судьи Лоуренса Джона Уоргрейва.
— Схему? Серийные убийства? Я правильно вас понял? Каковы ваши аргументы?
— Извольте. На месте гибели Спенсера я обнаружил предмет, на который никто не обратил внимания. Это снежный шар. Внутри него пять крошечных домиков. Сейчас не Рождество, следовательно, сувенир подкинули. Но почему домиков именно пять? Наверно, потому что гибель Спенсера не последняя в череде неслучайных смертей, а только первая.
— Серия убийств? Так почему же пять, а не семь или десять?
— Потому что убийца хочет быть оригинальным. Зачем ему использовать текст детской английской считалки с десятью негритятами, фрагмент «Откровения Иоанна Богослова» с семью ангелами, классификацию семи грехов или последовательность четырех пифагорейских символов, если все это уже было? Нет ничего более гениального, чем схема убийств по логической задаче, причем весьма необычными способами, которые, похоже, предпочитает убийца: свежо, интеллектуально и одновременно странно, поскольку никому не придет в голову предугадать именно такой поворот событий. К счастью, вы имеете дело с Мишелем Давенпортом.
— Я хотел бы поаплодировать, но боюсь, что рановато. ещё не доказано, что мы имеем дело именно с убийством. Это могла быть случайность. Сбой в генетической программе бактерий, например. Я молюсь о том, чтобы ваши прогнозы оказались фантазией начитанного человека. К тому же нужно быть гением в генной инженерии, чтобы провернуть такое. Это просто роковая случайность. И кстати, умышленные убийства по схеме из всех перечисленных вами произведений имели место только в книге Агаты Кристи «Десять негрритят» и в фильме «Семь». У Мартинеса смерти были случайными, кроме убийства миссис Иглтон. У Эко некоторые смерти случайны, некоторые — умышлены, но за всем стоят интриги Хорхе из Бургоса.
— Я знаю об этом. И мне самому хотелось бы, чтобы мои выводы оказались ошибочными. Однако предчувствие гложет меня, — сказав это, Давенпорт внимательно посмотрел на заметно забеспокоившегося Ларри. — Повторяю: я был бы рад, если ошибаюсь. Однако я должен был вам рассказать о своих опасениях, чтобы вы были предупреждены.
— Кто предупрежден, тот вооружен. Спасибо за ваш прогноз. Вы думаете, что мне угрожает опасность?
— Непременно угрожает, иначе и быть не может. Почему я решил, что убийца готовится привести в исполнение схему по логической задаче? Потому что атмосфера в двух организациях, в которых вы работаете, располагает к этому. Убийца — интеллектуал, любящий решать сложные задачи. Изощренный маньяк от науки, стремящийся к совершенству и верящий в существование математической гармонии. Он — апологет концепции свободы воли, поскольку его действия символизируют разрыв крепкой цепи фатума. Преступник, словно маститый гроссмейстер, произвольно расставляет фигуры на шахматной доске судеб.
— Любопытно. А по какой же задаче будут происходить убийства?
— Извольте. Есть очень известная задача, которую одни приписывают Эйнштейну, другие — Кэрроллу. Когда я увидел в руках погибшего снежный шар с пятью домиками, то сразу вспомнил эту задачу.
— Я знаю ее. Там как раз пять персонажей. Англичанин, живущий в красном доме, испанец с собакой, украинец, любящий чай, норвежец, пьющий исключительно воду, и японец, курящий «Parliament».
— Не будем перечислять всех данных задачи, поскольку нам с вами они прекрасно известны. Спрошу только одно: вы помните цвет дома, напиток, животное и сигареты, которые принадлежат англичанину?
— Если память мне не изменяет, цвет его дома — желтый, любимый напиток — молоко, сигареты — «Old Gold», а домашнее животное — улитка.
— Вы ошиблись только в одном случае — когда назвали цвет дома англичанина. На самом деле он жил в красном доме. Я не поленился изучить биографические данные Дэвида Спенсера. Дом в родовом поместье Спенсера в графстве Дербишир выложен из красного кирпича. Его любимым напитком было молоко, к которому он пристрастился после неудачного падения на велосипеде в возрасте восьми лет и вынужденного семимесячного пребывания в постели. Любовь к улиткам зародилась вследствие издевательств сверстников над Спенсером из-за приобретенного прихрамывания: Дэвид считал улитку наименее подверженным влиянию эволюции животным и вследствие этого более стойким, в отличие от других существ.
— Но он никогда не курил.
— Верно, зато «Old Gold» — любимые сигареты отца Спенсера.
— То есть вы думаете, Мишель, что убийца настолько тщательно изучил жертв, что учитывал даже интересы их родственников? Не находите это смешным? — с иронией спросил Ларри.
— Я понимаю ваш юмор. Но у меня есть важный аргумент в пользу моей гипотезы. Вы — преподаватель и знаете, как студенты любят подгонять решение задачи под известный им из каких-либо источников ответ.
— Вы думаете, что убийца подгоняет данные задачи, находя их у реальных людей?
— Возможно. Его мотив — не месть и не личная ненависть к жертвам. Это чисто математическое преступление. Для него важно, чтобы все было точь-в-точь как в задаче, и напротив, не имеет значения, является ли животное или марка сигарет предметом симпатии жертвы либо симпатии родственника или даже приятеля.
— Звучит убедительно. Но почему вы считаете, что мне угрожает опасность?
— Вы были начальником убитого, он вас уважал и обращался к вам на «ты». Не исключено, что убийца уже определил личности будущих жертв, и они могут быть связаны друг с другом. В задаче персонажи являются соседями, а в жизни они могут оказаться приятелями или коллегами. К тому же опасение у меня вызывают данные испанца.
— А что с ним не так?
— С ним-то как раз все в порядке. Проблема в вас. Цвет дома в Кремниевой степи, где вы живете вместе с вашим другом детства Габриэлем Кортесом, — белый, любимый напиток — сок, а ваша постоянная марка сигарет — «Lucky Strike».
— Была. Сейчас я не курю. В задаче у испанца есть собака, а я псов не переношу.
— Собаку держит ваш сосед.
— Да, из дома напротив. И, в конце концов, я не испанец.
— Испанские корни имеет ваш друг Габриэль Кортес.
Терпеливо слушавший все это время Давенпорта Ларри разозлился и встал со скамейки.
— Ну, это уже перебор с вашей стороны. Вы не считаете, что все слишком притянуто за уши? У вас паранойя, уважаемый мсье Давенпорт. Слышал о ваших победах на поприще сыщика, но профессионалы к старости тоже сдают позиции.
— Я понимаю вас, мистер Грант.
— Ни слова больше. И не надо говорить мне, что вы искренне надеетесь на то, что прогноз окажется ошибочным. Не верю!
***
По телевизору показывали фильм Люка Бессона «Леон». Зная каждый кадр в нем, Габриэль предпочел не отвлекаться. Готовясь к занятию, он штудировал седьмую книгу диалога Платона «Государство».
«Представь, что люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю её длину тянется широкий просвет. С малых лет у них на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная, представь, невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол».
Когда зазвучала мелодия губной гармоники, Кортес не смог преодолеть желание повернуться к экрану. Пел Стинг, британский музыкант-мультиинструменталист.
He deals the cards as a meditation
And those he plays never suspect.
He doesn’t play for the money he wins.
He don’t play for respect.
He deals the cards to find the answer.
«Священная геометрия случайности. Скрытый закон вероятности исхода». «Стинг знает толк в философии», — подумал Кортес, выключая телевизор. «Трефы-кресты по пятам за войной, бубями мерят жизнь, а сердце как карта». Забавная мысль. Другой, не менее талантливый, британец сказал: «Весь мир — театр, а люди в нем актеры». Прав скорее Стинг, нежели Шекспир. Весь мир — игра в карты, то бишь в вероятность, а люди в ней — игроки. Или карты? А может быть, мы те самые узники в пещере, видящие лишь тени за ширмой? Вы знали, что червяк способен видеть лишь одно измерение, то, вдоль которого он ползет — длину? Точнее, у червяка вообще отсутствует зрение, он «видит» чувствительными природными фотоэлементами, которыми покрыто все его тело. Его субъективный мир — пещера с ширмой, за которой он мог бы узреть все остальные, навсегда скрытые от него, измерения. Однако червяк, вероятно, все же чувствует, что в окружающем его пространстве есть что-то не подвластное его взору.
Червяк не одинок в своей «геометрической слепоте». Рыбы, например, подобны жителям Флатландии, живущим в двухмерном пространстве. Лишенными век глазами они видят длину и ширину, а высоту созерцать не способны. Им видна лишь рябь на поверхности воды. Это по сути та же тень, что доступна взору узников платоновой пещеры.
Мы, люди, видим все три измерения, но не можем узреть время, четвертое измерение пространственно-временного континуума. Мы лишь догадываемся о его существовании благодаря прозрениям ученых. Все попытки представить визуально четвертое измерение — не более чем плод воображения. Да, в фильме «Интерстеллар» Нолан показывает нам комнату Мерф глазами её отца Купера, получившего благодаря благодетелям из далекого будущего возможность видеть больше трех измерений, но мастерски поставленная сцена — всего лишь научная фантазия Кипа Торна.
Что там, за ширмой? Каково это — видеть время, как мы видим стены-грани и ребра-углы наших домов? Что ощущает существо, которое в состоянии лицезреть объекты, имеющие форму тессеракта? Подобно зрителю, надевающему 3D-очки и на пару часов попадающему в волшебную страну, где плоский экран преображается в объемное пространство, такое существо может иметь 4D-очки, позволяющие одновременно увидеть прошлое, настоящее и будущее любое физического объекта, живого или неживого. Кортес вспомнил пришельцев с планеты Тральфамадор из романа Курта Воннегута «Бойня номер пять», объясняющих Билли Пилигримму, что прошлое, настоящее и будущее даны раз и навсегда и, следовательно, предопределены.
Как же прав был мученик Сократ, раньше Иисуса подвергнувшийся казни за то, что сказал: «Будьте добрее друг к другу». Его диалоги, ведущиеся по дедуктивной схеме, методом повивальной бабки, актуальны и по сей день. Мы — слепцы, видящие лишь тени большого мира. Отсюда и наша злоба — из ограниченности мышления. Знали бы мы, что мир гораздо шире, разнообразнее, возможно и не было бы стольких бессмысленных войн.
Мы знаем то, что ничего не знаем. Даже с нашими технологиями, которыми не научились пользоваться во благо себе. Мы слишком линейно понимаем весь мир вокруг себя, взять хотя бы то же время. У нас всего лишь пять органов чувств, и это обстоятельство сужает восприятие мира. Вспомните те же «ампулы Лоренцини», которые имеются у китов и некоторых рыб и позволяют чувствовать, «видеть» электромагнитное поле Земли, обеспечивая им шестое чувство — магниторецепцию.
Кортес вспомнил картину Сальвадора Дали «Постоянство памяти», висевшую в его доме в Итаке. Сейчас он понимал, что таким могли видеть мир жители планеты Тральфамадор. Текут часы, течет море, текут ветки дерева, на одной из которых текут те же деформированные часы, только механические. Мы воспринимаем мир неправильно, в силу природной слепоты.
Где же в кинематографе мы встречаем образ платоновой пещеры? Кортес напряг память, увидел внутренним взором вспышки воспоминаний, ещё не затерявшихся в чертогах разума. Ну, конечно же, второй и самый лучший фильм братьев, а ныне сестер, Вачовски «Матрица». Сами Вачовски скорее всего опирались на работу французского философа Жана Бодрийяра «Симулякры и симуляция», недаром экземпляр этой книги промелькнул в одном из кадров.
Платон писал: «Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, пройтись, взглянуть вверх — в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это, он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше». Он словно писал это именно о персонажах Вачовски.
Нео, главный герой «Матрицы», находится в позиции узника, с которого сняли оковы. Он не может поверить и проверить страшный факт: все что, он знал и видел до сих пор — не более, чем иллюзия. Но Нео все же выбирает красную таблетку, символизирующую горькую правду. Это его понимание счастья, счастья всеведения, понимания истины, счастья, состоящего в возможности бороться против тирании механизмов, обрекших человечество на жизнь в «пещере». Раз и навсегда приняв решение, Нео больше не будет мучиться сомнениями. Его удел — борьба. Но не все люди одинаковы. Другой освобожденный узник, Сайфер, не рад своему выбору. Его счастье — жизнь в неведении, он рад влачить существование среди фальшивых интерьеров, рад есть и пить несуществующие пищу и напитки. «Он похож на гедонистов вроде моего друга Ларри, — подумал Кортес, — чье счастье — в безмерных удовольствиях». «Я знаю, он не настоящий, и когда я положу его в рот, вкус внушит мне Матрица. Знаете, что я решил, за те десять лет, что свободен? Счастье в неведении».
Раньше, чем это сделали братья Вачовски, тип таких людей рассмотрел философ Роберт Нозик. В книге «Анархия, государство и утопия» он описал машину, которая может дать вам любое ощущение, которое вы пожелаете, в то время как вы просто-напросто киснете в аквариуме с электродами, вставленными в мозги. Нозик вопрошал читателя — согласился бы он подключиться к такой машине навсегда, заранее запрограммировав заветные мечты, зная при этом, что он будет чувствовать жизнь так, как будто все вокруг и вправду настоящее?
Кортес подумал о том, что у Сайфера нашлось бы немало соратников. Мы, по сути, так и живем. Наслаждаемся, не задумываясь, блуждаем в потемках, не видя истинную траекторию, думая, что счастье в пожизненном существовании в четырех стенах субъективного мировоззрения. Но настоящее ли это счастье?
Рассуждения Кортеса прервал стук в дверь. В комнату ввалился пахнущий хмелем Андрей Вайнберг. В руках он держал начатую бутылку коньяка. Не поздоровавшись, Андрей сел напротив Габриэля и указательным пальцем показал на диван за спиной Кортеса. Поняв, что разговор будет долгим, Кортес поспешил присесть.
— О тебе и о Шынар много говорят в Нуртехе и вообще в Кремниевой степи, — начал Вайнберг без вступлений. — Мне это не нравится. Обсуждают, сплетничают. Ты был в гостях у Шынар и её мамы без моего ведома. Ты ходишь в здание будущего музея и подолгу болтаешь с ней. О чем? Ты так и не начал выполнять задание, которое я тебе дал при нашей первой встрече. У Ларри сейчас сложный период, погиб его подчиненный в Урхране. Полиция подозревает Ларри, за ним день и ночь ходит по пятам странный сыщик из Лиона. Я не хочу его беспокоить. Решил сам поговорить с тобой. Хочу, чтобы ты уяснил. Шынар — моя.
Кортес молча встал, прошел к полке с книгами и папками, достал оттуда файловую папку и подал её Вайнбергу.
— Здесь черновик моей работы о свободе воли, которую я пишу денно и нощно. Я интерпретировал результаты исследований, проведенных Темуджином Сансаром. Через полгода, если к этому времени Ларри закончит Теорию Всего, в Нуртехе состоится международный симпозиум, на котором я выступлю с философским обоснованием навигатора времени. О многих деталях проекта, например, об импланте синапса, я пока всуе не упоминаю, но всегда держу их в своей голове. Как видишь, твои деньги не уходят в пустоту; это может произойти только в том случае, если в соответствии с теоремой Геделя о неполноте выяснится, что мы можем ответить не на все вопросы бытия.
— Мы и сейчас это понимаем. Не все функции натурального аргумента вычислимы, не все математические задачи решаемы, не все теоремы доказуемы, например, теорему Пэриса-Харрингтона невозможно доказать в рамках аксиоматики Пеано. Не пытайся играть на моей территории, Габриэль Кортес. Я — инженер, ты — философ. Но сейчас, в данной ситуации, мы оба — соперники в амурных делах.
— Уверяю тебя, Андрей, ты заблуждаешься. Мы с Шынар — собеседники, люди со схожими интересами, но вовсе не любовники. Я не понимаю, как ты мог вообще об этом подумать?! Веришь сплетням, сомневаешься в моей добропорядочности. Даже если бы я был влюблен в Шынар, я бы предпочел уехать в Штаты, лишь бы не препятствовать вашему с Шынар счастью.
Вайнберг задумался, отбросил бутылку в сторону, обомлел, закурил и сказал, глядя в глаза Габриэлю:
—Ты знаешь, а я тебе верю. Ты не можешь лгать. Если бы ты был передо мной виноват, ты бы и впрямь собрал вещи и уехал из Казахстана. Поговорим лучше о другом. Симпозиум нужно провести в ближайшее время, не стоит ждать полгода. Время, увы, работает не на нас. В технологическом университете Чалмерс в Швеции научились решать логистические проблемы с помощью квантовых компьютеров, это первое практическое применение квантовых технологий в мировой истории. В Китайском университете науки и технологий создали самый мощный квантовый компьютер, способный решать поставленную задачу в десять миллиардов раз быстрее суперкомпьютера, работающего на принципах классической механики.
— Квантовое превосходство?
— Квантовое превосходство. Счет идет на секунды. Не успеем с Теорией Всего и навигатором времени — и Казахстан отстанет навсегда. Успеем — подарим миру технологическую сингулярность. Если не нарвемся на черного лебедя.
— Понимаю, — сказал Кортес, — но я свою часть проекта почти закончил. Сейчас все дело в последних уравнениях.
— Я потороплю Ларри. Но позже, когда расследование в Урхране закончится.
Вайнберг улыбнулся, встал с дивана, бросил бутылку в урну, вопреки своей традиции пожал руку Кортесу и молча вышел из комнаты. Кортес нервно прошелся по дому, осознавая, что Вайнберг тысячу раз прав, обвиняя его в наличии чувств к Шынар.
— Я должен уехать из страны, — быстро проговорил Кортес, спускаясь по лестнице. — Это подло и несправедливо по отношению к Андрею. Я люблю Шынар, но мешаю их с Андреем счастью. Мешаю!
С яростью, присущей влюбленным, Кортес открыл двери шкафа, открыл чемодан и принялся закидывать в него без разбора всю одежду.
— Я не смогу нормально работать, пока нахожусь рядом с Шынар. Я не успеваю с симпозиумом. Пусть эту работу закончит кто-нибудь другой. Мне нечего больше здесь делать. Домой, в Итаку, туда, где я не увижу её глаз.
V. Стремление избежать одной ошибки может привести к другой
За всем этим, несомненно
стоит такая простая и красивая идея,
что когда — лет через десять,
сто или тысячу — мы додумаемся
до нее, то непременно спросим:
а разве могло быть иначе?
Джон Уилер
Сознание Нонгормана вновь странствовало в пространстве-времени, заполненном крошечными микроскопическими черными дырами с малыми массами. В них каждую наносекунду рождались новые вселенные — пузыри, отрывавшиеся от материнской вселенной. В искривленном пространстве, где через точку, не лежащую на искривленной прямой, можно провести сколько угодно прямых, не пересекающих данную прямую, даже мысли принимают довольно странную форму. Нонгорман чувствовал себя здесь почти так же, как герой рассказа Хайнлайна «Дом, который построил Тил». Мысленно проведя такую аналогию, Нонгорман удивился неограниченным возможностям памяти, благодаря которым он может помнить сюжеты книг как своей планеты, так и той, жителей которой ему довелось изучать.
***
Возбужденный Габриэль Кортес ворвался в кабинет, где располагался отдел, работавший над созданием Теории Всего. Ларри только вчера приехал из Усть-Каменногорска, и после долгих допросов в полиции с трудом приходил в себя. Акжан Абенов, бывший таксист, которого Ларри сделал своим консультантом по квантовому программированию, разогревал чай. Юрий Семецкий что-то вычислял на новом квантовом эмуляторе, созданном в Нуртехе, но являвшемся аналогом китайских разработок. Аккан Сагдиев, студент, с которым Габриэль когда-то вел беседу о меланхолии Озимандии, сидел за столом с Ларри Грантом и показывал ему какие-то записи в смартфоне.
— Получается, что та норвежская компания, для которой ты писал компьютерные программы через посредников, вновь вышла на тебя? — спросил Ларри у Акжана, оторвавшись от смартфона.
— Да, они узнали, что я теперь работаю на Вайнберга, — ответил Акжан, — Откуда-то прослышали о навигаторе времени и хотят завербовать меня в качестве промышленного шпиона.
— Можешь скинуть им фальшивые данные, Акжан. Я их сегодня приготовлю для тебя. Все хотят быть пионерами в области квантовых технологий. Кишка у них тонка. Меня сейчас больше интересует компьютерное моделирование эксперимента с котом Шредингера. Аккан, ты точно не переборщил с цианистым калием?
— Нет, все в полном порядке, — ответил Аккан, вновь показывая Гранту записи в смартфоне. — Я смоделировал мысленный эксперимент с котом Шредингера в созданной на эмуляторе симуляции.
— Знаешь, сколько в ящике должно быть цианистого калия?
— Это должна быть стосорокамиллиграммовая ампула. Пересказывая суть знаменитого парадокса, люди почему-то забывают, что кот, содержащий октиллионы частиц, неспроста находится в квантовой суперпозиции. Эта позиция, нехарактерная для макрообъекта, обусловлена наличием радиоактивного устройства и капсулы с цианидом, лежащих рядом с котом. В стальной коробке помимо кота и опасных предметов находится счетчик Гейгера, играющий роль наблюдателя. Когда счетчик регистрирует высвобождение радиации, атом меняет положение и распадается. Ампула цианида разбивается, и кот погибает. Но, принимая во внимание то обстоятельство, что частицы находятся в двух разных положениях, можно сказать, что кот подчиняется причудам квантовой механики. Он и жив, и мертв одновременно.
— Учитывая, что сейчас ученые все больше склоняются к многомировой интерпретации Эверетта, чем к копенгагенской интерпретации, — сказал Ларри, — подвешенное состояние кота вовсе не метафора. Он действительно жив в половине параллельных миров и мертв во второй их половине. Но точно мы этого никогда не узнаем. Вот если бы параллельные миры пересекались… Габриэль, ты здесь? Что же ты молчал?
Ларри только сейчас заметил Кортеса, вошедшего десять минут назад в открытую дверь и все это время молча слушавшего исследователей.
— Габриэль, на тебе лица нет. Садись, чай попьем. Какая муха тебя укусила? А мы тут моделируем парадокс Шредингера. Хотим понять, что в нём не так, и поможет ли он нам вывести окончательные уравнения Теории Всего. Аккан, будь добр, налей чай мне, профессору Кортесу, Семецкому, Абенову и, конечно, себе. Все любят чай без сахара, кроме тебя. Юрий, ты ведь, кажется, кофе пьешь? Тоже чай? О’кей, нальем тебе чай. Сахар там, на дальней полке. Там ещё где-то ампула с цианистым калием; принес вчера, чтобы Аккан изучил её химические свойства; так Аккану будет легче вновь смоделировать эксперимент на эмуляторе. Ты не ослышался, Аккан: эксперимент нужно продублировать, ведь результаты меня не удовлетворили. Сто сорок миллиграммов — очень небольшая доза для опыта, да с химическим составом ты просчитался. Юрий, ты спросил меня, как отличить калий от сахара? Прости, я забыл, что ты не химик. Его бесцветные кристаллы по форме и размеру напоминают сахар. Если содержимое ампулы просыпалось, будь осторожен, не перепутай с сахаром.
— Хорошо. Сахар с цианидом я ни за что не перепутаю, будь спокоен, — ответил Семецкий.
Кортес присел на краешек дивана и глубоко вдохнул в себя воздух. Каждый мой поступок, подумал он, пусть ничтожный, порождает другой, неизвестно где, неизвестно чей, а тот — третий и так далее. Мое тело, как и мириады других тел, — плод миллионов случайных выборов эволюции, сделанных ею на протяжении необозримо долгого времени. Именно поэтому, проходя через сумерки морали, не каждый может почувствовать себя выуженным из десятка тысяч. Я, например, не могу. Запутавшись в дебрях поступков, мое тело стало дезориентированным, а разум погрузился в туман одиночества. О, сумерки морали, я стою перед трибуналом совести и совершенно определенно не могу выступать в качестве собственного адвоката.
— В чем дело, Габри? Рассказывай. Ты можешь говорить при коллегах. Они — наши друзья.
— Вайнберг думает, что я встречаюсь с Шынар.
— Это плохо. Если Вайнбергу что-нибудь взбредет в голову, он не успокоится. Вайнберг говорил на днях, что хочет обратиться к услугам других философов. Он ревнует Шынар к тебе. Я предупреждал, но ты не слушал меня.
— Это его дело. Перед собой и тобой я чист.
— Вайнберг упрям. Он заставит тебя уехать обратно в Штаты, даже если на кону судьба нашего проекта.
— Мне жаль уезжать, так и не доведя дело до конца, тем более что я почти нашел доказательства согласованности Теории Всего с метафизическим либертарианизмом. Я могу совершить переворот в философии. Но для того, чтобы моя совесть была чиста, я решил купить билет на ближайший рейс.
— Глупо уезжать теперь, когда проект близок к завершению, — поспешил вставить ремарку Семецкий, — мы вместе с вами войдем в вечность. Чтобы вам стала ясна суть моих слов, приведу пример из истории. Если бы император Мэйдзи отказался от модернизации Японии, мы бы не увидели её сегодня такой прогрессивной, технологичной и мультикультурной, какой её сделали реформы Мэйдзи и премьер-министра Ито Хиробуми, лидера знаменитой Пятерки из Тесю, ездившей в Англию для изучения британских технологий. Только сильным людям покоряются вершины. Ваши раздоры с Вайнбергом по амурным вопросам — мелочь по сравнению с потенциальной славой, от которой вы отказываетесь, отступая назад. Мы смертны, но вечность, как ни странно, является одной из наших неотъемлемых прерогатив. У поэта Алексея Большакова — не только японцы пишут японские стихи — есть такое хокку:
«Хожу по праху
Живших много ранее.
Кто пойдёт по мне?»
— От нас с вами, от каждого по отдельности, требуется немалая доля воли к жизни, чтобы те, кто пройдет по нашему праху, могли мысленно поблагодарить нас за вклад в мировую историю, — подытожил Семецкий.
— А как же грусть Озимандии? — отрешенно спросил Кортес, не глядя ни на кого из сотрудников отдела. — Помните, Аккан, мы с вами недавно беседовали об этом. В тот же день я написал стихи. Послушайте:
Грусть Озимандии ясна:
Забыты будем мы для сна,
Для жизни бренной, для иллюзий,
Для комплиментов и аллюзий.
Песком засыплет пирамиды,
Забудут даже про Евклида,
Мир одномерен и пустынен,
Никто, увы, здесь не повинен.
Лишь вечен космоса поток,
Дарил мгновений он глоток
Всем триллионам поколений
В созвездьях и в рядах скоплений.
— Вы снова в своем репертуаре, мистер Кортес. Жизнь стоит того, чтобы её прожить, даже если забудут каждого из нас, — сказал бывший японист, дотронувшись пальцами до своей чашки с чаем, чтобы проверить, достаточно ли он теплый.
— Если бы, чисто гипотетически, ваша смерть, господин Семецкий, была совсем рядом с вами, были бы вы таким же оптимистом, каким являетесь сейчас? — спросил Кортес.
— Без сомнений, я был бы невозмутим, поскольку верю в квантовое бессмертие, — немного подумав, ответил Семецкий. — Даже если сейчас меня отравят тем же пресловутым цианидом, о котором так часто упоминал сегодня Ларри, я все равно буду жив во многих других вселенных. Учитывая, что в некоторых параллельных мирах наверняка уже научились продлевать жизнь методами генной инженерии, я ещё и потенциально бессмертен.
— Давно известно, что квантовое бессмертие, равно как и многомировая интерпретация квантовой механики, — теоретические допущения, не соответствующие критерию Поппера, — вмешался в спор Семецкого и Кортеса Ларри Грант, — пока вы оба парируете словесные удары оппонента, чай продолжает остывать. Не заставляете атомы чая находиться в суперпозиции, выпейте его.
Семецкий и Кортес дружно улыбнулись шутке Ларри и пригубили из одинаковых чашек веджвудского фарфора с характерными для него чрезвычайно тонкими стенками.
Внезапно Семецкий почувствовал вкус горького миндаля. Он мгновенно потерял сознание и грузно повалился на пол. Кортес и другие сотрудники секретного отдела спешно соскочили со своих мест и ринулись к Семецкому. Его дыхание было затруднено. Через несколько секунд, пока Ларри судорожно щупал пульс бывшего япониста, Семецкий умер от нехватки кислорода.
Уже несколько дней пребывавший в столице мсье Давенпорт немедленно отреагировал на звонок Гранта и приехал в Кремниевую степь с лучшими полицейскими Нур-Султана.
— Судя по всему, — сказал, делая пометки в блокноте, Давенпорт, — речь идет об умышленном отравлении цианидом калия, который был подмешен в чай. Венозная кровь жертвы имеет алый цвет, присущий цианидам. Известно, что кровь в артериях насыщена кислородом. Синильная кислота, из которой получают цианид калия, тормозит процесс тканевого окисления и лишает артериальную кровь кислорода. Таким образом, человек, отравленный цианидом, умирает, причем смерть эта, как правило, мгновенна и абсолютна. Поэтому я всегда с недоверием относился к версии двойного самоубийства Гитлера от дозы цианистого калия и последовавшего за ним выстрела из пистолета. Поверьте, после цианида Гитлер не успел бы выстрелить в себя, — да что там, он и подумать бы ничего не успел. Впрочем, речь сейчас не о нем. Я хотел бы поговорить с вами, мистер Грант, наедине, не в присутствии ваших друзей.
Ларри Грант и Мишель Давенпорт вышли из Нуртеха и прошлись вдоль фонтанов, окружавших университет.
— Теперь у меня нет никаких сомнений, — сказал, хитро прищурившись, Давенпорт, — что некто продолжает убивать по упомянутой мной в прошлом разговоре задаче. Этот человек отлично разбирается в генетике и в химии.
— Каковы ваши доводы? — спросил дрожащим голосом Ларри. Ему было не по себе от посыпавшихся, как костяшки домино, убийств.
— Извольте. Семецкий — типичный «японец» из задачи. Он — бывший японист, большой любитель хокку и всего, что связано с японской культурой. Его любимый напиток — кофе.
— Но вместе с нами он пил чай, — возразил Ларри.
— Из уважения к сотрудникам отдела. Они все любили чай, и ему приходилось считаться с интересами коллег.
— Возможно, — нехотя согласился Ларри, — по крайней мере, «Parlament» точно были его любимыми сигаретами в соответствии с условием задачи.
— Это так же верно, как и то, что любимый цвет Семецкого — зеленый.
— А любимое животное? Зебра? — спросил Ларри.

— Увы, нет. Японский заяц. Однако первой игрушкой, которую Семецкий подарил своему единственному сыну, была именно зебра.
— Мсье Давенпорт, поверьте, все эти ваши софистские уловки, если уж говорить откровенно, выглядят смешно. Увидев в кабинете Спенсера снежный шар с пятью домиками, вы вспомнили эту злосчастную задачу, связали одного из её персонажей со Спенсером, причем приплели не относившиеся к нему напрямую факты. Как будто вам этого было мало, вы ещё и собрали данные моих друзей, родственников и коллег. А если бы погиб не японист Семецкий, а, скажем, другой наш сотрудник Темуджин Сансар, монгол по национальности? Как бы вы выкрутились? Стали бы искать японца среди его одноклассников? И на этом основании объявили бы Темуджина типичным «японцем» из задачи?
— Я понимаю вашу иронию, мистер Грант, но мне сейчас, определенно говоря, не до юмора. Я пытаюсь познать логику убийцы, а она может быть непредсказуемой. Не кажется ли вам, что, не найдя в вашем кругу настоящего японца, убийца определил в качестве жертвы близкого вам человека, который имел хотя бы какое-то отношение к Японии? К тому же, поглядите, что я нашел в кабинете вашего секретного отдела.
Давенпорт вытащил из своей сумки снежный шар. Ларри только сейчас увидел, что руки Давенпорта были облачены в белые перчатки.
— Обратите внимание: здесь четыре домика. Я не стал показывать шар полиции.
— Почему? Это ведь важная улика.
— У нас пока нет прямых доказательств. Я приберегу два снежных шара — первый из них лежит в моей сумке — до той поры, пока не останется сомнений в том, что мы действительно имеем дело с серийным убийцей. Знаете, иногда мне кажется, что убийца — вы, мистер Грант, — задумчиво и совершенно серьезно сказал Давенпорт.
— Мнение человека — его личная собственность, не подлежащая экспроприации, мсье Давенпорт. Но я позволю себе контраргумент. Спенсер и Семецкий были моими коллегами и приятелями, поэтому весьма странно с вашей стороны подозревать меня, — ответил, изменившись в лице, Ларри.
— Согласен, ваша многолетняя дружба со Спенсером и Семецким — лучшее алиби. Но есть одно но. Я обдумывал разные версии ещё после первого убийства, будем называть его так, хотя в КНБ и в полиции считают, что это случайность. Врагов у Спенсера не было. Но тем не менее убийство совершено, именно убийство, не несчастный случай, ведь генетический код бактерий не мог измениться случайно, я знаю это, потому что консультировался с генетиками. Убийство совершил тот, кто недолюбливал Спенсера, однако на работе Спенсера любили.
— Ранее вы говорили, что для преступника это математические убийства и ничего личного у него по отношению к жертве нет.
— Я и сейчас использую эту версию как основную рабочую. Но что если убийца — друг и коллега своих жертв? Вы могли завидовать Спенсеру из-за родовитости и наличия престижной премии, но это исключено. Ваш друг детства Габриэль Кортес, которому я позвонил, представившись журналистом — не спрашивайте, откуда я взял номер вашего друга, — характеризует вас как человека, не испытывающего пиетет к привилегиям, и гения, способного в скором времени добиться прорыва в физике. Разве такой человек может завидовать? Эдит была для вас возможностью добиться всемирной славы в случае, если не получится с Теорией Всего. Вы бы не стали так подставлять себя.
— К тому же я ничего не смыслю в генетике. Перестройка генома бактерии, изначально ориентированной на поглощение плутония, — дело для профи. Ваш убийца-математик ещё и первоклассный генетик.
— И химик. Об этом я тоже думал. Спектр преступлений слишком широк для одного человека. Сейчас я понимаю, что столкнулся с делом, которое может стоить мне карьеры, если я не докопаюсь до истины. Что-то подсказывает мне, что грядет новое убийство. Возможно, преступник — чокнутый математик, генетик и химик, а возможно, кто-то просто-напросто хочет вас скомпрометировать и уничтожить. Все мои наблюдения доказывают лишь одно: убийство совершено необычным человеком, чрезвычайно умным и упорным. Случай фантастический. Если я все-таки разгадаю этот ребус, вне зависимости от того, убийца вы или нет, я буду просить вас кое о чем личном.
— Да, говорите, постараюсь выполнить вашу просьбу, — с готовностью сказал Ларри.
— У меня есть ещё одно хобби. Как я уже говорил, в моем доме в Лионе я держу небольшую муравьиную ферму. Во время визита в очередную страну, закончив расследование, я нахожу матку местных муравьев и затем везу её домой, в Лион. Когда дело закроется, можете помочь с поисками матки?
— Не вопрос. У меня есть знакомые мирмекологи, они помогут. А откуда у вас такой интерес к муравьям?
— Они организованнее нас, у них в большей степени, чем у нас, развит коллективизм, чувство локтя. И к тому же в их царстве ещё не родился свой аналог Каина.
— А значит, нет и своего Шерлока. В таком обществе, лишенном индивидуальностей, весьма скучно жить.
— Порой мне кажется, что лучше бы у нас не было ни Каина, ни Шерлока. Муравьи прекрасно обходятся без них.
— Без них и без религии, — заметил Ларри. — Кстати, мсье Давенпорт. Давно хотел спросить вас. Как вы считается, наш мир детерминирован — Богом, судьбой, роком — или в нём царит случай? Сам я убежденный детерминист, но мой шеф Вайнберг — закоренелый сторонник концепции свободы воли.
— Наш с вами мир, безусловно, подчиняется закономерностям, следовательно, все в нём предопределено. Я был воспитан в протестантской семье, и для меня никогда не было сомнений в зависимости мира от высшей воли. Когда я расследую преступления, то принимаю на веру, что все эти закономерности не могут не отражаться в картине убийства. Впрочем, об этом в следующий раз.
Ларри попрощался с Давенпортом и отправился к себе домой. Темное предчувствие беспокоило и его. Ему казалось, что гибель Спенсера и Семецкого — начало чего-то страшного. Интуиция не обманула Гранта.
***
— Ларри, заходи, мне как раз привезли апельсины.
Рабочий кабинет Вайнберга вмещал в себя камин, стеллажи с научно-фантастическими романами и спортивными журналами о скачках и стеклянный шкаф с коллекцией виниловых пластинок. Вайнберг не пользовался услугами охранных агентств, жил в аскетической обстановке и из всей роскоши, которую так любят миллиардеры, мог позволить себе только дорогие фолианты и раритетные пластинки.
— Знаю, что ты поклонник сай-фая и скачек, но никогда не догадывался, что ты ещё и меломан, — сказал Ларри, садясь напротив Вайнберга, который по обыкновению не пожал руку гостю.
— Ты столько лет меня знаешь и даже не подозревал об этой моей страсти. Этот бумажный лист, покрытый слоем копоти — первая в мире грампластинка, сделанная в тысяча восемьсот шестидесятом году французом де Мертенвилем с помощью фонографа. На ней записан десятиминутный отрывок из «Марсельезы». Вот хромовая пластинка, а это уже более усовершенствованная цинковая, изобретенная Берлинером, который использовал для воспроизведения звука граммофон. Вот односторонняя семидюймовая пластинка, одна из первых, запущенных в серийное производство. Тут есть и двусторонняя двенадцатидюймовая пластинка фирмы «Одеон». На них в основном инструментальная классика девятнадцатого века. Дальше синглы-сорокапятки. Джаз Миллера, старый добрый рок-н-рол Элвиса Пресли. Посмотри, какая прелесть: Джо Дассен с его французским шансоном. Ты до сих пор не уловил разницу между русским шансоном и французским? А вот это мой самый любимый раритет — виниловая пластинка «на костях». Тусуясь в советских домах культуры, мы, молодые советские диск-жокеи, кустарным способом записывали модный зарубежный рок на проявленных рентгеновских снимках. Девочки любили тех, кто шарил в этом. Жаль, что ты никогда не слушал Виктора Цоя, он ведь не хуже ваших битлов, — ностальгически вздохнув, договорил Вайнберг и запел сиплым голосом:
Ты готов был отдать душу за рок-н-ролл,
Извлеченный из снимка чужой диафрагмы.
А теперь — телевизор, газета, футбол,
И довольна тобой твоя старая мама.
Рок-н-рольное время ушло безвозвратно,
Охладили седины твоей юности пыл.
Но я верю, и верить мне в это приятно,
Что в душе ты остался таким же, как был.
— Впечатляет, — искренне сказал Ларри, — но я вообще-то предпочитаю блюз. Ма Рэйни, Джимми Рашинг, Роберт Джонсон, Чак Берри. Слушал?
— Конечно же, слушал. Именно благодаря им я плюнул на учебники немецкого и самостоятельно выучил английский. В итоге мне пригодились оба языка. Не знал, что ты любишь блюз. Не моя музыка, хоть я и слушаю все подряд. Пожалуй, лишь Чак Берри по-настоящему неплох. Но о вкусах не спорят. Ты ведь не об этом пришел поговорить?
— Верно. Речь пойдет о нашем общем друге Габриэле Кортесе.
— Эта тема закрыта, Ларри. Парень уедет в Штаты. Он хорошо поработал, я дам ему возможность провести симпозиум.
— Напрасно ты так. Габриэль — толковый специалист. Я говорю это не потому, что он мой друг.
— Брось, Ларри. Я что, не вижу, что он мечется между метафизическим либертарианизмом и детерминизмом, причем испытывает пиетет именно перед последней концепцией?
— Мы все мечемся между этими двумя концепциями. Живя в мире, напрочь опутанном причинно-следственными связями, чувствуешь себя Ведьмаком, до поры до времени тщетно сопротивляющимся Предназначению, или Луизой Бэнкс из фильма Вильнева «Прибытие», сталкивающейся с цивилизацией фаталистов, видящей время как непрерывный поток одновременно существующих событий.
— Рассказ Теда Чана мне нравится намного больше, чем его блеклая экранизация. Предопределение плохо тем, что делает нас безмолвной куклой в руках Вселенной, свобода воли же превращает нас из инертных наблюдателей в творцов жизненной магистрали, строителей анизотропного шоссе человеческих судеб. Нет судьбы кроме той, что мы творим.
— Этот бессмертный слоган «Терминатора» мне тоже по душе, — сказал Ларри. — И мне, безусловно, хотелось бы поверить в это утверждение, если бы два самых авторитетных для меня гения физики были бы на твоей стороне, Андрей. Но, увы, Ньютон и Эйнштейн были фаталистами от науки.
— Выбор Эйнштейна мы уже как-то обсуждали с тобой, а насчет Ньютона, скажу тебе, Ларри, что здесь не обошлось без пристрастия Исаака к толкованию «Откровения Иоанна Богослова». Ньютон настолько был убежден в существовании высшего замысла, что даже его знаменитое яблоко было для него одним из проявлений божественной воли. Жаль, что мы с тобой сейчас едим не яблоки, а апельсины.
— Апельсины ничуть не хуже яблок, Андрей. Недавние эксперименты Костелецки красноречиво доказывают этот тезис. До него ученые с легкой руки Галилея считали, что все предметы падают с одинаковым ускорением. Однако Алан Костелецки с помощью сверхчувствительных весов обнаружил, что, например, апельсины падают с разным ускорением, но разница настолько мала, что обычные весы не могут этого определить.
— Это ты к чему, Ларри?
— А вот к чему. Подобно апельсинам Костелецки, одержавшим победу над предметами, сброшенными Галилеем с Пизанской башни, идея многомировой интерпретации Эверетта может разгромить в пух и прах другие интерпретации квантовой механики и оказаться самой правдивой из всех представленных на сегодняшний день. Откровенно говоря, мне никогда не нравилась копенгагенская интерпретация с её непонятной природой волновой функции, пусть она и постулирует необходимость существования свободы воли в мире овеществленной комбинаторики, которая претит мне, но импонирует тебе. Я всегда спрашивал себя: «Если частица может находиться в двух местах, не может ли делать то же самое объект, состоящий из октиллионов таких же частиц?». Копенгагенская интерпретация считает этот вопрос риторическим, а многомировая отвечает на него весьма элегантно. Макрообъект тоже находится в суперпозиции, точнее, в двух разных вселенных, отличающихся историей. Ты сидишь передо мной и ешь апельсины, по-мальчишески бросая кожуру себе под ноги, а в другой вселенной твоя копия живет в уцелевшем Советском Союзе, где апельсины все ещё в дефиците. Где-то в других вселенных Шварценеггер — президент США, потому что отцы-основатели в другой истории не стали вводить поправку, мешающую железному Арни в нашем мире стать хозяином Белого Дома. В других мирах гигантские насекомые продолжают доминировать в обогащенной кислородом атмосфере, динозавры стали разумными, а Новый Свет так и остался неоткрытым.
— Погоди, Ларри. Интерпретация Эверетта тоже ведь детерминистская, как и интерпретация де Бройля-Бома, которую я терпеть не могу за декларирование предопределения?
— Почти. По Эверетту выходит, что каждая вселенная предопределена в локальном масштабе, сама по себе, но в глобальном смысле она априори предполагает свободу воли индивида. Если бы мы доподлинно знали, как живут твои копии в других вселенных, это позволило бы нам избежать неправильных поступков в нашем будущем, ведь по некоторым расчетам, время в любой другой вселенной может опережать наше. Это и будет естественный навигатор времени, столь вожделенный тобой.
— Ясно, — сказал Вайнберг. — Но ведь это нереально?
— Все реально, Андрей. Будьте реалистами, требуйте невозможного.
— Ты заражаешь меня своим оптимизмом, Ларри. Но я все же боюсь, что мы никогда не сможем проникнуть в другие вселенные. Или сможем? — Вайнберг замотал головой. — Что-то я совсем запутался. Хочешь пива?
— Пиво после апельсинов? Нет, спасибо. Я, пожалуй, пойду домой. Спокойной ночи, Андрей. Подумай ещё раз о Габриэле. Только он способен обосновать нашу с тобой работу с философских позиций.
— Ты, как я погляжу, только о нём и думаешь. А между тем тебе следовало бы подумать, прежде всего, о себе. Вокруг тебя умирают твои коллеги, Ларри. Кто-то или что-то решило сжить тебя со свету или попросту подставить именитого ученого-астрофизика Ларри Гранта.
Ларри вяло улыбнулся, сжал пальцы в кулак и поднял руку вверх. Вайнбергу на мгновение показалось, что в широко открытых глазах Ларри зажглись огни ярости.
— Мы сдюжим, Андрей. Молись о том, чтобы в орбиту убийств не попали ты и твоя будущая супруга. А Габриэль здесь не при чем. Совсем не при чем.
***
Устав стучать в дверь, Давенпорт недолго думая предпочел силовой метод. Увы, он опоздал; предчувствие не давало ему покоя весь предыдущий день, но Давенпорт не верил в существование шестого чувства. Он привык видеть во всем систему, где каждая деталь что-то да значила, имела свой вес. Сократ использовал индукцию в философских беседах с аристократами, а Давенпорт эту же индукцию применял в решении головоломок, подкинутых преступниками. Но в этот раз предопределение, помогавшее Шерлоку и Пуаро, подвело Давенпорта. На часах пять утра, но убийца, похоже, сова. Вайнберг лежал на полу, возле батареи, с проломленной головой. Повсюду — на полу, на столе, на диванах — лежали горки апельсиновой кожуры. Кто же ест апельсины перед смертью? Разве что снобы. Что может быть более зловещим, чем апельсины, лежащие рядом с мертвым человеком? Совсем как в фильме «Крестный отец».
Давенпорт присел на корточки и мимоходом взглянул на красивое мертвое лицо триллионера Вайнберга. Все рождаются и умирают одинаково, только живут по-разному. Одни плывут по течению, иные бросаются в поток, вспомнив мудрость умного грека Гераклита, сказавшего, что дважды туда не войдешь: уж лучше попробовать по-бунтарски ворваться в него, если войти невозможно. Вайнберг принадлежал ко второй когорте людей; он знал, что испытания подобны Сцилле, а кажущаяся нега жизни — Харибде: не останавливайся ни перед одной из них, иначе погибнешь. Впрочем, Вайнберг все же оказался там, где будем мы все. Катабасис миллиардера был предрешен, а Одиссея неминуемо должна была закончиться в его Итаке. Кто-то сказал, что человек должен умирать там, где начался его земной путь. В случае с Вайнбергом это спорное утверждение, не подчиняющееся здравому смыслу, стало аксиомой. Вайнберг мог умереть в Германии, с кружкой славного баварского пива в руке и в преклонном возрасте, а лежит здесь, в Казахстане, в рожденной его энергией и силой деятельной мысли Кремниевой степи. Детище, которое он создал для Отечества, осиротело.
— Украинец, — горько, со вздохом, заключил вслух Давенпорт. — Предки-немцы, слуги Екатерины Второй, были привезены из Пруссии, а позже отданы Григорию Потемкину и остались в Крыму, который потом стал украинским. В начале двадцатого века попали в Поволжье, а позже были депортированы оттуда Сталиным в Казахстан. Любимый цвет — синий. Любил пить чай, мог выпивать по пятнадцать чашек в день. Чисто казахстанская черта, кстати. Любимые сигареты — не «Chesterfield». Он вообще не курил. Это были любимые сигареты его матери. Он, конечно, не знал об этом. Я порылся в его семейном архиве: подозревал, что Вайнберг, входивший в близкий круг Ларри Гранта, может стать жертвой. А вот лошадей покойный любил, покупал спортивные журналы и всегда делал ставки на скачках. Итак, все или почти все как в задаче. А где же снежный шар? Он должен быть здесь.
Давенпорт было испугался, почувствовав, что предопределение удаляется от него, оставляя один на один с костяшками на игорном столе Бога, явно испытывавшего симпатию к лидийцам, но вмиг успокоился, узрев под диваном знакомый абрис. В шаре было три домика.
— Убийца и в этот раз опередил меня, — грустно произнес Давенпорт. — Досадно. Я, кажется, понял, чего ты хочешь. Ты стремишься вывести теорему идеального убийства. Но сделать это тебе никогда не удастся. Я клянусь!
Давенпорт встал, подошел к дивану и достал из-под него снежный шар, который тут же скрылся в сумке сыщика. Вызвав полицию, Давенпорт позвонил юристу Вайнберга и опросил соседей
— Вот оно что! — воскликнул Давенпорт, узнав нужную ему информацию. — Ларри Грант!
***
Ларри невозможно было узнать, так он изменился в последнее время. Руки его дрожали, правая рука еле держала телефонную трубку. Борода портила его красивое лицо. Голос был ломким, неуверенным. Габриэль сидел за стеклянной перегородкой, отделяющей его от Ларри; он до сих пор не мог поверить в происшедшее.
— Как это случилось, Ларри? — только и смог спросить он.
— Ты знаешь, как, — ответил Ларри. — Согласно завещанию Андрея все его состояние, вся собственность, включая контрольный пакет акций Кремниевой степи, перешли ко мне. Вайнберг, как оказалось, очень доверял мне. И-за отсутствия у него близких родственников Андрей оставил мне всё свое баснословное богатство. Давенпорту это показалось странным, и он, опросив соседей, узнал, что я заходил к нему за несколько часов до убийства. Все улики против меня. Я был с каждым из трех убитых коллег в последний момент жизни. Давенпорт считает, что я тот самый преступник с математическим складом ума, убивающий по задаче Эйнштейна. Но ты ведь знаешь, что это не так. Я обожал Вайнберга, дружил со Спенсером и Семецким, я столько сделал для Кремниевой степи, для безъядерного будущего, а в итоге оказался здесь. Все коллеги и друзья предали меня, забыли обо мне, кроме тебя, дружище.
— Я понимаю тебя, Ларри. Но я тебя вытащу, слышишь? Я проведу собственное расследование. Надо доказать твою невиновность.
— Спасибо, друг. Как с тобой поговорил, так сразу на душе легче стало. У меня будет к тебе просьба. Я оставил в нашем с тобой доме в Нур-Султане тетрадку с расчетами по Теории Всего. Найди её. Мне осталось совсем немного для того, чтобы завершить работу над теорией. Я уничтожен, но не сломлен.
По дороге в гостиницу, где остановился Давенпорт, Габриэль заглянул в дом Шынар. Как она там? Наверняка убита горем, ведь её жених мертв. Что будет теперь с Кремниевой долиной и Музеем тюркского Ренессанса, одному Богу известно. Убийство Вайнберга нарушило баланс в Нуртехе, где объявили неделю траура. Габриэль старался не думать об амурных делах, считая это неуважением к усопшему. Скоро Габриэль улетит в Штаты, а сейчас надо выяснить, кто на самом деле убил Андрея.
Дверь, на удивление Габриэля, открыл Акжан Абенов. Бывший таксист, неоценимый специалист из секретного отдела, правая рука Ларри, и ныне, в его отсутствие, фактический глава Кремниевой степи.
— Как? Как ты здесь? — только и мог спросить Габриэль. Акжана не должно было здесь быть, ведь он не знаком с Шынар.
— Мистер Кортес, я вам сейчас все объясню.
— Попробуй.
Из-за спины Акжана выглянула Шынар. Габриэль обратил внимание, что между ней и Акжаном не было личной дистанции. Когда Шынар нежно положила свою руку на плечо Абенова, Кортесу все стало ясно.
— И как давно вы любовники?
— Уже много лет, — глядя в глаза Габриэлю, сказала Шынар. — Проходите в комнату, господин Кортес. Мамы нет дома, она на уроках. Мы с вами попьем чай и заодно поговорим.
— Мы давно хотели сказать Андрею, но никак не решались, — объяснил Абенов, когда все сели за стол, — ждали удобного момента.
— Ну, теперь вам ничто не мешает. Но вы же собирались выйти за Андрея, Шынар!
— Я была с ним из жалости. Андрей болел раком пищевода. Он любил меня и хотел, чтобы я стала его женой. Я собиралась сказать ему правду, но не знала, как это сделать.
— Рак пищевода? Так вот почему Вайнберг так часто употреблял в пищу апельсины. Он ведь ел их перед смертью.
— Лимонен, который содержится в цитрусовых, стимулирует работу лимфоцитов, уничтожающих раковые клетки. Поэтому Андрей регулярно употреблял их, — пояснила Шынар.
— Но апельсины не спасли Вайнберга. Кто-то убил его. Вы собирались сказать Андрею правду, но вряд ли бы сказали ему. Он был ревнив. Вы знали, что он ревновал вас ко мне?
— Нет, Андрей мне ничего не говорил.
— Он вас любил и не говорил вам о конфликте со мной из-за вас умышленно. Не хотел отпускать вас, ведь он не был уверен, что вы не испытываете ко мне никаких чувств.
Кортес начал успокаиваться. То ли чай подействовал, то ли чувства к Шынар мгновенно иссякли. Любовь — это костер, огонь в котором нужно поддерживать ежечасно, причем делать это должны оба. Как там у Есенина?
Я опять подо мглой.
Мой костер догорел,
В нём лишь пепел с золой
От углей уцелел.
Снова грусть и тоска
Мою грудь облегли,
И печалью слегка
Веет вновь издали.
Я всегда остаюсь с пеплом в руках, подумал Кортес. Так было со Сьюзи, было с несколькими девушками ещё в студенчестве, повторяется и теперь. Только Аманда могла остаться со мной. Впрочем, не следует оглядываться назад. Не нужно этого делать. Шагая по извилистой тропе, называемой жизнью, все больше понимаешь, что оглядываться назад означает терять время, дезориентируя себя. Жить нужно с осознанием того, что сегодня лучше, чем вчерашний день, день, навсегда покрывшийся призрачной дымкой. Вдохнул глубже воздух, выдохнул, постучал костяшками пальцев по матовой или глянцевой поверхности стола, напел мотив любимой песни, и как будто легче стало. А если на минуту закрыть глаза, перед твоим мысленным взором пронесутся герои чтимых классиков, не спеша проскачет всадник по имени Время, отступят в бессилии суета и тщетность, и их трон не по-узурпаторски, а по-хозяйски займет малознакомая обитателю современного человеческого муравейника медитация. Душа не живет в плену шелеста зеленых бумажек, пришедших на смену Золотому тельцу, душе тесно в казематах бездумного времяпрепровождения. В храмах Души её монахи играют в шахматы и в го, читают книги, слушают спокойную, способную возвысить, музыку, мирно беседуют в такт мерным шагам Гармонии, окидывающей мудрым взором головы своих адептов. Только такие откровения, нисходящие на уставшего от суеты человека, способны помочь ему жить в ладу с душой. И теперь я вижу, осязаю, слышу, обоняю, чувствую на вкус, ощущаю шестым, запрятанным глубоко под коркой головного мозга, чувством истинное сегодня, истинное сосуществование с миром людей. Правда, сказанная Шынар, пусть и несколько запоздалая, исцелила меня, подумал Кортес.
— А когда же вы познакомились? — полюбопытствовал уже менее пристрастно Габриэль.
— Мы учились по «Болашаку» в Штатах, — ответил Акжан. — После обучения Шынар работала искусствоведом в Туркестане, а потом познакомилась с Вайнбергом, искавшим специалистов для основания музея, который воссоздавал бы величие утраченной во время нашествий монголов и джунгаров казахской культуры. Вайнберг полюбил Шынар и предложил ей руку и сердце. Снедаемый ревностью, заручившийся взаимностью чувств своей возлюбленной, я не отступил и все это время настаивал на разрыве их отношений. Шынар же искала подходящий момент, чтобы признаться Вайнбергу, что уже помолвлена со мной.
— А потом его убили. Если правда о вашей любви выйдет наружу, полиция может заподозрить вас в совершении убийства Вайнберга.
— Зачем мне было убивать своего шефа? И коллегу Семецкого? А Спенсера я вообще никогда не видел, он с другой работы Ларри Гранта.
— Я вам верю, но вот что скажет полиция и тот сыщик, Давенпорт, кажется? — сказав это, Кортес был атакован внезапным озарением. — Подождите, здесь есть нечто, что поражает меня. Странно, что вы с Шынар знакомы давно, а в Нуртех ты попал совсем недавно, после моего приезда в Казахстан.
— Это было сделано специально, чтобы мы с Шынар могли видеться ежедневно, ведь после её знакомства с Вайнбергом мы могли только переписываться. Я намеренно втерся в доверие Ларри.
— Значит, тогда в аэропорту…
— Да, это не было случайностью. Я расположил свою машину так, чтобы вы сели именно в моё такси. И я действительно занимался частным извозом до работы в Кремниевой степи.
— Понятно. Это ваше, конечно, дело. Я рад за вас. Но хочу предупредить, что начинаю собственное расследование убийств в Нуртехе и в Урхране. Полиция подозревает моего лучшего друга, так что для меня это дело чести. Мне очень хотелось бы, чтобы никто из вас не был замешан…
— Все в порядке, господин Кортес, — сказала Шынар. — Мы тут ни при чем. После смерти Андрея нам уже ничего не нужно скрывать, и уже это одно обстоятельство делает нас с Акжаном счастливыми.
— Пусть у вас все будет хорошо, — искренне сказал Габриэль. — Я обязательно приду на церемонию открытия вашего музея, Шынар.
Попрощавшись с Шынар и назначив Акжану встречу в Нуртехе (Акжан заверил, что поможет Габриэлю докопаться до правды), Кортес вышел на улицу. Шел проливной осенний дождь, холодный и дискретный, как само время. Дождь и время. Кортесу почему-то пришла мысль о том, что это весьма красивое сочетание слов. Дождь и время. Все мы рано или поздно умрем, а дождь и время будут всегда. Вода и зыбучие пески времени пребудут вовеки, смывая и стирая в атомы вечность. Дождь и время. Они были с Моисеем в сорокалетнем походе, провожали Цезаря на Мартовские иды, обрекли Наполеона на поражение при Ватерлоо, сподвигли Пушкина написать свои лучшие произведения в плодотворный период Болдинской осени. Дождь и время неподвластны силе, что смела сотни земных государств и миллиарды планет в галактиках. Дождь как средоточие вселенской грусти и четырехмерное время-пространство как незыблемый континуум, вот истинные хозяева бытия. Мы же очередные смертные и оттого временные наблюдатели, слушающие извечную тишину дождя и внимающие быстрому бегу времени. Время — лучший доктор, говорят люди, глубоко ошибаясь при этом. Истинный целитель — дождь. Именно он помог Кортесу излечиться от безответной любви. Подумав об этом, Габриэль потрогал сердце. Холодно и пусто. Ведь там больше не живет любовь. А может быть, холодно от дождя? Посмотрев на вмиг проясневшее небо, Кортес снял плащ, постелил его на скамейку, осторожно сел поверх плаща, достал блокнот и записал родившиеся в душе строки.
Верю, что там, где никто не солжет,
И не ограбит, прельстившись деньгами,
Кто-то за чаем тихонечко ждет,
Помня о нас за своими делами.
Верю я в дружбу, что крепче мечей,
В мирное небо хорошего цвета,
Верю, что нет на Земле мелочей,
Есть только день за коротким рассветом.
Верю, что там, где любовь и покой,
Кто-то играет на лире сонаты,
Льются слова за словами рекой,
Прозу сплавляя в поэзии злато.
Сочинение стихов было прервано звонком Давенпорта, который, будто чувствуя, что Кортес хочет с ним встретиться, предложил ему позавтракать вместе в девять утра.
На следующий день Габриэль встретился с Давенпортом в одном из столичных ресторанов.
— Это единственный ресторан в городе, где мне разрешают готовить самому. Полюбуйтесь моим новым блюдом, — сказал Давенпорт, указывая на тарелки с собственноручно приготовленной пищей. Он и Кортес сидели за столом и ждали чай, о котором официант почему-то забыл. — Рыба, начиненная кашей. Это казачий рецепт. В Нур-Султане много казаков, с некоторыми я уже успел пообщаться. Вот я и решил приготовить одно из традиционных казачьих блюд. Секрет приготовления очень прост. Рыбу вначале чистят и потрошат, отделяют икру и смешивают её с рисом. Тушку рыбы необходимо выдержать в белом вине, непременно в белом. Я начинил её икрой с кашей, уложил в глубокую сковороду, залил подсолнечным маслом, обжаренным луком и бульоном из мелкой рыбы и потушил. Попробуйте, пальчики оближете.
— Нет, спасибо, инспектор. Я пришел поговорить по поводу Ларри. На него страшно смотреть, так он изменился в последнее время. Вы будете говорить, что я заинтересованное лицо, это действительно так, но Ларри… Поверьте, Ларри — кристально чистый человек. Он и мухи не обидит.
— Я не буду говорить, что вы заинтересованное лицо. Вчера я был склонен обвинять Ларри, но сегодня, внимательно изучив улики, убежден, что Гранта подставили. Причем понятно, почему. Кто-то не хочет, чтобы мир взял на вооружение разработку группы ученых в Урхране, работавших на Гранта. Кому-то очень сильному и могущественному выгодно, чтобы ядерное оружие и атомные электростанции и далее продолжали существовать на нашей планете.
— Кто это может быть?
— На самом деле кто угодно. Россия, Штаты, Иран, Северная Корея. Ларри шел против системы, когда вел на первый взгляд невинные речи об острой необходимости научиться жить без атомного пугала. Для вас, думаю, не секрет, что на Земле есть множество организаций, кровно заинтересованных в сохранении и даже расширении сферы применения ядерной энергетики.
— Не секрет. Но я хотел поговорить о другом. Есть ли какие-нибудь, пусть и косвенные, но все же доказательства непричастности Ларри к убийствам?
— Пожалуй, есть. Я несколько раз посетил здание, в котором располагается Урхран. Судя по записям в журнале пропусков и данным камер видеонаблюдения, Ларри никогда не посещал лабораторию, где Спенсер проводил генетические опыты. Как человек несведущий в генетике, ваш друг довольствовался беседами с коллегами и не вмешивался в ход работы. Он не смог бы изменить геном бактерий, так как даже не знал, как работать с оборудованием. Он ведь исключительно ядерщик и астрофизик. Я был сегодня на встрече с казахстанской стороной расследования. В Комитете Национальной Безопасности считают, что мои вчерашние действия были поспешными. По поводу убийств Семецкого и Вайнберга то же самое. Ларри всегда был рядом с местом преступления, но на телах убитых нет его следов. Скорее всего, он невиновен. Держа в голове гипотезу о причастности к делу спецслужб ядерных держав, я все ещё не исключаю свою основную версию: убийца — гениальный математик.
После трапезы Давенпорт предложил Габриэлю прогуляться по правому берегу. Осень победоносно шествовала по городу, покрывая бренным золотом деревья, пугая людей ранними дождями и темными тучами.
— Меня очень беспокоит это дело, — сказал Давенпорт, напряженно глядя на опавшие листья, которыми был украшен асфальт. — На кону моя репутация. Вы не поверите, я раскрыл сотни дел, причем хладнокровно и быстро, а здесь выгляжу как школьник. Перед тем, как начать карьеру, я перечитал огромное количество детективных романов, сформировавших мое мышление, ставших для меня лучшими учебниками психологии. Вот вы какого литературного сыщика предпочитаете?
— Не могу не вспомнить родоначальника всех литературных сыщиков Огюста Дюпена, — ответил Габриэль.
— Дюпен мне тоже нравятся, хоть ему и посвящены всего лишь три новеллы. В первом рассказе он использует индукцию, которую потом позаимствует Холмс, почему-то назвав её дедукцией, во втором рассказе — психологический метод, позже ставший визитной карточкой Пуаро. Помните, как Дюпен угадал убийцу в человеке, часто посылавшем гневные письма в редакцию? В третьем рассказе применяется метод представления себя на месте преступника, которым в произведениях Честертона воспользуется отец Браун. Интересен также момент, когда Дюпен угадывает мысли собеседника, делая это при помощи цепочки умозаключений. А ещё какие сыщики вам нравятся?
— Конечно же, Шерлок Холмс! — воскликнул Габриэль, подчеркивая своей интонацией, что говорит об очевидной истине. — Он изобрел дедукцию, особый метод в расследовании, с помощью которого с легкостью определяет характер, род занятий, да и вообще всю подноготную человека по деталям одежды, походке и внешности. Ему даже не надо опрашивать подозреваемых: чаще всего он знает, кто преступник, через две минуты после знакомства со свидетелями преступления. Холмс называет это делом на одну трубку. У меня почему-то вертится на языке чье-то стихотворение о Холмсе и его друге Ватсоне:
Трость в руках его и лупа.
От него скрываться глупо.
Он уже идет по следу.
Друг он Ватсону — соседу.
Знает химию — науку.
Презирает лень и скуку.
— Да, я тоже люблю Шерлока, — поддержал собеседника Давенпорт, — особенно в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Импульсивный, гениальный, эгоистичный. Таким я его себе и представлял, когда читал Артура Конан Дойла.
— Я, живя здесь, в Казахстане, посмотрел советский сериал, где Холмса играет Василий Ливанов. Там он уравновешенный, по-настоящему умный и, главное, добрый. Такой Шерлок мне нравится больше. Посмотрите, не пожалеете.
— Непременно посмотрю. Хочу заметить, что дедукцией, о которой вы упомянули, Шерлок никогда не пользовался.
— Как не пользовался? — удивился Габриэль.
— Смею заверить, не пользовался. Она ведь ему была не нужна. Вы философ, поэтому должны были знать. Что такое, по-вашему, дедукция?
— Метод мышления, в котором частное заключение выводится из общего.
— Верно. Так где же в рассказах и романах о Шерлоке вы увидели дедукцию? Там всюду индукция, суждение от частного к общему, а не как в дедукции, от общего к частному. От частного к общему, повторяю ещё раз. Пример? Пожалуйста. В рассказе «Знак четырех» Холмс определяет, что Ватсон был на почте на Уигмор-стрит в Вестминстерском Сити, по грязи на ботинках, чей красный цвет как раз-таки характерен для глины в той местности, где находится выше названная улица. Что это, как не движение мысли от частного к общему? Шерлок взял «частное», в данном случае, глину на подошвах ботинок Ватсона, и двинулся к «общему», а именно к выводу, что ботинки были испачканы рядом с почтой.
— Тогда почему Дойл, врач по профессии, человек, который в Эдинбургском университете просто обязан был изучать логику наряду с другими предметами, допустил такую ошибку? — спросил Кортес.
— Дойл, при всей его фантазии, не любил работать над собственным литературным стилем, часто писал откровенно слабые вещи, его произведения изобилуют фактическими ошибками и несуразностями. Очевидно, это была оговорка, опечатка, на которую Дойл не обратил внимания. Кто знает?
— Слово «дедукция» в книгах о Холмсе употребляется слишком часто, чтобы быть опечаткой, — констатировал сей непреложный факт Кортес.
— Согласен. Есть другое объяснение, только что пришедшее мне в голову. Холмс мог использовать в своих размышлениях, которые он часто озвучивал в беседах с Ватсоном, оба метода, но Дойл в тексте забывал упомянуть слово «индукция» и в спешке — надо было срочно сдавать рукопись редактору, — называл её дедукцией. Реальную дедукцию, метод, ведущий от общего к частному, можно увидеть в том же рассказе «Знак четырех», но в другом месте. По часам, которыми после брата владеет Ватсон, он определяет, что часы носил неаккуратный человек. В качестве основы суждения Шерлок использует общее правило — аккуратные люди не царапают часы, которые стоят очень дорого. Он отталкивается от этого общего правила и делает частный вывод — брат Ватсона не отличался аккуратностью.
— Безумно интересно, мсье Давенпорт. Я читал Дойла, но не обращал внимания на такие нюансы. Значит, Шерлок все-таки использовал оба метода. А что вы скажете о методе Пуаро? В чем он заключается? Агата Кристи никогда не объясняла, как Эркюль приходит к тем или иным выводам.
— Вы невнимательно читали Агату Кристи, мистер Кортес. Пуаро использует психологический метод, то есть не пользуется в своих размышлениях, транслируемых перед Гастингсом или доктором Шепардом, ни дедукцией, ни индукцией. Как он сам говорит о себе, для него превыше всего — понять психологию преступника. Для Пуаро важное значение имеют реплики и личные мнения свидетелей преступления, потому что они могут выдать их. Пуаро знает, что преступники зачастую выглядят как честные, благовоспитанные люди, не способные на убийство, что они носят маску, снять которую может случайная фраза или действие, коих не могло быть у действительно непричастного к преступлению человека. В романе «Убийство Роджера Экройда» Пуаро обращает внимание на несоответствие времени — Шепард тратит, по его словам, десять минут на поход от дома до сторожки, хотя при холодной погоде должен был потратить пять. Таким образом, случайно брошенной фразой, обеспечившей ему алиби, Шепард себя и выдал.
— Не помню этот роман, следует перечитать. Кажется, там ещё что-то было, то, что навело Пуаро на подозрение, кроме несоответствия времени словам Шепарда. Психологический метод, говорите? Интересно. Во времена Агаты Кристи люди увлекались психоанализом, поэтому понятно, почему она наделяет Пуаро психологическим методом вместо устаревших к тому моменту дедукции и индукции. А что скажете по поводу метода Коломбо?
— Интересный персонаж. Я часто подражаю ему. Коломбо делает вывод на основе нескольких косвенных улик, которые он находит, анализируя ситуацию. Допустим, преступник, выдающий себя за простого свидетеля, не мог видеть или знать то, о чем он говорит. Коломбо присматривается к этому свидетелю, усыпляет его бдительность своим нелепым видом, живо интересуется его мнением о преступлении, в то время как убийца сам указывает на себя, откровенно пытаясь обмануть Коломбо и выдвигая совершенно глупые версии. Постепенно, находя все новые и новые улики, Коломбо незаметно затягивает петлю на шее злодея, предъявляя ему в конце все улики разом или какую-то одну, но очень весомую. Этим он очень похож на персонажа Достоевского, Порфирия Ивановича.
— Порфирия Петровича, — поправил Давенпорта Кортес.
— Порфирия Петровича, пардон. Запамятовал, — сказал, слегка покраснев, Давенпорт.
— А разве Коломбо не применяет психологический метод, которым пользуется Пуаро? — спросил Кортес.
— Нет, не применяет. Он вообще не может терпеть психоанализ, служивший для Эркюля основным методом расследования. Здесь скорее метод тривиальных вопросов. Коломбо повторяет перед свидетелями одни и те же, казалось бы, тривиальные, повторяющиеся, вопросы, которые сбивают по-настоящему замешанного в преступлении человека, вынуждают его сказать то, о чем он мог знать лишь в том случае, если сам является преступником.
— Здорово! У каждого гениального сыщика свой собственный метод. Позвольте спросить. Как человек, любящий детективы, вы должны знать: были ли счастливы эти сыщики, и в чем для них состояло счастье?
— Это у вас, верно, хобби такое, у всех дознаваться, что такое счастье? Не пытайтесь понять, откуда мне это стало известно. У меня, как я уже говорил, свои методы. Я отвечу на ваш вопрос. Счастье Эркюля, Шерлока и безымянного Коломбо — в раскрытии преступлений. И я с ними солидарен. Это и мое счастье. Раскрывая очередное убийство, мы понимаем, что благодаря нам на земле стало меньше несправедливости, а это обстоятельство не может не радовать. И когда найдется истинный убийца Спенсера, Семецкого и Вайнберга, я буду считать, что заслужил право быть ещё счастливее.
На этом беседа была закончена. Давенпорт обещал приложить усилия, чтобы вывести преступника на чистую воду, и Кортес, озадаченный разговорами о детективном жанре, отправился в библиотеку, чтобы прочитать «Убийство Роджера Экройда». У него было ровно тридцать минут, поскольку именно в конце этого интервала Кортес должен был встретиться с Акжаном Абеновым.
***
«Сегодня в полдень пущена ракета.
Она летит куда скорее света
И долетит до цели в семь утра
Вчера…»
Ларри усмехнулся, вспомнив детский стишок, иллюстрирующий невежество или неудачную шутку автора. Потрогав вертикальные прутья решетки — на ощупь твердые, не стоит даже пытаться согнуть их, — Грант прошелся по одиночной камере и лег на кровать.
Вспомним второй постулат специальной теории относительности, сказал себе Ларри. Свет распространяется в вакууме с определенной скоростью в двести девяносто девять миллионов семьсот девяносто две тысячи четыреста пятьдесят восемь метров в секунду, не зависящей от скорости источника или скорости наблюдателя. То есть ничто не может двигаться быстрее света. Это предельная скорость движения частиц. С этой точки зрения детский стишок о ракете, летящей из настоящего в прошлое, лишен смысла. Такое путешествие нарушало бы принцип причинности.
Ларри открыл старую тетрадь, испещренную чернилами, и принялся вписывать в чистые страницы новые формулы. Старая тетрадь, в которой уже записано большинство нужных формул и теоретических выкладок. Пять формул из листка студента Джона, которые стали основой для каркаса расчетов. Имея у себя в голове одни лишь эти формулы, можно создать фундамент Теории Всего. Благо времени у Ларри предостаточно.
Итак, физики различают четыре фундаментальных взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, слабое и сильное. В двадцатых годах двадцатого века Эйнштейн сделал попытку объединить гравитацию и электромагнетизм, ничего не зная о ещё двух видах. В тысяча девятьсот тридцать третьем году итальянский физик Энрико Ферми открыл слабое взаимодействие (короткодействующее фундаментальное взаимодействие между элементарными частицами, ответственное за бета-распад атомных ядер и медленные распады частиц). В тысяча девятьсот тридцать пятом году японский физик-теоретик Хидэки Юкава открыл и описал сильное взаимодействие (оно удерживает протоны в ядре, не позволяя им разлетаться под действием электростатического отталкивания, его испытывают только протоны и нейтроны; данное взаимодействие не ощущается за пределами ядра атома). С тех пор физики заговорили об объединении не только двух, но и четырех взаимодействий.
Электромагнитное и слабое взаимодействие уже объединены, в рамках теории калибровочных полей; сделали это в семидесятых годах двадцатого века, независимо друг от друга, американец Стивен Вайнберг, однофамилец незабвенного Андрея, и пакистанец Абдус Салам, физики, создавшие на базе этого объединения теорию электрослабого взаимодействия. Они показали, что при очень высоких энергиях, которые в последний раз проявили себя в первую триллионную долю секунды образования вселенной, электромагнитные силы и слабые ядерные силы соединились вместе и образовали электрослабое взаимодействие. Теперь можно было говорить о трех взаимодействиях: электрослабом, сильном и гравитационном. Ларри задался целью объединить их.
Сегодня в научном мире существуют два разных набора уравнений для теории относительности, рассматривающей гравитацию в искривленном пространстве-времени, и для квантовой механики, описывающей электромагнитное, сильное и слабое взаимодействие. Ученые умы давно и безуспешно бьются над обоснованием квантовой гравитации, факт существования которой позволит наконец-то объединить Теорию Относительности и квантовую механику. Все ждут момента, когда в руках человечества появится единый набор уравнений, способный, как любит говорить приятель Гранта физик-теоретик Макс Тегмарк, уместиться на футболке. Но существует множество принципиальных отличий этих двух теорий, которые не позволяют объединить их.
Ларри представил себе знакомый со студенческой поры эксперимент. Луч с электронами проходит сквозь экран с двумя узкими прорезями. Ввиду квантовой неопределённости, а это главный принцип, на котором строится квантовая механика (принцип неопределенности Гейзенберга), не существует способа определить конкретную прорезь, через которую пролетает фотон. Он в буквальном смысле проходит через обе щели одновременно, по всем канонам копенгагенской интерпретации Бора, которая гласит, что вселенная — набор вероятностей. Явление это довольно странное, но в контексте гравитации в теории относительности, где мир как раз-таки детерминирован в соответствии с принципом причинности, оно становится абсолютно непонятным. Если фотон проходит в одно отверстие, он, по логике теории относительности, должен создавать слегка иное гравитационное поле, чем, если бы прошел через другое.
Уже один этот эксперимент говорит о том, что теория относительности и квантовая механика — два иностранца, вещающие на разных языках и даже мыслящие в диаметрально противоположных плоскостях.
Если Теория Всего все же возможна, подумал Ларри, если четыре взаимодействия получится объединить, то что это даст миру? Как такое открытие изменит человечество? Если бы это случилось, то люди обрели бы власть над природой, смогли бы менять структуру пространства-времени; были бы в состоянии по своему желанию создавать или превращать друг в друга частицы, генерируя новые экзотические формы материи; по мнению авторитетного физика-теоретика Пола Дэвиса, мы даже смогли бы манипулировать размерностью самого пространства, создавая причудливые искусственные миры с немыслимыми свойствами. Человечество стало бы властелином Вселенной! Но для объединения четырех взаимодействий на практике нам нужно количество энергии, которое примерно в квадриллион раз больше той, что возникает при столкновении частиц внутри Большого адронного коллайдера в Женеве. Такой энергией мы не располагаем, но очертить контуры будущей Теории Всего все же можем.
Ларри рассмотрел всех возможных кандидатов на роль Теории Всего. Исключительно Простая Теория Всего Гаррета Лиси, теория струн, петлевая квантовая гравитация, теория Калуцы-Клейна, М-теория и гипотеза математической вселенной Макса Тегмарка. Все эти теории, мягко говоря, нестрого определяют свойства наблюдаемой Вселенной и зачастую допускают существование вселенных с каким угодно числом пространственных измерений. Впрочем, среди них есть элегантные теории, которые, тем не менее, содержат в себе множество противоречий.
Внезапно Ларри нащупал то, что искал так долго. Теория Всего всегда была рядом с ним, просто он не понимал этого; ответ постоянно лежал на поверхности. Все они — Лиси, Калуца, Клейн, автор теории струн Габриэле Венециано, родоначальник петлевой квантовой гравитации Ли Смолин, отец М-теории Эдвард Виттен, автор гипотезы математической вселенной Макс Тегмарк — все они были почти правы, нужно было только взять лучшее из их вариантов Теории Всего, довести работу до логического завершения. Теория Всего оказалась простым ответом на самые сложные вопросы бытия, панацеей от извечной головной боли адептов точных наук.
Точка в многовековой истории физики, математики и философии была поставлена окончательно и бесповоротно. Вопросов больше не осталось. Наука дошла до своих пределов.
И тут Ларри испугался. Теория Всего делает нас всемогущими. Но могущество требует ответственности и рациональности. Готов ли человек к овладению всеми гранями Вселенной, если в моральном плане он все ещё сидит в пещере и высекает искру с помощью камня? Технически он и сейчас силен, но чем в итоге обернулась такая цивилизованность? Земля до сих пор помнит зарево Хиросимы. Мы преуспели в войне с подобными нам, но не научились делать хоть что-то для мира.
Да, человеческому гению надо отдать должное. Взять того же «Виртувианского человека» Леонардо да Винчи. Две обнаженные человеческие фигуры с разведенными в стороны руками и ногами в разных позициях наложены одна на другую. Обе они вписаны в квадрат, заключенный в круге. Соблюдены все математические пропорции человеческого тела. Так художник и изобретатель хотел показать внутреннюю симметрию, а значит и гармонию, человеческого тела и вселенной, чей образ зашифрован в квадрате, наложенном на круг. В бесконечных рядах беспрестанно сменяющих друг друга поколений то и дело рождаются люди, подобные Леонардо да Винчи, люди, открывающие новое, скрещивающие науку и искусство, приближающие человечество к заветной ступени развития, когда ни о каком явлении нельзя будет сказать: «Это не подвластно человеческой воле».
Мы сами своими действиями и мыслями рождаем зло, так что не следует обвинять в этом дьявола или рок. Часто из добрых побуждений человек выпускает на свободу Левиафана. Спасением от ужасов человеческого произвола является та же вечно доминирующая воля. Воля способна разрушать государства, перемалывать миллионы жизней, она же может победить тиранию и воздвигнуть на месте полей сражений, обращенных в пустыни, райские сады. Ларри вспомнил фильм две тысячи двенадцатого года «Влюбленные» режиссера Гленио Бондера. По сюжету два влюбленных человека в преддверии войны понимают, что их отношения обречены. Ужас перед неотвратимостью вселенской беды застыл в их глазах. Они задают вопросы, на которые никто не может дать исчерпывающие ответы. В одной из сцен звучит фрагмент музыкальной пьесы «Вопрос, оставшийся без ответа». Неспешные мрачные мелодии только подчеркивают безысходность человеческого существования. Человечество похоже на героев этого фильма тем, что продолжает задать вопросы, сопровождаемые молчанием.
Создавая смертоносное оружие, насилуя природу, разрушая экологический фон планеты, мы воздвигаем перед собой архитектурный ансамбль вопросов, которые так и останутся без ответов. Очень скоро некому будет ответить, некому будет решить насущные проблемы человечества. Может статься, что лимит, отведенный на диалог человечества с силами природы, уже исчерпан. По воле человека высыхали реки, озера и моря, таяли ледники, облака радиоактивной пыли отравляли атмосферу, стирались с лица земли популяции животных. Это навело ученых на мысль, что мы живем в период шестого вымирания. Теория Всего вполне может стать последним аккордом пьесы, разыгрываемой человечеством.
«Мы не готовы, — подумал Ларри. — Создав Теорию Всего, я открыл ещё один ящик Пандоры. Лучше мне не показывать его человечеству».
Ларри закрыл тетрадь и положил её под кровать. Когда его выпустят из тюрьмы, он спрячет тетрадь. Или сожжет её. Потому что люди никогда не изменятся.
Готовясь убрать тетрадь, Ларри неожиданно для себя вновь открыл её и обратил внимание на то, что последнее уравнение выведено некорректно.
Вроде бы все постоянные и переменные на своем месте. Поскольку вселенная, скорее всего, представляет возмущение всегда существующей математически красивой структуры, то гипотеза о Создателе отпадает сама собой, ведь в противном случае автор нашего мира живет в другой вселенной со своими физическими законами, а та — в третьей и прочее, и прочее до бесконечности. Логичнее выглядит теория, в которой мультиверс существует вечно, а движение в нем, в том числе и течение времени, — не более чем иллюзия. Миром безусловно правит симметрия, и лишь один из физических параметров настолько идеально отождествляется с ней, что при учете его в уравнениях Теории Всего все встает на свои места. Конечно же, это закон сохранения энергии. Теорема Эмми Нетер гласит, что импульс соответствует пространственной симметрии, угловой момент — вращательной симметрии, заряд — калибровочной симметрии. Импульс, угловой момент и заряд — частные случаи закона сохранения энергии. Так что всем физическим параметрам можно найти соответствие в математике.
Стивен Хокинг, с которым Ларри имел честь беседовать, как-то обмолвился, что хотел бы знать, что вдыхает жизнь в уравнения, объясняющие устройство вселенной. Возможно, из всех ученых, попытавшихся объяснить природу мира, в котором мы живем, прав оказался лишь Макс Тегмарк, сказавший, что уравнения не просто объясняют вселенную, они и составляют её истинную суть.
Физической реальности присуща симметрия, потому что только она и лежит в основе мироздания. Забудь, сказал себе Ларри, что мы из склеены из молекул, состоящих из атомов, содержащих в себе протоны и нейтроны, делящиеся на кварки, повисшие на квантовых струнах пространства-времени. Забудь об этом и ты увидишь, что в физической реальности нет ничего, кроме симметрии, геометрических объектов, числа Фибоначчи и числа Пи. Точнее, все выглядело бы именно так, если бы в распоряжении Ларри находилось последнее уравнение, объясняющее, что отвечает за гармонию и ритм в анатомии мультивселенной. Но последнее уравнение упорно не желало появляться в лабиринтах сознания Ларри.
VI. Смерть ещё ни о ком не забыла
Я считаю, что какой-то
высший смысл существует и
во вселенной, и в
человеческой жизни тоже.
Андрей Сахаров
Брана соединялась с балком посредством пятого измерения. Внутри пятого измерения можно спрятать все, что угодно, от маленьких идей до очень сложных концептов. Но все же с эйдосами нужно быть поосторожнее. Нонгорману не представляло никакого труда «заглянуть» в соседнюю вселенную и передать новые прогрессивные идеи инженерам Ликоса. Со стороны могло показаться странным, что представитель высшей цивилизации подсматривает открытие у низшей цивилизации. Но в этом не было ничего удивительного, ведь и земной человек подглядел у братьев своих меньших технологии, которые помогли ему перестроить свой мир: принцип эхолокации он позаимствовал у летучих мышей, систему самоохлаждения подглядел в раковине улитки, летные качества вертолета — у стрекоз.
***
— Эта квантовая симуляция реконструирует три картины преступления, — Акжан Абенов ткнул пальцем в экран классического компьютера с программой-эмулятором, соединенного с квантовым процессором. — Вот смерть Спенсера. Вот гибель Семецкого. Мы с вами присутствовали в этом кабинете, когда произошло отравление Юрия цианидом. Узнаете себя? А это лежащий на апельсинах Вайнберг.
— Странно, но я вижу только силуэты, — ответил Габриэль Кортес, тщетно пытавшийся разглядеть в цепи непонятных ему квантовых вычислений логику, присущую классической механике.
— У вас в руках «Десять негритят» Агаты Кристи. Не думал, что человек, натренированный в чтении детективов, не сможет увидеть все многообразие красок саспенса, скрытого внутри квантовой симуляции.
— Я не читал детективы тысячу лет. Кстати, вы показали мсье Давенпорту эти реконструкции?
— Я ему ничего не показывал. Это ведь моя собственная инициатива. Я съездил в Усть-Каменогорск на выходных, сфотографировал кабинет Спенсера в лаборатории Урхрана, а сегодня утром сделал то же самое здесь и в доме Вайнберга.
— Там же все опечатано.
— Я — сотрудник секретного отдела Нуртеха. Меня легко пускали на место преступления, потому что я объяснил, что создаю квантовую симуляцию событий, чтобы помочь следствию. Все подумали, что это новый метод расследования.
— А как Вам удалось создать реконструкции смертей? Или убийств, как вам угодно.
— Это все алгоритм Шора. Он позволяет воспроизводить положение частиц в определенный момент времени.
— В любой момент времени? Следовательно, благодаря ему можно воспроизвести события из моей жизни или из вашей? Или из жизни Шынар? Кстати, Шынар знает, что вы проявляете интерес к этой серии убийств?
— Ей незачем знать. Я, как и вы, хочу спасти Ларри. А для этого все средства хороши. Давенпорт действует по старинке, посредством дедукции, я же использую квантовую механику и моделирование отдельных аспектов физической реальности.
Внезапно Акжан привстал и поглядел в глаза Габриэля. На минуту Кортесу показалось, что Акжан держит за пазухой нож или пистолет. Он пожалел, что нагрубил священнику в той церкви. Отблески веры рождаются в людских душах при наступлении беды.
— Вы все ещё думаете, что это убийства? — спросил Акжан.
Безобидный вопрос коллеги рассеял призрачные сомнения Кортеса. Акжан замешан во всем этом.
— А разве нет?
Акжан отошел в сторону, прошелся по комнате и сел напротив Габриэля. Все-таки было что-то хитрое и зловещее во внешности Акжана. Его личная заинтересованность в пребывании рядом с Вайнбергом, якобы для того, чтобы быть ближе к Шынар, наводила на подозрения.
— Разве вы ничего не видели? — спросил Акжан. — Все это очень похоже на несчастные случаи. Как умер Спенсер? Бактерии, которые обычно поедают уран, убили своего создателя. Почему-то никто не подумал о том, что необязательно перепрограммировать бактерии, они могут сделать это сами. Да, да, вы не ослышались, они могли изменить способ питания, поскольку биокомпьютеры имеют навыки автопрограммирования. Бактерия ведь такой же биокомпьютер, как и мы с вами. А чем отличается биокомпьютер от обычного компьютера? Правильно, свободой воли или тем, что таковым кажется. Это же тема вашего грядущего симпозиума.
— Ну, хорошо. Допустим, бактерии взбунтовались. А как же быть с цианидом? Мы оба видели, что Семецкий был убит.
— Не смешите меня, господин Кортес. Это же очевидно. Семецкий просто-напросто перепутал емкости, сахар — с цианидом. Миром правят случайности. Вы смотрели «Господин Никто»?
— Это один из моих любимых фильмов.
— Помните, как Немо в одном из вариантов своей жизни всегда подбрасывал монетку, прежде чем что-то сделать? Это, кстати, сыграло с ним злую шутку. В том же варианте он женится на первой встречной, на той, которую выбрал случай, и потом годами несчастлив в браке. Фильм ясно говорит о том, что случай и есть то, что мы называем судьбой, — сказав это, Акжан сделал небольшую паузу. — Господин Кортес, я внимательно слежу за вашей работой над обоснованием навигатора времени. И вот что я хочу вам сказать. Если мы живем в мире вероятностей, где костяшки — жизненные ситуации, то мы имеем дело не с призрачной свободой воли (какая может быть свобода в цепи случайностей?), а ни много ни мало с детерминизмом случая. Да, это звучит парадоксально, заранее принимаю ваши возможные контраргументы. Но если вы отвлечетесь от симулякров, которыми сами себя окружили, от ваших философских категорий и концепций, пристально взглянете в самую суть вещей, то вы, господин Кортес, явственно увидите, что жизнь каждого из нас вероятностна, по меньшей мере, на этом уровне физической реальности. Решения, которые мы принимаем, корректируются случаем. Это та же игра в кости, где, как я уже сказал, в роли костяшек выступают жизненные ситуации. Жизнь вряд ли представляет собой такую детерминированную игру, как шахматы. Это совсем не шахматы. Вы не можете выстроить в голове умозрительным путем комбинации или ряд предполагаемых ситуаций, и выбрать самую благоприятную из них, поскольку случай — это непредсказуемый игрок за противоположной стороной доски, который всегда пойдет так, как вы и предположить не могли. Вы все ещё верите в свободу воли?
— Я тот, кто всегда сомневается, — ответил, поморщившись, Кортес. У него со вчерашнего дня болела голова, а внутри подсознания таилось смутное предчувствие. — Мой отец был непоколебимым детерминистом, большим фанатом теории кондратьевских волн. Он считал, что все события в мировой истории можно спрогнозировать. На мои возражения и доводы, сводящиеся к тому, что каким бы умным ни был оракул от науки, какие бы мощные суперкомпьютеры ни находились в его распоряжении, неожиданно появляющиеся на горизонте «черные лебеди» разрушат шаткие стены любых катренов, сооружаемых светлыми головами кассандр, — на все мои доводы отец всегда находил один и тот же ответ. Я помню бесконечные листы с чертежами на его столах, маниакальную работоспособность отца, перемежавшуюся с алкоголизмом, вполне сочетавшимся, по крайней мере, в его мозгу, с детерминизмом. Пить или не пить? Конечно же, пить, сказал бы мой отец, ведь это состояние предопределено. Вы в курсе, что мой друг Ларри Грант — скрытый детерминист? Он не хотел расстраивать Вайнберга, потому и работал над абсолютно недетерминистским, чуждым его духу, проектом. Верю ли я в свободу воли? Я убежден, что никакой свободы воли нет. Квантовый мир однозначно вероятностный, там все происходит по воле случая, определенно исключающего свободу выбора, как и наш с вами макромир. В нашей с вами реальности, вне всякого сомнения, детерминирован разве что бутерброд, у которого всегда один и тот же вариант развития событий — он обречен падать маслом вниз в любой вселенной. В процедуре остракизма, голосовании черепками за изгнание или помилование политического деятеля в Афинах, был момент, который при изучении древней истории окончательно разуверил меня в существовании демократии: последний голосующий всегда был лишен свободы выбора. Её априори не существует в нашем мире. По крайней мере, пока не существует. Для меня свобода воли — возможность выбирать из n-ного количества вариантов исхода той или иной ситуации самый благоприятный. Поскольку при нашем уровне развития никто из нас не может этого делать, следует признать, что мы заложники в цепи вероятностей.
— Вы прямо как антигерой из «Записок из подполья», — усмехнулся Акжан. — Наверняка ведь читали их? Если найдут формулу всех наших капризов, от чего они зависят, от каких законов происходят, тогда человек перестанет хотеть, обратится в органный штифтик, коли будем считывать вероятности. Помните, герой сокрушался оттого, что он жизнь наперед на тридцать лет сможет рассчитать? Не скучное ли это будет занятие? Интереснее все-таки жить без оглядки, хоть в прошлое, хоть в будущее. Знаете, я сын библиотекаря. В детстве мне очень не нравились моменты, когда в читальном зале, где я, бывало, заменял маму, школьники заглядывали в последнюю страницу ещё недочитанного произведения. Книга ведь становится неинтересной, если ты заранее узнал финал. Так же и здесь…
Разговор Акжана и Габриэля прервало появление Аккана. Молодой человек несмело постучал в дверь, прежде чем войти. Кортес заметил, что сегодня Аккан по-особенному опрятен и приветлив. Кортесу нравился жизнерадостный юноша с безумными проектами в голове.
— Кто к нам пришел?! — радостно воскликнул Акжан. — Вот перед вами самый ярый фаталист из всех фаталистов, которых я когда-либо встречал. Господин Кортес, вы знали, что Аккан — музыкант и поэт?
— Нет, не знал.
— Ну, что вы, друзья! — Аккан слегка покраснел. — Настоящий музыкант, а под ним я подразумеваю Бога или фатум, кому что ближе, вечен и недосягаем. Все наши судьбы — всего лишь струны на его инструменте.
— Судя по вашим словам, вы — настоящий детерминист, Аккан, — задумчиво констатировал Габриэль. — И как вы умудрились работать над проектом, подразумевающим в недалеком будущем создание навигатора времени, с подобными взглядами?
— Так ведь ваш друг Ларри Грант тоже сторонник детерминизма, а он нес этот проект на себе. Когда Вайнберг предложил ему эту идею, он согласился лишь с одной целью: эмпирическим путем проверить, правы ли те, кто считает, что все в мире предопределено. Вполне возможно, что никакой вероятности не существует и все объекты реальности, включая атомы, подчиняются не зависящим от нас закономерностям. Вот и свой арест он воспринял сообразно истинному фаталисту. Я был сегодня утром у Ларри. Он не сдается и продолжает работу над Теорией Всего.
— Похвально. Мы с господином Кортесом тоже не теряем время даром и применяем самые передовые технологии, чтобы вывести настоящего преступника на чистую воду. По поводу детерминизма и таинственных сил, будто играющих нами, хочу в биллионный раз сказать: увы, мой друг, — грустно вздохнул Акжан, — если бы все подчинялось закономерностям и прогнозированию, можно было бы создать устройство, аналогичное демону Лапласа, способное рассчитать скорость и положение любой частицы в каждый момент прошлого, настоящего и будущего. Увы, это невозможно. Разве каждый из вас не сталкивался с неумолимой силой всемогущего случая? Христофор Колумб искал западный путь в Индию, но случайно открыл новый континент. Галилео Галилей изучал медицину в университете и готовился стать врачом, но однажды перепутал кабинеты и случайно, подчеркиваю это слово, попал на лекцию математика Остилио Риччи, раз и навсегда определившую его дальнейшую деятельность. Поль Макинтош случайно разлил на свой халат каучуковый раствор и обнаружил, что испорченный участок ткани остался водонепроницаемым; это обстоятельство привело к изобретению макинтоша. Даже в сказках и легендах многие события происходят по мановению волшебной палочки случая. Вы, господин Кортес, может быть, не знакомы с казахской народной сказкой «Ер-Тостик». В ней катализатором развития сюжета служит случайная встреча нашего фольклорного супергероя Ер-Тостика с чижиком, приводящим его к старухе, которая открывает батыру сокрытую всеми тайну. Так что случайности решают все, и в реальности, и в вымышленных историях.
— Есть что-то выше всего этого, — мечтательно сказал Аккан. — Ни одно из великих научных открытий никогда не происходило по чистой случайности. Например, венгерский математик Пол Эрдеш говорил, что свои формулы он подсматривает в записной книжке Бога. Я встречал множество ученых, которые, как и наш шеф Ларри Грант, верят в то, что все было заранее предопределено при создании Вселенной, а значит, по их мнению, материя, из которой мы с вами состоим, является ни много ни мало страницами той самой записной книжки, таящей в себе чертежи Создателя. Вы слышали о математических константах?
— Господин Кортес знает их лучше тебя, — ответил за Габриэля Акжан. — Они с Ларри говорили о константах, когда я вез их из аэропорта. Хорошо помню этот момент. Пусть я тогда преследовал собственные цели, связанные с амурными делами, но ваша с Ларри беседа безоговорочно сделала меня вашим фанатом.
— Благодарю, Акжан, — сказал, неискренне улыбнувшись, Кортес. — Любовь движет всеми нашими действиями, и даже если мир жестко детерминирован, это благородное чувство сильнее ножниц мойр и цепей фатума. Да, я изучал константы в молодости.
— Мне было интересно, — объяснил Кортес, удивленный столь необычными поворотами диалога. Ему показалось странным, что разговор вдруг зашел о его увлечениях молодости. — Потом каждый из нас — я и Ларри — пошли своей дорогой. Грант занялся астрофизикой, а я — философией.
— Математика не чужда вам? — восхищенно спросил Аккан. — Вы только подумайте: весь мир, по сути, не что иное, как математически точная и идеально сконструированная реальность. Разве может быть случайностью наше сегодняшнее пребывание на хрупкой, вечно подвергающейся опасности, планетке? В две тысячи двадцатом году ученый Тоби Тирелл смоделировал компьютерную симуляцию, в которой сто тысяч похожих на Землю планет подвергались климатическим изменениям и периодическим бомбардировкам астероидами. Так вот, во всех вариантах симуляции лишь одна планета смогла пережить все катастрофы. Это один шанс на гуголплекс. Разве не чудесно, что именно наша Земля оказалась таким счастливчиком? Человечество до сих пор живо, несмотря на множество войн, эпидемий и стихийных бедствий. Это неминуемо приводит к мысли о необходимости и неотвратимости существования разумного наблюдателя, столь нужного Вселенной.
— Мысль интересная, — согласился Кортес. — Тонкая надстройка Вселенной заставляет задуматься о наличии глобального замысла. Но почему у нас во вселенной именно такие константы? Могли ли они быть другими?
— Нет. Однозначно, нет, — сказал, немного подумав, Аккан. — Математические и физические постоянные безапелляционно стандартны для любого варианта вселенной.
— Это казуистика, в сети которой вы только что попали, мой дорогой друг, — возразил Габриэль. — На самом деле все совсем не так. Вселенная кажется детерминированной, потому что в умах людей господствует иллюзия существования раз и навсегда заданного набора таких вот констант. Я многое прочел, пока работал над обоснованием навигатора времени. Вселенные, рождающиеся из материнских для них вселенных, могут иметь иные константы или те же, но с другими числовыми значениями. Например, число Пи приблизительно равно трем целым четырнадцати сотым, в других вселенных это значение может быть больше или меньше, соответственно, отношение длины окружности к диаметру будет несколько иным, а это допущение приведет к значительным отличиям физических законов в этих вселенных от законов в нашей с вами реальности.
— Но почему константы в других мирах могут принимать иные значения? С чем бы это могло быть связано? — спросил Аккан. — Я всегда думал, что это раз и навсегда определенный набор констант, отобранный фатумом в самом начале событий нашей истории.
Кортес не знал ответа на этот вопрос, поскольку недостаточно хорошо изучил нюансы теории, ведь он все ещё оставался человеком гуманитарного направления. К счастью, к нему на помощь поспел хорошо разбиравшийся в физике Акжан.
— Это связано с принципом минимума энергии, — сказал Акжан. — Ввиду того, что количество свободной энергии Гиббса в каждой вселенной ограничено, — причем из-за квантовых флуктуаций в период рождения вселенных это количество варьируется и может быть разным для каждого мира, — объему энергии приходится приспосабливаться к условиям вселенной, в которой он находится. Ему и соответствует определенная последовательность Фибоначчи, которая в каждом мире своя, или конкретное значение числа Пи. Для каждого отдельного мира сохраняется иллюзия детерминизма. Кажется, что миром правят константы, отсюда и делаются выводы о предопределении каждого события. На самом же деле одно и то же событие в каждой вселенной имеет свою развилку, обусловленную местными физическими законами и числовыми значениями констант.
— А я все же не соглашусь, — приготовился искусно парировать весомым аргументом Аккан. — Макромир детерминирован с очень высокой степенью вероятности, так как макроскопические объекты состоят из бесконечно большого количества частиц, и вероятностное поведение каждой частицы статистически уравновешивается, но это не исключает очень редких маловероятных событий, не имеющих особого влияния на вселенную. По сути, мир и предметы в макромире строго подчинены безраздельно господствующим закономерностям. Разве вы никогда не удивлялись необычайной вездесущности числа Фибоначчи в природе? Ноль, один, один, два, три, пять, восемь, тринадцать, двадцать один и так далее. Узрели закономерность в ряде названных чисел? Два соседних числа в сумме образуют следующее за ними, например, три и пять при сложении дают нам восемь. Спиральное строение Млечного пути, ДНК, раковины улитки и ушной раковины человека, расположение семян в цветке подсолнуха и в сосновой шишке, годичные кольца деревьев, траектория движения косяка рыб или движения вихревых потоков в ураганах. Все это — примеры того, как с удивительным и поистине мистическим постоянством прослеживается в природе закон золотого сечения, вытекающий из числовой последовательности Фибоначчи.
— Прочти нам, кстати, свое стихотворение о вселенском ритме, — попросил Акжан. — Помнишь, Аккан, ты читал мне его?
— Где читал? Ах да, помню! — спохватился Аккан и почему-то испуганно посмотрел по сторонам. — Это самое любимое мной из собственноручно написанных стихотворений.
В корешках изумительных книг
И в аккордах божественных блюзов
Притаился искомый родник
Из ритмичных мелодий и вкусов.
Кто-то создал весь мир для тебя,
Для меня, для родимых и ближних,
Чтобы жить в этом мире любя,
Осязая все то, что не слышно.
Эти ритмы в припевах битлов,
Эти слоги в есенинских виршах,
Нам бы надо лишь тысячу слов,
Чтобы быть и духовней, и выше.
Видишь тень на узорах веков
Шифров Бога для тех, кто не слышит,
Золотого сеченья и снов,
О которых никто не напишет?
Видишь свет за волшебной рекой,
Что течет только вспять и на ощупь?
Мы играем в пустынный покой,
В безмятежность в запруженной роще.
Погляди на росу в синеве,
И услышь соловья на рассвете,
Ритмы Бога у нас в рукаве,
Мы для них рождены в этом свете».
— Отличное стихотворение! — похвалил, поаплодировав, Кортес. — В вашем произведении видны недвусмысленные намеки на гармонию и смысловую связь элементов вселенной. Как тут не вспомнить Витрувианского человека и Джоконду, при изображении которых да Винчи одним из первых среди художников сознательно использовал золотое сечение в искусстве. Это, конечно, выглядит очень необычно и приводит к религиозному восторгу. Неслучайно эти и другие закономерности, например число Пи, которое, кстати, используют в моделях прогнозирования погоды, в свое время привели к объединению некоторых греческих математиков в мистическую секту пифагорейцев. Безусловно, вы, детерминисты, — Кортес адресовал свое «вы» Аккану, — или фаталисты, как вам удобнее, я не вижу принципиального различия между этими понятиями, хотя другие философы считают, что они не тождественны, — вы, сторонники предопределения, имеете неплохой козырь в виде математических закономерностей. Но не следует забывать, что и Акжану вкупе с его сотоварищами улыбнулась несказанная удача, ведь на их стороне солидная теория хаоса с заслуживающим большого внимания эффектом бабочки. Незначительные события могут сыграть важную роль в явлениях макроскопического масштаба. Бабочка, взмахивающая крыльями в Китае, вызывает шторм на Гавайях. Выстрел Гаврило Принципа привел к Первой Мировой войне, Октябрьскому перевороту и Гражданской войне в России. Можно привести массу подобных примеров, которые показывают, что система, в которой мы живем, хаотична.
— Не забывайте, господин Кортес, — возразил Аккан, — что хаос, как бы странно это ни звучало, в то же время являет собой порядок и закономерность. Случайное падение капель воды из протекающего крана легко подчиняется вычислениям и моделированию упорядоченной системы. Помните сериал «Числа»? Там брат сыщика, талантливый математик и любитель расследовать преступления, неоднократно убеждает зрителя в возможности расшифровать и подвергнуть анализу любые кажущиеся хаотичными процессы.
— Возможно. Я же не спорю с вами. Я нахожусь ровно посередине между собратьями Акжана и собратьями Аккана. Не странно ли, что в одном кабинете работают совершенно разные люди с похожими именами? И это при том, что у казахов распространено множество оригинальных имен на любой вкус. Не наблюдается ли в этом очередная закономерность и вселенский порядок? Или же это простая случайность? Если Создатель, сведя вместе людей с похожими именами, хотел таким образом привести нас сегодня к мысли о детерминированности мира, не следует ли нам с вами единогласно признать фракталы Мандельброта, число Фибоначчи, число Пи и прочие известные лишь специалистам вещи знаками Высшего Замысла? Вот вы, Акжан, утверждаете, что все убийства, связанные с Ларри, не что иное, как случайные смерти, и даже привели доказательство вашей гипотезы в виде компьютерных симуляций. Мсье Давенпорт убеждал меня и Ларри в существовании закономерностей в этих убийствах, и вы, Аккан, легко согласились бы с ним. Если это так, не следует ли прекратить попытки дознаться до истины и довериться вселенной, как это делает Дирк Джентли в «Холистическом агентстве» Дугласа Адамса? В том случае, если убийца — фаталист, ему, вероятно, не обязательно совершать преступления по схеме, поскольку жертв и способ убийства ему предоставляют складывающиеся по воле фатума обстоятельства. В противном случае мы имеем дело со сторонником метафизического либертарианизма, для которого схема убийств не что иное, как проявление свободы воли. Похоже, что у нас три рабочие гипотезы: убийца — случай, убийца — фаталист, убийца — компатибилист.
В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Собеседникам было непонятно, говорит ли философ Кортес всерьез или он окончательно запутался в дебрях словоблудия. Если они собрались здесь для того, чтобы помочь Ларри Гранту выйти на свободу и провести собственное расследование, какой был толк в бессмысленных суждениях и бесконечных реверансах то в сторону детерминизма, то по направлению к вероятности, то к совсем уж непонятному компатибилизму? С другой стороны, некоторые суждения Габриэля были не лишены смысла. Следовало поскорее выбрать из образовавшихся предположений непротиворечивую рабочую гипотезу и следовать согласно ей. Так подумали, не сговариваясь, Аккан и Акжан.
— Стратегия Фореста Гампа иногда бывает очень удобной и действенной, — сказал, почему-то печально улыбнувшись, Кортес. — Не нужно ставить цели, их определит за тебя вселенная. Если бы я придерживался таких взглядов, я бы и впрямь не стал предпринимать никаких усилий, чтобы помочь Ларри. Однако я не детерминист. Но и в случайность смертей не готов поверить. Возможно, мсье Давенпорт прав и некто дьявольски умный хочет таким образом декларировать примат концепции свободы воли над теорией вероятности и детерминизмом. Он вознамерился построить цепь преступлений по четкой продуманной схеме. Пока что у него все получается, следовательно, свобода воли существует. Предлагаю пока не строить никаких предположений и вместо этого понаблюдать. Берегите себя, пользуйтесь средствами самозащиты. Я до сих пор не могу понять, почему Вайнберг никогда не нанимал телохранителей. Бизнесмен априори не может обходиться без охраны. Телохранители вам обоим не по карману, поэтому купите газовые пистолеты и электрошокер.
— Я занимаюсь боевыми искусствами, поэтому обо мне можете не беспокоиться, — сказал Акжан. — а вот вам, господин Кортес, и впрямь следует нанять охрану. В задаче Эйнштейна, которую, по мнению Давенпорта, использует убийца, фигурирует испанец.
— Об этом я тоже подумал. Если мир детерминирован, вселенная меня спасет. Или не спасет. Вам, Акжан, тоже, кстати, следует побеспокоиться. Помнится, вы работали с норвежской компанией, которая совсем недавно предлагала вам промышленный шпионаж. А в задаче, на минуточку, есть норвежец.
— Я только поработал с ними немного, и это не сделало меня норвежцем. Как подобное обстоятельство может иметь отношение к схеме убийств?
— Судя по всему, убийце достаточно и небольшого контакта с указанной в задаче нацией, необязательно принадлежать к ней. Берегите себя. И вы, Аккан, тоже. А теперь позвольте откланяться. Мне нужно поработать над обоснованием навигатора времени. Осталось совсем немного.
***
Он медленно, без надрыва, без сожаления, уходил. Позади оставались годы интенсивной работы над теоретическими проблемами физики, перемежаемые с шумной, неподобающей серьезному ученому, жизнью. Рот Ларри покрылся багровыми язвами, его некогда красивое лицо стало безобразным и пугающим. На тонкой коже головы зияла лысина — все волосы выпали за короткий срок, примерно в последние пять дней. Часто повышалась температура. Ларри бредил; когда он был в беспамятстве, то называл подряд имена всех своих девушек, произносил наизусть формулы из университетского курса физики, просил пить; организм был обезвожен.

— Степень лучевой болезни очень тяжелая, — вздохнул врач. — Пациент получил сильную дозу облучения — шесть греев. Так показывает дозиметр. Его положение безнадежно. И… — он помедлил, — нам нельзя здесь долго находиться.
Габриэль не стеснялся слез. Он плакал навзрыд, как ребенок, как тогда, в Итаке, когда Ларри в детской игре напоролся на штакетник в палисаде, потерял много крови, пока не приехала скорая, а Габриэль ничего не мог сделать. Вот и сейчас было ощущение полной беспомощности и обреченности. К черту безопасность, предосторожность и прочее в том же духе, когда умирает лучший друг. Люди в халатах, трясущиеся над своим здоровьем, выйдите из дома, если боитесь облучения, Габриэлю уже все равно.
Но врачи берут Габриэля за руку и силком выводят из комнаты. Все в респираторных масках. В доме высокий уровень радиации, но пострадавших, кроме Ларри, нет.
— Странно, что вы, господин Кортес, были всегда рядом с пациентом, но оказались радиорезистентным, невосприимчивым к радиации. В моей практике это впервые. Среди диких животных такое не редкость. Тихоходки, бактерии-экстремофилы, многие виды животных в зоне аварии на Чернобыльской атомной электростанции — кандидатов в фауне хоть отбавляй. Но люди обычно плохо переносят облучение. В вашем случае наблюдается поразительная устойчивость к радиации. Я слышал об исследованиях в области генной инженерии, о попытках привить человеку способность игнорировать излучение, но это больше из области научной фантастики. Бывало и так, что люди, побывавшие чуть ли не в самом атомном котле, получали большую дозу и все же выживали, но вы-то вообще её не получили! Может, просто в рубашке родились?
Габриэль не стал отвечать врачу. Ему было не до этого. По телу шли судороги, жаль было погибающего друга, которому уже ничем не поможешь.
Вспомнилось детство. Они бегут по сочной зеленой траве, приятно пахнущей весенним воздухом, опьяняющей предрассветным ароматом росы. Большое раскаленное солнце лениво встает над окрестностями Итаки. Будущее оттуда, из детства, кажется далеким; скорей бы подрасти, возмужать, восстановить справедливость, загладить вину перед индейским населением двух Америк, ведь белые на этом континенте люди пришлые и чужие; а сейчас, в настоящем, детство ближе как никогда, словно прошел только один день.
— Глупости это все, Габри. — смешно лопочет Ларри, пузатый розовощекий малыш. — Мы не виноваты, что наши предки когда-то сюда пришли. В Латинской Америке многие президенты наполовину индейцы, и нет никаких ограничений в правах. Да, в Штатах индейцев селят только в резервациях, так ведь и афроамериканцы не лучше них живут, а порой и хуже.
— Нет, Ларри, — отвечает худощавый Габриэль, — не рассказывай мне об этом. Я все слезы пролил, когда слушал рассказ учительницы о безумном истреблении майя и ацтеков, перед которым Варфоломеевская ночь — безобидная вечеринка.
— Майя ели людей! — с отвращением сказал Ларри.
— И римляне ели людей, и у греков были гекатомбы, я читал об этом в учебнике истории. Зрители на Гладиаторских играх пробирались к местам скопления тел мертвых гладиаторов и пили их кровь, потому что верили, что таким образом получат их жизненную энергию и силу. Просто об этом стараются не говорить. Зато выпячивают каннибализм у майя. Где справедливость?
— Брось, Габри. Побежали, пока солнце не стало палить.
Как давно это было! Ларри, всегда такой веселый, оптимистичный, заражающий каждого своей неиссякаемой энергией, теперь лежит, прикованный к кровати, и никто ему не сможет помочь.
— Габри, — слабо позвал Ларри, словно в детстве, как тогда, после травмы.
Габриэль, не слушая врачей, прошел в опасную комнату, сел перед Ларри и крепко стиснул ему руку. Он, не контролируя себя, закричал:
— Слышишь, ты только не умирай, слышишь, ты только живи! И не нужна эта наука, из-за которой ты где-то радиации наглотался и умираешь теперь! Не умирай, понимаешь меня? Живи, дыши свежим воздухом, гуляй, пей вино, пей! Только живи! Не уходи, не смей, не смей, не смей… уходить отсюда … слышишь?!!!
— Слы-шу, друг, слы-шу, — тихо пробормотал Ларри, — только поздно уже, совсем поздно. Прожил я жизнь легко, свободно, теперь и помереть не стыдно. Нам, ученым не стыдно умирать. Когда умер Хокинг, я плакал на его похоронах, нес его гроб вместе с другими учеными. Вот и пришла моя пора. Я умираю без угрызений совести, потому что никому ничего не должен. И перед Богом я чист.
Габриэль с удивлением посмотрел на него, не поверив своим ушам. Он знал, что Ларри детерминист, но никогда не думал, что Грант может быть религиозным человеком.
— Да, Габриэль, я не атеист, я — агностик. Ни одна религия не обладает монополией на Бога, Бог не объект для приватизации. Он ведь у каждого свой, даже у двух ревностных католиков, произносящих молитву «Аве, Мария» слово в слово одинаково. Как же там было? «Благодатная дева Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, благословен плод чрева твоего…». И, тем не менее, он может существовать. Бог физиков — не старец на облаках, кидающийся молниями. Мой Бог — наблюдатель, сидящий где-то у себя в лаборатории, в другой вселенной. Вот он смотрит на мини-коллайдер, в котором расширяется наша вселенная. Он даже не знает нас по именам, возможно, просто не догадывается о нашем существовании. У нас прошли тринадцать миллиардов лет, а там у него — всего лишь каких-то два часа. Парадоксы времени, друг мой. Вот в такого Бога я верю. И мы все можем стать такими богами, для этого надо всего лишь найти способ объединить квантовую механику и теорию относительности.
Ларри долго молчал, словно вспоминая что-то. Может быть, ему вспомнился Экклезиаст? «Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий». Или в его светлой голове пронеслись строки из Джона Донна? «Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».
— Подожди, я ведь это уже сделал. Я совершил революцию в физике, веришь мне, Габри?
— Верю, Ларри, ты — гений. Ты всегда был гением.
Габриэль уже не плачет. Он восторженно смотрит на друга, не сдающегося и перед лицом смерти, поющего свою последнюю, лебединую, песнь. Он все-таки это сделал. Эйнштейн не смог, у Гаррета Лиси не получилось, а вот Ларри это сделал. Совершил переворот и теперь умирает.
— Посмотри, посмотри там, в ящике стола. Там лежит тетрадь, я положил её туда после моего возвращения из тюрьмы. Там, на последней странице, все доказательства. Две эти великие теории все-таки можно объединить. Это даст человечеству большие перспективы.
— Её тут нет.
Габриэль обшарил весь ящик, но ничего не нашел; тетрадь с заветными уравнениями бесследно исчезла.
— Тетради с расчетами нет, Ларри.
— Не… может … быть. Бог мой, человечество отстанет ещё на пару веков. Дай Бог, чтобы нашелся такой же … такой же человек …
Это были его последние слова. Широко открытые глаза Ларри застыли, перестали моргать, лицо похолодело. Не было агонии и мучений, Ларри умер легко и спокойно, приняв вечность как данность, как необходимость. Его Бог не заплакал там, в другой вселенной, попивая чай с коллегами, отметив по часам, что прошло два часа после Большого Взрыва в мини-коллайдере.
Может, и нет никакого ученого, создающего вселенные, но Ларри имел право в это верить. Человек всегда должен полагаться на веру, мистическую, научную, но веру, которая на самом деле выдержаннее, сильнее надежды. Мы верим тогда, когда уже не можем надеяться. Верим в Бога, в коммунизм, в демократию, в либерализм, в науку, в бессмертие души. Потому что после потери веры начинается духовная смерть, смерть, которая хуже физической. Вовсе не надежда умирает последней, ибо Диоген Синопский, автор этого афоризма, ошибся; последней умирает вера.
Все, что могло быть сказано, уже произнесено. Харон, Анубис, апостол Петр или физик-ядерщик по ту сторону коллайдера, в котором расширяется наша вселенная, уже ждал Ларри. Или ему приснилось, что его кто-то там ждал? Или же Кортесу это приснилось?
***
Вам знакомо чувство, когда видимое во сне кажется реальностью? Однажды Чжуан Чжоу приснилось непонятное: то ли он — Чжуан Чжоу, которому снится, что он бабочка, то ли он — бабочка, которой приснилось, что она — Чжуан Чжоу. А вы уверены, что уже проснулись? Или вам снится, что вы бодрствуете?
Проснувшись за столом, заваленным рукописями, Габриэль Кортес со вздохом облегчения обнаружил, что смерть Ларри приснилась ему. Последние дни были так густо закрашены кистью гибели, что немудрено было увидеть в пелене снов лежащего на смертном одре друга.
Выйдя во двор, Кортес взглянул на звездное небо и поразился его необыкновенной красоте. Сириус, самая яркая звезда в созвездии Большого Пса, расположившемся под правой ногой небесного охотника Ориона, стремилась высвободиться из-под влияния звездного хозяина. Чуть подальше от прогуливавшихся по небесным дорогам охотника и его собаки виднелись две медведицы. На Большую Медведицу, больше походившую на ковш с ручкой, чем на медведя женского пола, сверху вниз смотрел Дракон, а под её ногами были беспорядочно разбросаны Волосы Вероники. Полярная звезда, бывшая самой яркой жемчужиной в небесном ожерелье, носившем название Малая Медведица, казалось, чувствовала себя полновластной хозяйкой видимого в этом полушарии неба, хотя во времена Христа эту роль играла Звезда Севера Кохаб. Именно ею в последний раз любовался висевший на перекладине Иисус. Что заставляло его, без вины страдавшего иудея, испытывавшего нестерпимую адскую боль от невыносимых мук, наносимых копьями римских солдат и терновым венцом, вглядываться в истыканную белыми движущимися точками темную гладь неба? Через тысячи лет уже другой Полярной звездой, той же самой, что сегодня захватила в сладостный плен Габриэля Кортеса, вдохновился грустный мечтательный монах Джордано Бруно, догадавшийся, что мир полон шумными планетами, населенными вавилонами людей. По этой звезде ориентировались моряки Колумба, измученные долгим путешествием на Запад и уже готовые убить упрямого генуэзца.
Ничто не стоит на месте. Через тысячи лет после Габриэля Кортеса в этом полушарии будут другие звезды и созвездия. Другие люди будут искать смысл существования, рассматривая светящиеся в ночном небе линии. Какие же мы песчинки по сравнению со звездами, подумал Кортес. Даже не песчинки, а миллиардные доли одной такой песчинки. Что мы значим в масштабе мириад звездных систем и множества траекторий блуждающих метеоров, астероидов и комет?
Кортес вспомнил то, что рассказывал ему Ларри о процессе образования солнц. Звезда рождается из гигантского молекулярного облака, и ей сразу становится тесно в своей колыбели. Облако коллапсирует и становится протозвездой. Если протозвезда массивна, в ней происходит синтез гелия и водорода. Термоядерные реакции позволяют звезде сохранять равновесие, причем сравнительно долго. В зависимости от массы звезда может быть белым карликом, красным гигантом либо черной дырой. Рано или поздно наступает момент, когда звезда, как и все в Мультивселенной, находит свой катафалк.
Кортес подумал о том, что способность любоваться звездами заметно отличает человека от других животных. Может быть, человек по-настоящему счастлив лишь в эту редкую минуту, когда всматривается в звездное небо? Тогда можно позавидовать астрономам и астронавтам, истинным ловцам счастья. Он вспомнил хокку Акунина.
«Светит, не зная
Собственного имени,
Звезда Сириус»
Как красиво! Звезда, которая по сравнению с нами, проживающими сотую долю секунды её существования, практически бессмертна, не знает, как её зовут, а человек, вынужденный умирать, едва родившись, может давать имена рекам, озерам, морям, континентам, планетам и созвездиям и способен теоретически долететь до самых дальних звездных систем.
Кортес устал и прилег в беседке. Легкий ветерок ласкал и убаюкивал его. Ему приснился последний человек на постапокалиптической Земле, всматривающийся в последний закат. Съеден последний хлеб, погасла последняя спичка. Последний человек по привычке позвонил маме и услышал в ответ молчание, что, в принципе, и следовало ожидать. Он посмотрел вверх, сказал едва слышно: «Жаль, что некому будет любоваться небом, когда я замерзну», и тихо умер.
— Одни смерти вокруг! — громко выругался резко проснувшийся Кортес. — Пусть ваниль будет мне одеялом, небосвод успокоит душу, а страницы мудрейших книг и черно-белые пленки шедевров будут твердым фундаментом снов. Спать, Кортес, спать! Что же это такое? Да здесь мне ни за что не уснуть! Пожалуй, вернусь домой.
Войдя в дом и закрыв за собой дверь, Кортес почувствовал странную дрожь в теле, к которой в ту же минуту добавился запах природного газа. Он увидел вспышку света, повлекшую за собой оглушительный звук. Больше Кортес ничего не почувствовал. Не было боли, не было и последних предсмертных минут, во время которых шлейфом проносится вся прожитая жизнь. Кортес даже не успел подумать о том, как такое могло произойти. Смерть ещё ни о ком не забыла.
***
С Ларри Гранта сняли все обвинения. Его освободили, и сейчас он сидел в большом просторном кабинете, совсем недавно принадлежавшем Вайнбергу. Он не был на похоронах Габриэля Кортеса, поскольку внутри него все было подавлено, перевернуто и изранено. Вокруг проносились люди, тьма сменялась светом, подносы с пищей сменялись другими подносами, а он все смотрел и смотрел на стену, украшенную портретами писателей-фантастов, которых любил Вайнберг. В конце концов, писатели вывели его из забытья, ведь Ларри тоже когда-то был без ума от фантастики. Оставаясь вне потока дней, людей и поглощаемой им пищи, Ларри анализировал далекие годы детства, прочитанные книги и сумбурное нестабильное настоящее.
Правда ли, что некоторые люди могут помнить свое рождение? Ларри помнил. Когда он родился, врач привычными движениями освободил малыша от плена пуповины и взял его сильными мужскими руками. Эти руки помогли родиться многим младенцам Итаки. Отца не было рядом: он бросил мать Ларри на пятом месяце беременности. Отец был игроком, много пил, не ночевал дома, гулял в кабаках и изменял Энн, матери Ларри.
Такое положение дел сохранялось в нескольких поколениях Грантов. «Дурная кровь» — говорили о мужских представителях Грантов в городе.
Мальчик посмотрел на силуэты людей в халатах. Безымянный пока малыш видел мир вокруг себя неотчетливо. Он щурился от яркого света. Веки были припухшими — результат сдавливания головы во время родов. Глаза были широко раскрыты, в них читался неподдельный интерес к миру.
В первые несколько дней он держал глаза закрытыми, лишь изредка и ненадолго открывая их. Малыш видел только близкие предметы.
Мальчика назвали в честь Ларри Уитни, стэндап-комика, выступавшего под сценическим псевдонимом «Кабельщик». Энн нравились фразы Кабельщика, вроде этой: «Я на диете, где вы едите овощи и пьете вино. Это хорошая диета. Я потерял десять фунтов и водительские права». Энн приходилось воспитывать ребенка одной. В детский сад Ларри отдали с шести недель — в Соединенных Штатах мамам в декрете оплачиваются не годы сидения дома, а считанные недели. Энн хорошо зарабатывала, мечтала о карьерном росте и не могла позволить себе сидеть с ребенком. Она отдала его в «day care» — разновидность детского сада для детей от шести недель до трех лет. Завтраки и обеды здесь никто не готовил, по санитарно-гигиеническим соображениям — вдруг у кого-нибудь из детей аллергия? Родители приносили еду в термосах и ланч-боксах. Одеваться, наливать молоко в стакан, ходить в туалет никто не помогал. Маленьким американцам с детства прививают самостоятельность. Ларри не нуждался ни в чьей помощи, он рано научился завязывать шнурки, сам ходил в клозет и смывал за собой. Дети спали одетыми, на низких кроватях без ножек. Спать одетым было в традиции из-за частых стихийных бедствий в этом регионе — одетых детей легче вовремя вывести на улицу в чрезвычайной ситуации. Сон в низких кроватях практиковался из-за нежелания администрации детского сада платить в случае падения ребенка на пол.
С детьми Ларри ладил. Он любил играть в баскетбол, нетбол, шаффлборд и в дейнти. Ларри слыл драчуном, за что его часто наказывали: сажали на стул на одну минуту, объясняли, как нужно себя вести. Дома мама не отчитывала Ларри. Она читала ему Библию или пыталась объяснить кое-какие понятия из астрофизики.
— Когда ты вырастешь, малыш, то поймешь, что есть принципы, которым стоит подчиняться. Я смотрю в звездное небо и понимаю, как упорядочен космос. Такой же упорядоченной должна быть наша жизнь. Бог, в которого я ещё больше поверила, став астрофизиком, наблюдает за нами. Что он скажет, увидев, как ты проказничаешь?
Ларри слушался маму и старался вести себя лучше. Ему было тяжело без отца, но мама была для него всем сразу. Что чувствует человек, вынужденный расти без мужского начала, когда мама для него и мать и отец? В то время, когда папа его товарища учил сына самозащите или давал советы по вождению скутера, Ларри оглядывался в сторону мамы. Она не могла его этому научить. Отец, даже если он не воспитывает сына, роется после работы в смартфоне или, отведя ребенка на футбольную площадку, сидит на скамейке и судачит с соседями, это в любом случае лучший вариант, чем если бы его вообще не было.
Отца он все же встретил. Это было много лет спустя, в Лас-Вегасе. Ларри с отвращением отметил про себя, что, как не досадно было ему это осознавать, он, тем не менее, как две капли воды похож на своего биологического отца. Не родного, а именно биологического. «Лучше бы я его никогда не знал» — чуть не сказал вслух Ларри, отталкивая от себя пьяного игрока.
«Ничего я тебе не должен. Столько лет ни сном, ни духом, а теперь — нате! Любите и жалуйте! Случайно встретил меня, узнал, вспомнил, и теперь требует денег на выпивку! Ты мне не отец!» — с этими словами Ларри ударил того, кто только по крови был родным, хлопнул дверью и вышел из казино.
С пяти лет Ларри посещал «kindergarten» — группу при школе. Здесь он и познакомился с Габриэлем. Жили они по соседству, но впервые увидели друг друга именно здесь.
Габриэль подошел к нему, когда Ларри с друзьями играл в песочнице, улыбнулся и продекламировал старую английскую считалочку:
«Eeny, meeny, miny, moe,
Catch a tiger by the toe.
If he hollers, let him go,
Eeny, meeny, miny, moe».
— Хотите поиграть в «Бим! Бом! Бам!»?
— Хотим, — сказал за всех успевший стать неформальным лидером Ларри, — а что это?
— Я вам покажу.
В игре участвовали две команды (количество детей в команде могло быть любым). Каждая команда обсуждала и решала, людей какой профессии они будут изображать. Кто первый подготовился, тот и начинал. Команда шла навстречу другой команде, громко выкрикивая: «Бом, бом, бом! Из Вашингтона мы идем!». Команда противников спрашивала: «Куда вы идете?». Дети отвечали: «В kindergarten!». «А что вы умеете делать». «Почти ничего!». «Показывайте!». Дети изображали автомехаников, художников, писателей, пожарных, врачей и полицейских. Если команда противников догадывалась, кого изобразили их оппоненты, то дети бегом возвращались к себе «домой», а противники их догоняли. Если «засаливали» ребенка, то он переходил в команду противников. Проигравшие вновь изображали какую-либо профессию.
С Габриэлем было весело. Он всегда находил какую-нибудь игру. Они возвращались домой вместе, рассказывая друг другу придуманные на ходу истории.
Когда друзья научились читать, их любимым местом стала библиотека. Подрастая, переходя из класса в класс, они не переставали проводить время за чтением книг; интерес к литературе с годами не ослабевал, вслед за детскими книгами последовали произведения классиков для взрослых, особенное предпочтение отдавалось приключенческим и научно-фантастическим романам.
Вот к друзьям поздно ночью заглядывает слон Хортон из забавных стихотворений-сказок доктора Сьюза:
Красавица Мейзи — ленивая птица,
Которая ярким нарядом гордится, —
В гнезде, изнывая, весь день просидела…
Высиживать яйца — скучнейшее дело!
— Сиди, и сиди, и сиди без конца,
Пока не послышится писк из яйца! —
Так Мейзи сказала, унынья полна…
Зевнула. И тут увидала слона.
— Какая удача! Слон Хортон! Вы здесь!..
К вам просьба одна пустяковая есть.
Усядьтесь на это яйцо, вот сюда… —
А слон засмеялся…
— Вы шутите, да?
Вслед за Хортоном появлялся кролик Питер из сказок Беатрис Поттер, непослушный крольчонок, любящий заглядывать в сад мистера Макгрегора.
Хоббит Бильбо Баггинс, Братец Кролик, Мэри Поппинс, Питер Пэн, муми-тролли и другие сказочные герои сопровождали друзей и в школе, и дома, ночевали с ними на кровати, будили их по утрам.
С годами круг чтения изменился. Сказке ребята, в конце концов, предпочли реализм, ориентируясь при этом не только на англоязычных писателей. Одной из первых была прочитана книга Льва Толстого «Война и Мир». Ларри впервые задумался о том, что такое глобальный исторический процесс, о роли личности в истории. Одни люди начинают войны взмахом руки, а другие с большим трудом пытаются выиграть их, при этом обе стороны остаются в проигрыше. Всем видны лишь маленькие шаги великих людей. Кем бы были эти великие люди, не будь в их власти тех самых миллионов маленьких, никому незаметных, людей? «Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну». «Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».
В «Воскресении» этого же автора Ларри увидел призыв любить и верить по-настоящему. Душевные мучения главного героя, его искреннее раскаяние за давний поступок, не могли не запасть в душу Гранта. При этом, как понял Ларри, раскаяние не может не быть сопряжено с пересмотром своих поступков, изменением жизни. «Все люди и живут, и действуют отчасти по своим мыслям, отчасти по мыслям других людей. В том, насколько люди живут по своим мыслям и насколько по мыслям других людей, состоит одно из главных различий людей между собою». «Всякому человеку, для того чтобы действовать, необходимо считать свою деятельность важной и хорошей». Философ и писатель, учитель и музыкант-любитель, Лев Толстой наряду с Достоевским и Шолоховым открыл Ларри духовное богатство русского народа.
Вслед за вышеназванными титанами пошли и другие русские авторы. Читая «Алые паруса» Александра Грина, Ларри поразился способности человека верить в мечту и стремиться к её исполнению. Социальные проблемы, поднятые автором вскользь — смерть матери Ассоли в полной нищете, не имевшей возможность взять в долг хлеба, чаю или муки, скучная и ненужная роскошь родственников аристократа Грея, — также не прошли мимо Ларри. Роман крупным бриллиантом лег в сокровищницу глубоко внутри Гранта, взбудоражил его сознание, разбередил ему душу. «Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное — получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, — тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение, и — вовремя сказанное, нужное слово. Владеть этим — значит владеть всем». Последний романтик русской литературы, человек, придумавший для нас Зурбаган, Грин походил на Фенимора Купера, Хаггарда, Жюля Верна, Стивенсона, Дефо; это был, пожалуй, единственный автор, писавший в России приключенческие романы.
Персонаж Печорин из «Героя нашего времени» Лермонтова показался Ларри утомленным пустой светской жизнью, прикрытой ширмой помпезных балов. Он жил в мире, где ничто не было внове, где и сам воздух был пропитан фальшью и излишней напыщенностью; Печорин искал спасение в интригах с барышнями, в дуэлях с боевыми товарищами и иных безрассудных поступках, дойдя до похищения девушки и испытания собственной везучести в схватке с пьяным казаком в сарае. Роман демонстрировал приближающийся декаданс, растление русского дворянского общества, внутренне уже готового к октябрьским событиям тысяча девятьсот семнадцатого года. Не случайно автору романа принадлежат строки из другого произведения, которые красноречиво говорят о том же:
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пищей многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.
В «Гранатовом браслете» Куприна социальные мотивы отсутствовали, но вместо этого было описание сильной любви, на которую способен не каждый человек. Настоящая чистая любовь прошла мимо княгини Веры, как волны моря обходят стороной берег, не задевая его. Ларри поразился купринскому дару рассказчика, умело подводящего читателя к трагической, но светлой концовке, заставляя задаваться вечными вопросами об истинных чувствах. Вначале Ларри недоумевал, зачем нужны пространные описания вечера у князя Шеина, беседы с генералом, описание различий в натурах Веры и её сестры, но потом понял: они нужны, чтобы показать пустоту в жизни Веры, способной любить, быть с тем, кто будет превозносить её до высот, говоря сакральное «Да святится имя твое», но лишенной таких людей и такой любви.
Ларри читал не только русских авторов. Он полюбил европейские и американские приключенческие романы об индейцах, особенно таких авторов, как Джеймс Фенимор Купер и Карл Май. Книги последнего, про вождя апачей Виннету, были не такими простыми, какими казались на первый взгляд. Последняя книга из серии — «Наследники Виннету» — стала не только прекрасным завершением солидной серии книг, но и подарила миру ценные размышления автора, конечно же, через своих вымышленных героев, о сложностях и перипетиях судеб индейских народов, о ценности любой человеческой жизни. Автор считал, что каждый человек отображает в себе все человечество, и каждый способен на прощение. Удивительно было то, как немец, бывавший в Америке лишь один раз, мог так хорошо и правдоподобно написать об индейцах. Ларри понял, что даже простые художественные произведения могут таить в себе небольшой, но драгоценный камень, отражающий свет человеческой мысли.
Габриэль, которого с ранних лет волновала индейская тема, пошел дальше Ларри. Он прочел «Дочь Монтесумы» Генри Райдера Хаггарда и дал почитать её Ларри. Эта книга заставила Гранта взглянуть на индейцев совершенно иными глазами. Ларри проходил историю индейских государств на уроках истории в школе, но все эти ацтеки, майя и инки были для него какими-то таинственными и непостижимыми цивилизациями, абстрактными образами из учебников. Он не задумывался, что за этими названиями стояли реальные люди, так непохожие на нас, но одновременно близкие нам, ведь они так же как мы любили и ненавидели, радовались и страдали, сопереживали и завидовали. Хаггард давал читателю возможность увидеть в индейцах не абстрактный образ, а обычных живых людей. Ларри было интересно наблюдать за размышлениями автора о том, что чувствовали ацтеки во времена испанского завоевания. Книга позволяла взглянуть на ситуацию не со стороны завоевателей, как обычно преподносилось в книгах, а со стороны тех, кто был завоеван и порабощен конкистадорами. Несмотря на довольно авантюрный сюжет с невероятными поворотами, роман был очень глубоким. Хаггард умел сочетать увлекательность повествования с точностью передачи исторических сведений.
— Индейцы во многом превосходили нас, — говорил Габриэль Ларри, открывая перед ним очередную книгу о коренных жителях Америки, — они подарили миру такие культуры, как кукуруза, картофель, томат, подсолнечник, какао, табак, перец, фасоль и ещё много всего. У майя был самый точный в мире календарь. Они же раньше индейцев придумали нуль. Пирамиды, иероглифы, футбол, бумага — все это индейцы создали задолго до европейцев и азиатов.
Когда Ларри, в отличие от Габриэля, поостыл к индейской тематике, его увлекла научная фантастика. Писатели-фантасты были настоящими пророками, они опережали мир, предвосхищая события и изобретения. Первый фантаст Жюль Верн предсказал подводную лодку, полеты в космос, Транссибирскую магистраль, быстрые кругосветные путешествия и Эйфелеву башню.
Совсем другим, не похожим на оптимиста Жюля Верна был мрачный фантазер Герберт Уэллс. Машина времени, невидимость в «Человеке-невидимке», человекоподобные животные, полученные в результате экспериментов в «Острове доктора Моро», война с марсианами — эти темы и сегодня будоражат воображение читателей.
Хайнлайн, Азимов, Саймак, Брэдбери и Гаррисон стали для Ларри учителями, привившими ему любовь к науке и к поиску истины. У Азимова Ларри больше всего понравился «Конец Вечности» с его идеей ответственности человечества за свои поступки, сомнением в том, что прогресс и попытки сковать волю общества, предписывая ему наиболее удобные пути развития, которые все равно оборачиваются катастрофами, принесут пользу людям. Автор предостерегал от экспериментов, которые по мысли экспериментаторов способны приблизить человечество к утопии. Сейчас, вспоминая этот роман, Ларри невольно задумывался о том, чем обернется изобретение навигатора времени. Не очередной ли антиутопией?
У американских фантастов есть тенденция, которая выражается в изображении апокалиптических сценариев развития общества, поэтому герой Азимова в конце романа «Конец Вечности» не допускает создание машины времени. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Открытия в ядерной физике были призваны дать человечеству новый источник энергии, а в итоге люди получили Хиросиму, Чернобыль и Карибский кризис. Порох создавался с целью украсить китайские праздники безобидными фейерверками, но первым же его применением стали захват городов и гибель целых армий. Немудрено, что изобретение машины времени в романе оборачивается безволием поколений и ещё большим рабством, рабством души. Или, что ещё хуже, путешествия во времени могут превратиться в аттракцион, как в рассказе ещё одного хорошего американского фантаста Брэдбери «И грянул гром». А что будет с навигатором времени? Не станут ли его использовать во вред человечеству?
С другой стороны, рассуждал Ларри, эксперимент не всегда может обернуться роковыми событиями, подводящими человечество к краю гибели. Советские фантасты в этом отношении были более оптимистичны, яркий пример — «Туманность Андромеды» Ефремова, где волей потомков сегодняшних, погрязших в пороках, людей построен геометрически правильный мир, стройный и вовсе не скучный, напротив, яркий, полный великолепных персонажей, один Дар Ветер чего стоит. Вот пример удачного эксперимента в изображении художника слова! Человечеству нужно не просто чувствовать несправедливость этого мира, ему нужно делать то, чему учат нас писатели — преображать мир, делать его лучше, краше.
В «Часе быка» того же автора Ларри увидел, как сильно могут отличаться два человечества, которые пойдут по разным путям. Одно — по пути справедливости, стремления к высокому, а другое — по дороге жадности, желания власти, сокрытия истинного знания и навязывания лживых ценностей населению. Также Ларри отметил для себя, что автор создал невиданную для своего времени вещь: поступки главных героев были поступками действительно людей далекого будущего. К примеру, когда у героев есть возможность спасти свою жизнь ценой убийства врагов, они даже не помышляют об этом. Люди будущего в романе не поступали так, как поступили бы в двадцатом веке или сейчас, они показаны как люди, действительно воспитанные совершенно иначе.
Ларри уделял особое внимание антиутопиям, таким, как «Мы» Замятина, «Тысяча девятьсот восемьдесят четыре» Оруэлла, «О дивный новый мир» Хаксли, «Глобальный человейник» Зиновьева. В этих книгах отображалась эволюция, как самого жанра, так и понимания глубинных особенностей тоталитарных обществ — не столько внешняя форма общественных систем, которые можно оценивать по-разному, сколько их внутренняя составляющая, отбивающая у человека желание стремиться к настоящей мечте, предлагая взамен навязанные низменные ценности. Антиутопия предостерегает нас от неверного пути, она — противоядие от ошибок, антиутопия делает нас сильнее и независимее; картины, которые она перед нами рисует, порой страшнее изображения ада в «Божественной комедии» Данте Алигьери, но эта живопись отрезвляет нас, очищает наш взор.
У Стругацких, верных последователей Ефремова, с которым они одновременно полемизировали, спорили, Ларри восхитил «Обитаемый остров», тоже роман-предостережение. Человечество не раз увлекалось в страстных необдуманных порывах, давая миру инквизицию, террор Великой Французской революции тысяча семьсот восемьдесят девятого года, американскую агрессию на Ближнем Востоке, порабощающую свободолюбивый дух самобытных наций, и отвратный цивилизованному человеку режим Пола Пота. Важно стремиться к золотой середине, чтобы двигаясь, по мысли Энгельса, которого Ларри тоже читал, но плохо понимал, к переходу от царства необходимости к царству свободы, обрести свободу как осознанную необходимость и при этом не скатиться к варварству и самоистреблению. Очень хороша, изумительна была «Страна багровых туч», единственный у Стругацких образец приземленной твердой научной фантастики. К нему примыкали «Голод на Амальтее», «Стажеры», «Полдень. Двадцать второй век». Философские романы Стругацких сформировали мировоззрение Ларри, закалили его, именно они в конечном итоге обусловили напряженную работу Гранта над Теорией Всего, сделали его ученым, самозабвенным работающим над magnum opus.
«Марсианские хроники» Брэдбери показались Ларри панегириком неиссякаемому человеческому оптимизму, ведь, несмотря на гибель половины человечества на Земле и заражение Марса пороками людей, финал романа пробуждает в читателе надежду на то, что последние потомки возродят лучшее, что сделал человек на протяжении истории, чему мы обязаны прогрессом и уровнем знаний. В то же время он посчитал роман пессимистичным: люди пошли по стопам Колумба и уничтожили великолепную культуру марсиан. Да, среди них были благородные люди, которые стремились нести свет и процветание в мир, такие, как Бенджамен Дрисколл, посадивший деревья на красной планете. Но попадались и личности, остававшиеся варварами и подвергавшие уничтожению все на своем пути.
«Какие же пессимисты наши англоязычные писатели!», — думал Ларри, перечитывая в разное время Азимова, Брэдбери, Хайнлайна и Уэллса. Понятно, что пороки людей трудно искоренить, возможно, и сейчас две трети мира продолжают пребывать в нищете и невежестве, но ведь нельзя же так сомневаться в человеке. В человеке много прекрасного, не зря его называют венцом природы, и безграничные возможности людей ещё покажут себя.
Один из любимых писателей Гранта Оскар Уайльд удивлял его и способностью писать пронзительные, грустные сказки, и талантом изумлять читателя философским романом-притчей «Портрет Дориана Грея», и глубоко спрятанной симпатией к социализму, но не казарменному, а настоящему, творческому, где не рабочий класс, а художники, писатели, скульпторы, словом творческие люди, управляют миром, распоряжаются богатством планеты. Каждая сказка английского гения заканчивалась мрачным финалом, но в то же время она учила быть милосердным, участливым к судьбе другого человека, отмечать прекрасное в кажущемся уродливым и видеть недостатки в том, что желает выдать себя за красивое.
В «Человеке» Горького Ларри по-новому открыл для себя человека — не как конкретного индивида, а как того, кто создает историю. Многие цитаты Ларри запомнил и много раз вспоминал в дальнейшем. «Человек за все платит сам, и потому он — свободен!», «Все в Человеке — все для Человека!», «Человек отравлен ядом Лжи неизлечимо и грустно верит, что на земле нет счастья выше полноты желудка и души, нет наслаждений выше сытости». Вот кто мог с легкостью переубедить пессимистов, заставить их по-другому посмотреть на человека.
Ларри всегда знал, что проживает жизнь не впустую. Он потакал своим слабостям, но все же знал меру. Ларри никогда не уподоблялся своему биологическому отцу. Да, он любил выпить, любил азартные игры, любил женщин, но эта любовь не убивала его, не лишала человеческих черт. Ларри пронес через годы настоящую страсть, истинную любовь — к науке, к книгам, к близким людям. Габриэль тысячу раз задавал ему тот самый вопрос, который он любил ставить перед всеми попадавшимися на его пути людьми: «Что для тебя счастье?». Ларри неизменно отвечал, что счастье в достижении истины. А может быть, не только в этом?
Когда умирают близкие тебе люди, многие жизненно важные вопросы получают неожиданный ответ. Все, что было на пути, имело смысл. Ларри стал уважаемым человеком, сделал важное, пусть пока и необнародованное, открытие. Теперь он мог считать себя счастливым человеком. Теория Всего почти изобретена, а следовательно, истина, которую так долго искал его самый любимый сериальный герой Фокс Малдер, наконец-то найдена.
Но лучший друг был мертв. Черт побери, сколько же странных событий произошло за последнее время! Вокруг умирают коллеги и друзья, тебя предают те, кому ты доверяешь как себе. Зачем я пригласил в Казахстан Габриэля? Но разве могло быть иначе? Так было предопределено.
Ларри вспомнил один из эпизодов любимого сериала. В одной из серий «Секретных материалов» Фокс Малдер встречает девушку-джинна, которая пятьсот лет назад была человеком и однажды, найдя лампу, пожелала стать могущественной. Все, кто обладает временной властью над джинном, обычно не уточняют, чего именно они хотят, поэтому джинн неверно интерпретирует их просьбы; к тому же люди, загадывающие желание, зачастую эгоистичны, и оно нередко оборачивается против них; например, человек, пожелавший стать невидимым, попадает под машину. Малдер, который становится очередным хозяином джинна, желает, чтобы на Земле воцарились мир и счастье. Джинн понимает его слова буквально, и все человечество исчезает с лица Земли. «Все религии мира тысячелетиями не могут решить этот вопрос, а ты решил сделать мир счастливым с помощью одного желания. Я не могу изменить душу каждого из семи миллиардов представителей человечества». Второе желание Малдер тратит на возвращение людей. Что пожелал Малдер в третий раз, остается неизвестным, но зритель, увидев, что джинн в конце серии снова становится человеком, может сделать тривиальный вывод: Малдер пожелал индивидуального счастья для джинна. Всеобщее счастье, осуществимо ли оно вообще? Люди никогда не перестанут воевать и ненавидеть, не изменятся в лучшую сторону. По отдельности — возможно, вместе — никогда.
Ларри вспомнил Асадова, которого он очень любил и мог читать в подлиннике, насколько ему это позволяло среднее знание русского языка.
Что такое счастье?
Счастье — это просто!
Нет у счастья веса,
Нет у счастья роста.
Счастье не измеришь
Яркими словами,
Счастье не увидишь
Ясными глазами.
Как тогда ответить,
Что такое счастье?
Ведь оно бывает
Самой разной масти.
Счастье… это слово
Много лиц имеет,
Каждый понимает
Счастье, как умеет!
Вспомнилось почему-то данное совсем недавно и уже почти забытое обещание. Давенпорт. Сыщик, уважающий Ларри, просил помочь ему найти матку местных муравьев. Странное хобби для сыщиков. Впрочем, понять европейцев сложно.
В памяти всплыло греческое блюдо скордостуби. Его готовила мама Ларри, в жилах которой текла европейская кровь: Энн была гречанкой по матери. Она часами могла пересказывать греческие мифы.
Многие мифы, говорила она, имеют рациональное объяснение. Геракл, например, служил трусливому царю Эврисфею не по воле богов, а потому, что в слепом гневе совершил убийство своей семьи. Он очищался от скверны в храме Аполлона и вынужден был двенадцать лет быть рабом своего двоюродного брата Эврисфея. Отец Эврисфея Сфенел, сын Персея, приходился дядей матери Геракла Алкмены, дочери Электриона, сына Персея. Очевидно, в то время знатных людей, виновных в гибели родственников, приговаривали к служению более знатным родичам. Геракл был охотником, и на службе у Эврисфея совершал то, что и должен делать опытный и ловкий охотник. Любопытно, что подвиги героя начались именно с охоты на льва. Это был древнейший обычай человечества — обряд инициации, посвящение в совершеннолетие. У охотничьих племен обряд инициации юношей всегда один — в одиночку поймать или убить самого опасного хищника. Видимо, в том месте, где зародился культ Геракла, самым опасным зверем был лев. Поэтому Геракл идет охотиться на Немейского льва, убивает его голыми руками, а в качестве доказательства приносит шкуру животного и покрывает ею свое тело. Инициация, в которой фигурирует лев, сохранялась у некоторых африканских племен вплоть до начала двадцатого века.
С позиций разума можно было объяснить и поход аргонавтов. Греки издавна периодически открывали Грузию, манящую их золотыми рудниками и пастбищами. Золотое руно — это не что иное, как шерсть барана, опущенная в золотоносную реку. Руно, на котором оседали частицы золота, приобретало большую ценность. В этом контексте становится понятно, почему аргонавты так стремились добыть руно.
Троянский конь на поверку оказывался штормом, принесшим на берега Трои ураган, который помог грекам сломить сопротивление троянцев, ведь конь был символом Посейдона. Энн с легкостью развенчивала любой казавшийся не поддающимся рационализации миф.
По выходным Энн радовала Ларри и Габриэля блюдом скордостуби. Оно готовилось из баклажанов, картофеля, помидоров и моркови. Все ингредиенты клали в кастрюлю, не забывая о щедром количестве оливкового масла. Скордостуби приправляли уксусом, паприкой и чесноком. Почему-то вкус этой пищи сопровождал Ларри даже в забывающихся наутро снах.
Взрослые гости, соседи, жившие на одной улице, большей частью этнические греки, танцевали танец «Сиртаки», а потом садились за стол и беседовали о культуре. Пожилой грек Джеймс Казандзакис из дома напротив часто рассказывал о творчестве любимого художника Николаоса Гизиса. Ларри больше всего запомнился рассказ о картине «Сплетница». Сплетница, одетая в темную одежду, что-то возбужденно говорит молчаливой старушке в светлой косынке. Темная женщина — олицетворение зла, которое пытается переманить на свою сторону представителя добра — светлую старуху. Зло не дремлет, притворяясь добром, оно мнимым дружелюбием и открытостью запутывает нас, но темные одежды всегда выдают его. Ларри сразу же вспомнился знак Дао — круг, в котором в темной половине виден белый кружок, а в белой половине — черный. Европейцы и китайцы смотрят на противостояние Добра и Зла диаметрально противоположно. У европейцев Добро и Зло стоят по разные стороны баррикады, Добро носит светлое, Зло предпочитает темное, даже если оно уже не в моде. Лао Цзы же считал, что в самом добром человеке есть щепотка зла, и наоборот, в изъеденном темным пороком злодее таится крупица добра. Ларри Гранту больше импонировал взгляд даосистов. Есть ли что-то светлое в Аккане и Акжане?
Ларри не удалось остаться наедине со своими размышлениями о детстве, книгах и любимой еде. Перед ним появился мсье Давенпорт. Мишель, выглядевший усталым, присел рядом с Грантом и сочувственно спросил:
— Ларри, вам лучше?
— Лучше. Спасибо.
— Крепитесь.
— Я уже почти свыкся.
— Помните, я говорил вам, что преступники пойманы?
— Да, конечно. Аккан и Акжан. Никогда бы не подумал.
— Преступный сговор. Сходство их имен — не чистая случайность. Они — родные братья. Их мать дважды выходила замуж, поэтому фамилии у Аккана и Акжана разные. Не волнуйтесь. Они получат по заслугам.
— Зачем они это сделали?
— Причина как всегда банальна. Деньги. Много денег. Они сначала надеялись, что Вайнберг оставит Шынар все состояние, но у них ничего не получилось, Вайнберг что-то заподозрил и сделал наследником вас. Преступники смогли повернуть все так, чтобы вы оказались в тюрьме, а затем они убили вашего друга. Но ребята просчитались, потому что дело вел Мишель Давенпорт.
— Но со схемой вы ошиблись, верно ведь?
— Увы. Думал, что это гений, стремящийся разорвать цепи фатума, а это оказалась шайка авантюристов. Настоящие паразиты. Помните тот корейский фильм, взявший «Оскар» в номинации «Лучший фильм»?
— Помню. А Спенсера тоже они убили?
— Со Спенсером не сходится, хотя Акжан взял всю вину на себя. Но вы не волнуйтесь.
— Я не волнуюсь. Но если что-то не сходится, значит, нужно начинать сначала.
VII. Мы не можем изменить то, откуда мы пришли, но можем выбрать, куда идти дальше
Если в опасный для меня момент я нахожусь в двух разных местах двух параллельных вселенных, то одна из моих копий выживет. Если применить те же рассуждения ко всем прочим способам, которыми я мог бы умереть в будущем, то, похоже, всегда будет, по крайней мере, одна параллельная вселенная, в которой я никогда не умру. Поскольку мое сознание существует только там, где я жив, означает ли это, что субъективно я бессмертен?
Макс Тегмарк
Ощущаемое пространство трехмерно, в то время как четвертое измерение в собственной системе отсчета ощущается как глобальное (ньютоновское) время. Гипотетически сознание может совершить прыжок во времени через кротовую нору. Но в таком случае объект будет взаимодействовать с трехмерной частью пространства непосредственно. Все это Нонгорман понимал очень хорошо. Не у всех есть доступ к технологиям, позволяющим прыгнуть в завтра, да ещё и в завтра другого мира, тем более что о последствиях можно только догадываться. Следует учитывать, что в других вселенных и константы могут быть иными. Так, в некоторых системах фундаментальных физических констант радиоактивный распад и существование нестабильных ядер могут оказаться невозможными, что приведет к существованию цивилизаций без ядерного оружия, а следовательно и без теста на выживание. Вот почему Нонгорман считал нужным вмешаться в дела цивилизации, не способной заглядывать в замочную скважину Мультивселенной. Экклесия, впрочем, думала по-другому и всячески советовала Нонгорману воздержаться от никому не нужного прогрессорства. В конце концов, Ноногорман внял просьбам экклесии, состоявшей из выдающихся экспертов в области байесовской прогностики, и сосредоточился на госте с Земли, которого в его вселенной считали погибшим.
***
«Много лет спустя, перед самым расстрелом, полковник Аурелиано Буэндия припомнит тот далекий день, когда отец повел его поглядеть на лед». Вспомнив почему-то именно эти строки из бессмертного романа Маркеса, похудевший за последние два года Ларри Грант немного подумал и осознал, почему именно этот фрагмент всплыл в его голове. Совсем недавно, отождествляя себя с героями одного из любимых романов, Ларри поймал себя на мысли, что не может позволить собственной персоне возможность произвольно вспоминать прожитые мгновения.
Эти два года Гранта сопровождало тяжело протекавшее заболевание: он испытывал провалы в памяти, не мог помнить многие события, львиная доля воспоминаний возвращалась к нему лишь при соприкосновении с другими мирами. По словам врачей, диссоциативная амнезия возникла у Ларри вследствие пережитого горя; но он-то знал истинную причину забывчивости и сопровождавших её головных болей. Ларри часами мог простоять у окна своего дома в фешенебельном районе Нур-Султана, куда переехал два года назад, — почти сразу после взрыва их совместной с Габриэлем квартиры в Кремниевой степи, — тщетно пытаясь вспомнить, что делал на протяжении дня.
Полюбовавшись разыгравшейся за окном снежной бурей, Ларри вспомнил, как двадцать четыре месяца назад, сразу после гибели лучшего друга, он сидел в ресторане с Давенпортом и отстраненно слушал его доводы в отношении череды таинственных убийств.
— Что же вы не пробуете приготовленный мной собственноручно фишбармак? — с недоумением спросил гурман Давенпорт, отодвигая в сторону Гранта тарелку с разновидностью бешбармака, в котором говяжье мясо было заменено красной рыбой. — Я за этим рецептом специально ездил в Атырау. Пальчики оближете.
— Я хотел бы, чтобы вы обошлись без кулинарных прелюдий, мсье Давенпорт. Погиб мой лучший друг. Если вы имеете уважение…
— Помилуйте, Ларри, я скорбел по господину Кортесу не меньше вашего. Поверьте, если бы мы сразу поняли, кто стоит за этими страшными убийствами, ваш друг был бы жив. Ответ лежал на поверхности, господин Грант, но нас запутало собственное невежество. Будь мы более последовательными детерминистами, многих преступлений удалось бы избежать.
— А вы считаете, что в основе убийств лежал именно детерминизм? — Грант лениво осмотрел щегольский костюм Давенпорта и обратил внимание на сложный узел его галстука.
— Вне всякого мнения, господин Грант. Да, преступники вовсе не использовали какую-либо схему, как нам это казалось с самого начала, но услышав из наших уст, что одной из рабочих гипотез является претворение в жизнь условия задачи Эйнштейна, злоумышленники стали подкидывать соответствующие улики, например, снежный шар.
— Снежный шар, снежный шар, — повторил бессвязно Ларри. — Прямо как в «Гражданине Кейне». Разве что «rosebud» никто из жертв перед смертью не произносил. Впрочем, кто знает.… Погодите, но ведь в нашей с Габри квартире не было никаких снежных шаров.
— Этого мы с вами никогда не узнаем. Тело вашего друга еле опознали, а что касается вещей, то от них ровным счетом ничего не осталось. Кто же теперь разберется, был ли у господина Кортеса в момент смерти снежный шар или не был? «Scio me nihil scire», как любил поговаривать мой отец.
— «Я знаю то, что ничего не знаю», — перевел афоризм на английский язык знавший латынь Грант. — Можем ли мы так говорить, если, вероятно, существуем в детерминированном мире, в котором можно строить точные прогнозы, в котором все явления постижимы, где возможен демон Лапласа? А мы, скорее всего, живем именно в таком мире. Как говорили те же римляне, «fatum est series causarum», то есть «судьба — это ряд причин». Я бы добавил: «причин, не зависящих от нашей воли, но вполне постижимых». В данной ситуации я вижу все причины, но решительно не понимаю одного: если убийцы — детерминисты, зачем им нужно было совершать действия, в основе которых лежала свобода воли?
— Потому что они как раз таки приверженцы метафизического либертарианизма. Говоря о детерминизме, я имел в виду следующее: преступникам казалось, что они обладают полной свободой воли, исключающей какие-либо намеки на детерминизм, который им чужд. Эти ребята были опьянены тем, что им все сходило с рук. Но фатум все же предопределил их крах. Как сказал глава семейства плутов в уже упомянутом мной фильме «Паразиты», хороший план — тот, которого нет. Каким бы гениальным ни был план, его разрушит фатум.
— Боюсь, что там было несколько иначе. Планы «паразитов» были погублены случаем — проливным дождем, затопившим их подвал.
— Случайность — не более чем иллюзия, господин Грант. Преступления, совершенные Акканом и Акжаном, равно как и наказание, были предопределены.
— Предопределены чем?
— Конечно же, фатумом.
— Друг мой, да вы не детерминист, вы — убежденный фаталист. Детерминист верит в то, что у причины может быть лишь один вариант следствия, сторонник вероятностного подхода скажет, что число вариантов следствия представляет собой бесконечное множество, а фаталист убежден в том, что за всеми причинами и следствиями стоит божественная сила. Месяц назад я бы охотно поверил вам, но теперь.… А что говорят сами обвиняемые?
— Аккан молчит и никогда, увы, ничего уже не скажет, а Акжан все выложил как на духу. Вы знали, что он и Шынар, невеста Вайнберга, были тайно помолвлены?
— Нет, — удивился Ларри. — Я этого не знал.
— Акжан специально устроился в Нуртех через вас, чтобы быть ближе к Вайнбергу. Он намеревался дождаться свадьбы Вайнберга и Шынар, чтобы затем убить его и присвоить состояние одного из самых богатых людей в мире. Откуда ему было знать, что Вайнберг оставит вам все?
— Погодите. Что-то тут не сходится. Если Аккан — родной брат Акжана, почему бы ему не устроить брата в Нуртех напрямую, через связь со мной?
— А зачем ему было подставлять брата в случае, если что-то пойдет не по плану? Он предпочел притвориться таксистом, удивить вас эрудицией и столь легким способом попасть в ваш отдел, поближе к Вайнбергу.
— А что говорит Шынар?
— Полицейским она поведала, что у них был роман с Акжаном. Акжан же предпочел вообще не упоминать имя Шынар в своих показаниях. Зато он рассказал про родственные связи с Акканом.
— Аккан подтвердил это?
— Он не сказал нам ни слова. Может быть, мы смогли бы выбить из него показания, но в первый же вечер Аккан отравился тюремной пищей и умер.
— Как? — Ларри был потрясен. — Аккан — мой ученик. Он был очень способным и подающим надежды исследователем. Он не должен был умереть.
Давенпорт подождал, пока Ларри придет в себя от услышанного. Для Гранта это были дни небывалых потрясений, дни потери самых близких ему людей.
— Я все понимаю, господин Грант…
— Все нормально, мсье Давенпорт. Мы с Акканом были очень дружны. Потому-то я и не могу поверить в его причастность к преступлениям. Могла ли его смерть быть случайностью?
— Не думаю. Скорее, это больше похоже на возмездие, фатум. В древнегреческой мифологии самыми могущественными божествами были мойры, державшие в своих руках нити судеб, как богов, так и людей. В глазах греков фатум был главнее других богов, он являл собой основу мироздания.
— Вы забываете, что не менее почитаемым божеством у греков была Тюхе, богиня случая.
— Фортуна? — спросил, доедая фишбармак, Давенпорт.
— Да, римляне, любившие заимствовать богов у греков, называли её Фортуной. То есть уже у эллинов проявились противоречия во взглядах на мир. И по сей день мы не можем понять, что наша жизнь — игра в шахматы или игра в рулетку? Может, вам стоит проверить, действительно ли Акжан и Аккан братья? Сходство имен могло оказаться простой случайностью.
— Вы знаете, насколько я дотошен, господин Грант. Будь у меня развязаны руки, я немедленно проверил бы, так ли это на самом деле. Но местные представители правосудия считают, что все и так ясно. И я готов с ними согласиться.
Ларри молча глядел в покрытые узорами ранних заморозков окна ресторана. Солнце медленно падало в красный закат, оставляя на небе еле заметные искорки. Ночной город утопал в шуме сверкающих фарами машин.
— Я думаю, господин Грант, вам все станет понятно, если перед вами предстанет полная картина преступлений. Извольте. Акжан Абенов, айтишник, учившийся в Штатах, работает на несколько фирм, выполняя для них заказы, но такой образ жизни молодого человека явно не устраивает. Он узнает, что его любимая девушка Шынар Ордабаева, стала невестой немецкого, а ныне казахстанского, миллиардера Вайнберга, создавшего в Казахстане аналог Силиконовой долины. Он возобновляет отношения с Шынар, теперь уже в качестве друга, и связывается с родным братом по матери Акканом Сагдиевым, который учится в Нуртехе и входит в состав команды Ларри Гранта, работающего над созданием Теории Всего. Акжан намерен осуществить ряд преступных манипуляций и сговаривается с Акканом. Первым делом он устраивается таксистом и будто бы случайно знакомится с Ларри Грантом и его другом детства Габриэлем Кортесом. Своей бывшей девушке, которая ничего не подозревает, Акжан говорит, что не может забыть её и желает вновь сблизиться с ней. Вы, наверно, уже догадались, что Акжан на самом деле хочет прибрать к рукам баснословное богатство Вайнберга? Долго ломая голову над тем, как осуществить задуманное, Акжан рассматривает различные варианты действий. Он ещё не знает, что фатум заранее расставил перед ним свои сети. Гибель сотрудника Урхрана, где Ларри работает над решением атомной проблемы, и последующее расследование Мишеля Давенпорта дают Акжану возможность осуществить свой коварный план. Через Ларри Гранта Акжан всегда в курсе дел. Давенпорт считает, что кто-то убивает по задаче Эйнштейна? Что ж, найдем в окружении Ларри человека, чьи черты схожи с чертами, скажем, японца. Не беда, что среди сотрудников Нуртеха нет настоящих японцев, зато есть бывший японист Семецкий, курящий те самые сигареты, любящий тот самый цвет и то самое животное. Дальше — больше. Следствие окончательно пошло по ложному следу. У Акжана Абенова возникает иллюзия свободы воли, ведь он считает, что все идет по его плану. Теперь можно убить Вайнберга, подставить Ларри (сдается, Абенов каким-то образом узнал, что Вайнберг завещал Гранту все свое состояние, достойное Соломона) и, наконец, завладеть деньгами. Надо же, как везет Акжану! Ларри оказывается в ту ночь рядом с Вайнбергом, его видят соседи, он оставляет отпечатки пальцев в доме миллионера. Удачное стечение обстоятельств! На самом деле это все тот же фатум. Акжан не забывает подкидывать каждой жертве снежный шар, такой же, как в «Гражданине Кейне»: пусть все думают, что убийства совершаются по схеме. Пока Ларри сидит в тюрьме, Абенов готовится исполнить заключительный аккорд, коду. Но тут, по воле фатума, он совершает грубую ошибку. Аккан, подельник и по совместительству брат Акжана, уговаривает напарника убить Кортеса, поскольку тот, по мнению Сагдиева, уже о многом догадывается и косит под дурачка, ведя длинные беседы о свободе выбора, детерминизме и случайности. В роковой день для Кортеса братья поддерживают философский разговор с Кортесом, стараясь запутать Габриэля. Ночью Акжан устраивает утечку газа и взрывает коттедж Гранта и Кортеса. Ошибка Акжана обходится ему дорого. Вместо того, чтобы дождаться суда над Грантом и перехода состояния Вайнберга в руки Шынар (после Ларри она единственная законная наследница Андрея, поскольку они были помолвлены, а живых родственников у Вайнберга не было от слова «совсем»), Абенов идет на поводу у брата, совершает последнее преступление и, сам того не замечая, оставляет вещественные доказательства рядом со взорванным коттеджем Гранта и Кортеса.
— Какие вещественные доказательства? — спросил Ларри.
— Извольте. Рядом с развалинами дома были обнаружены оброненные Акжаном водительские права.
— Этого достаточно для вывода о причастности Акжана к убийствам?
— Более чем достаточно. Акжан запутался и пошел на поводу у обстоятельств.
— Я все-таки сомневаюсь. Что-то подсказывает мне, что вы вновь ошиблись.
— Мишель Давенпорт никогда не делает ложных шагов.
— Ошибиться может каждый.
— Я не могу позволить себе такую роскошь.
— Но вы все же допустили оплошность со схемой.
— Увы, — Давенпорт прикусил губу. — Досада. Мое ружье дало осечку.
— Вот видите. И вы можете оказаться в дураках. Смею заметить, меня смущает одно обстоятельство. Если Акжан Абенов, которого я знаю как фаната вероятностного подхода, на самом деле является сторонником свободы воли, не думаю, что он мог использовать случайную смерть Спенсера для того, чтобы начать серию убийств. По моим наблюдениям, Акжан Абенов всегда был искренним в общении с другими сотрудниками. Фальшь я бы заметил.
— Но он сам признался в убийствах.
— Потому что хотел отвести подозрения от Шынар. Это темное дело. Вы не можете его закрыть.
— Казахстанская сторона расследования считает, что все ясно как белый день. Даже если я придерживаюсь иного мнения, мне придется согласиться. Общественности нужна непротиворечивая версия происшедшего.
— Но так нельзя делать! — Ларри Грант побагровел от злости и привстал. — Акжан выглядит в этой ситуации как агнец на заклание, как козел отпущения.
— Я это тоже вижу, но, увы, никто не станет проводить новое расследование. Мне уже купили билет в Лион, и у меня в запасе лишь полчаса. Если бы я с вечера не приготовил вещи, мы бы с вами сегодня не увиделись. А вы, кажется, обещали мне совместный поиск муравьиной матки.
Что случилось потом? Флешбэк оборвался на словах Давенпорта и растворился внутри лабиринтов подсознания. Его сменил другой вариант этого флешбека, где Давенпорт улетел в Лион, не попрощавшись. «Другой поворот событий — и я бы не стал действовать», — подумал Ларри. Решения, которые мы принимаем, зависят от случайностей.
Он попытался отвлечься и немного помедитировал. Произнося слова мантры, Грант вспомнил, что медитативным техникам его учил Сансар. Кстати, подумал Грант, почему Темуджин Сансар не участвовал в истории с убийствами сотрудников Нуртеха? Задав себе такой вопрос, Ларри, как ни силился, все же не смог ответить на него. Взглянув на статуэтку Будды, стоявшую на верхней полке стеклянного шкафа, Ларри начал припоминать последний разговор с Темуджином.
— Милый, ты опять медитируешь? — спросил Ларри нежный голос супруги, — каждый вечер ты садишься на коврик, читаешь мантру и воспоминаешь о беседе с Сансаром. Хочешь, я все перескажу тебе слово в слово?
— Нет, спасибо, Паулина, я вспомнил. — Ларри поглядел в зеленые глаза молодой супруги и ощутил, что смотрит на нее как в первый раз. — Сансар говорил о сходстве положений буддизма и квантовой механики, о мозге Больцмана и о чем-то ещё. Я так и не смог понять, к чему он клонит.
— А ещё он сказал, что будет принимать участие в казахстанско-китайском проекте по созданию квантовой сети. Но до Пекина Сансар не доехал, потому что бесследно исчез по дороге в Китай. Сел в самолет, но не вышел оттуда. Как сквозь землю провалился.
— Странная история. Я каждый вечер с твоей помощью вспоминаю об этом и пытаюсь понять, что скрывается за словами Сансара. Впрочем, у нас есть и другие дела. Ты помнишь, как мы познакомились?
— Я помню каждую секунду нашего знакомства. Ты спросил меня: «Мы не могли видеться с вами в прошлом году в Мариенбаде?» Я рассмеялась, потому что видела этот фильм раз десять. Потом мы поговорили о классике мирового кино, и я спросила тебя: «Откуда у вас такие познания? Вы — синефил?». Ты ответил мне, что любовь к кинематографу тебе привил твой лучший друг Габриэль Кортес, и неожиданно расплакался. Больше всего меня поразило, что такой большой и сильный мужчина может плакать. Тогда у тебя ещё не было провалов в памяти.
— Я в тот момент не шутил. Акжан уже тогда внедрил в мой мозг имплант синапса, но у него ещё были проблемы с синхронизацией. Когда я впервые тебя увидел, я действительно вспомнил, как мы познакомились в Мариенбаде. Это была другая вселенная. Другой вариант развития событий. В той вселенной я работаю в технологическом институте в Праге, в Чештехе. Чехия там самое продвинутое государство в мире.
— А что мы делали в Мариенбаде?
— Я отдыхал, а у тебя был кинофестиваль. Ты в той вселенной известная чешская актриса, одна из звезд местного аналога Голливуда.
— Я всегда знала, что чехи могли бы быть крутыми. В детстве я мечтала стать актрисой, а в итоге стала философом. Ты помнишь, как пригласил меня в Нур-Султан?
— Теперь уже смутно. Когда умер Габриэль, мне трудно было найти ему замену. Проект простаивал, инвесторы уходили один за другим. Я нашел в его дневнике твое имя. Он очень уважал тебя и хотел помочь тебе с трудоустройством, когда ты окончишь Корнельский университет. Я позвонил тебе, и ты прилетела.
— И сразу же влюбилась в тебя после слов о Мариенбаде.
— Для меня, Паулина, наша любовь — свидетельство того, что параллельные вселенные могут пересекаться. Если бы я не сказал про Мариенбад и если бы мы не разговорились о кинематографе, этой любви и брака не было бы. Но благодаря тому, что я сумел обуздать вероятность, мы с тобой выбрали самый верный вариант развития событий.
— Это чудесно, Ларри, — сказала Паулина и крепко обняла мужа. — Мы любим друг друга, по крайней мере, в шести из бесчисленного числа вселенных. Нам повезло больше, чем миллионам наших копий.
— Да, все верно. Только вот жаль, что наша любовь омрачена моей болезнью.
— Это не страшно. Провалы в памяти — расплата за твою сверхспособность. Мозг не справляется со всеми функциями. Ты можешь видеть другие вселенные, но легко забываешь события, происходящие с тобой в этом мире. Я сравниваю нашу любовь с любовью Паулины Помпеи и Сенеки. Ты — мой Сенека.
— Это тот Сенека, чьи нравственные письма ты читаешь мне каждый вечер? Те, что адресованы некоему Луцилию.
— Это тот самый Сенека. Они ушли из жизни вместе. Сенека и Паулина.
— Припоминаю, — сказал Ларри. — Они вскрыли себе вены по приказу Нерона, воспитанника Сенеки. Странно, что философ воспитал чудовище.
— Это не его вина. Нерон был психически болен.
— Мы с тобой — Сенека и Паулина. А наш Нерон — случайность. Но благодаря навигатору времени мы сможем её преодолеть.
— Не забудь только напомнить мне, чтобы я осталась дома в тот злополучный день.
— Девятнадцатое октября этого года. Мы будем целый день пить чай и смотреть фильмы Нолана. И никакой автобус не столкнется с твоей машиной.
— Школьный автобус, — прошептала, закрыв глаза, Паулина, — мне так страшно, Ларри. Я просмотрела видеозапись на эмуляторе. Я видела свою смерть. И гибель детей в автобусе.
— Это смерть твоей копии из другой вселенной, — Ларри крепко сжал руку супруги, — слышишь, это не твоя смерть. И дети тоже останутся в живых. Я несколько раз, с тех пор как Акжан вставил в меня имплант синапса, предотвращал нежелательные события в жизни своих близких. И в этот раз все получится, как и раньше получалось. Мы просто останемся дома. Вселенная с таким вариантом существует. Я видел тот день из неё, помню его в мельчайших подробностях. Мы просто-напросто повторим день из правильной реальности. Веришь мне?
— Верю. Если ты так говоришь, значит, и вправду знаешь, что все будет хорошо.
— Все будет хорошо, Паулина. Напомни мне слова Сенеки о случайности.
— В одном из писем к Луцилию он написал: «Связывает ли нас непреложным законом рок, божество ли установило все в мире по своему произволу, случай ли без всякого порядка швыряет и мечет, как кости, человеческие дела, — нас должна охранять философия».
— Надо же. Этот прозорливый мыслитель, живший две тысячи лет назад, оказался прав. Философия и физика помогли нам обуздать вероятность.
— Вероятность обуздал пока только ты, — напомнила Паулина.
— Завтра эта возможность представится всему человечеству. Все ли готово к симпозиуму?
— Все готово. Акжан сделал видеозаписи тех вариантов событий, которые нужны для демонстрации навигатора времени. Если техника не подведет, мы покажем миру новую технологию.
***
— Сколько раз я вопрошал себя: «Где те, кто был до нас?», — сказал Ларри, предварительно поприветствовав участников симпозиума. — Сколько раз забывал об этом вопросе, увлекаясь потоком быстротечных мгновений. Но теперь, по истечении тридцати пяти лет жизни, уже прожитой на ощупь, я понимаю, что, возможно, осталась ровно половина. Моя мать, известный астрофизик Энн Грант, прожила семьдесят лет. Проецируя её жизнь на свою, принимая во внимание унаследованные от матери генетические данные, я мысленно отмерил себе следующие тридцать пять лет жизни. Две пятых прожитых лет я провел в вегетативном состоянии, был не смышлен, жил эмоциями, тратил ценные капли молодости на попойки и прочие сомнительные удовольствия, занимаясь наукой спорадически. На что я потрачу оставшуюся половину жизни, учитывая, что все тридцать пять лет я буду, скорее всего, в здравом уме? Освою серфинг, научусь водить машину, прочитаю и посмотрю как можно больше шедевров, созданных человечеством. Я нахожусь в том возрасте, когда гедонизм уже не в моде, когда понимаешь, что избежать взноса в фонд смерти не получится. Остается наверстывать упущенное.
Симпозиум проходил в онлайн-режиме. В мире свирепствовал индийский штамм, и онлайн-конференции вновь стали повседневной необходимостью. Ларри, Паулина и Акжан, которого рано утром привезли в Нуртех из частной тюрьмы, сидели в кабинете, где некогда располагался секретный отдел.
Как уже было сказано, Ларри страдал от резких головных болей, являвшихся побочным эффектом технологии, дающей способность видеть параллельные вселенные. Когда Ларри удавалось настроиться на нужную волну, в голове появлялись образы, подобие видеороликов, проносились мысли его копий из иных миров. Это была комбинация чужих мыслеобразов, которую невозможно упорядочить и разложить по полочкам. Первое время Ларри сходил с ума. Потом, после нескольких занятий со специалистами по нейросетям, все встало на свои места. Ларри научился контролировать потоки событий из параллельных реальностей, определять момент, когда может произойти то или иное происшествие, и, что самое важное, уметь выбирать из вариантов одного и того же события самый благоприятный.
— Вы спросите, откуда я знаю, что могу прожить ещё тридцать пять лет, ведь все зависит от рока или случая, кто во что верит. Конечно же, я могу прожить больше или меньше обозначенного мной срока. В разных параллельных мирах у меня, соответственно, разная продолжительность жизни. Но я приму меры и постараюсь прожить ещё тридцать пять лет, чтобы умереть, как моя мама, тихо и не мучаясь. Каким образом я это сделаю? Признаюсь вам, что с некоторых пор имею привилегию — я могу видеть варианты многих будущих ситуаций из моей жизни. Не шумите так сильно, я все объясню. Это не ложь. И я могу сделать человечество подобным себе. Вы только представьте: в одном из бесчисленных миров со схожей мировой историей живет человечество, которое знает варианты своего будущего и потому не совершает ошибок. У всех человечеств в Мультивселенной плохая кредитная история, если считать кредитом возможность уклоняться от неверного выбора, но у этого счастливого человечества кредитная история просто шикарная. Если бы мы все обладали врожденной способностью видеть развилки всех грядущих событий, многих откатов назад в развитии, таких, как Средневековье или Темные века в Древней Греции, можно было бы избежать.
— Вы утверждаете, что можете видеть варианты будущего, — сказал убеленный сединами профессор Степлтон из Калтеха, раньше всех подключившийся к конференции и все это время внимательно слушавший Ларри. — Веками ученые полагали, что у всех нас в любой момент времени есть лишь одно возможное будущее. Именно на этом тезисе строились фатализм и его менее строгая форма, называемая детерминизмом. В начале девятнадцатого века Пьер-Симон Лаплас, отталкиваясь от предположения, что будущее безальтернативно, описал гипотетический разум, способный определить положение любого тела в любую единицу времени, а если говорить обычным языком, склонный к предвидению любого события в мировой истории. Его назвали «демоном Лапласа». Я всегда считал, что если бы наш мир был детерминистским, он был бы похож на шоу Трумана до того момента, пока Труман не взбунтовался. В этом мире события легко спрогнозировать, «черных лебедей» в нём нет, все люди предсказуемы, и жить в нем, скорее всего, скучно, Труману-то уж точно было тоскливо. Это мир, в котором комфортно было бы разве что Ювалю Харари. Да, он убедительно доказывает, что даже бросок игральных костей детерминирован, что миллионы нейронов головного мозга определяют мнимый выбор человека, что вся деятельность человека сводится к выполнению биохимических алгоритмов. Но доводы апологетов детерминизма рассыпаются в прах, когда мы понимаем, что будь все это правдой, портативный «демон Лапласа» был бы у каждого в кармане. Но поскольку такого механизма до сих пор не существует, я делаю вывод, что мы живем в более веселом и непредсказуемом мире, чем миры «Матрицы», «Тринадцатого этажа» или уже упомянутого «Шоу Трумана». Вы, видимо, предлагаете нам тот же «демон Лапласа», но более сложный в применении, миллионы вариантов мира вместо одного.
— Вы правы, профессор Степлтон, — сказал Ларри, — сегодня мы продемонстрируем научной общественности Земли навигатор времени, изобретенный нашим сотрудником Акжаном Абеновым — несмотря на тюремное заключение он остается одним из наших лучших специалистов, — навигатор, который на поверку ничто иное, как вероятностный «демон Лапласа». Когда мы начали работу над проектом, у нас было три рабочие гипотезы по поводу того, каким является мир. Первая — мир жестко детерминирован (физическими законами, нейробиологией, эволюцией, а может быть, программистами из настоящей реальности), у причины лишь один вариант следствия. Вторая — все в мире происходит случайно, наши действия корректируются вероятностью, у причины бесчисленное множество вариаций, наша вселенная не одна-единственная, таких похожих миров — мириады. Третья — человек и остальные живые существа обладают безусловной свободой воли, любой их выбор сознателен и никем не управляем, человек способен даже сворачивать пространство и создавать новые вселенные с иными физическими законами, если не сегодня, то точно в далекой перспективе. Наш штатный философ Паулина Грант, по совместительству моя супруга, написала объемное исследование по этому вопросу, в котором обстоятельно показала, что мы живем в вероятностном мире. Основываясь на её выводах, Акжан Абенов доработал устройство другого нашего сотрудника Темуджина Сансара.
— Что представляет собой это устройство? — спросил кто-то из ученых.
— Это имплант синапса, вживленный в человеческий мозг. Имплант — приемник на квантовом уровне, принимающий сигналы из параллельных миров, мозг — дешифратор. Работа ипмланта синхронизирована с работой квантового процессора. По сути, созданный в Нуртехе имплант и есть квантовый компьютер. Ведь на самом деле то, что мы называем квантовым компьютером, — это кубиты и группы кубитов, отдельные «микросхемы», которые ещё не способны выполнять программируемые операции. То, что сейчас работает — это эмуляторы квантового компьютера на классических устройствах. Удивительно, но настоящий квантовый компьютер, как оказалось, способен подключать наше сознание к другим вселенным. Такой квантовый компьютер есть в моей голове.
— И вы сейчас продемонстрируете нам его работу?
— Продемонстрирую. Акжан, выведи, пожалуйста, на экран видеозаписи. Сейчас, дамы и господа, мы покажем вам кое-что очень интересное. Мы научились записывать на видеоносители сеансы связи с другими реальностями.
Ларри уже хотел показать ученым первую видеозапись, как вдруг кто-то из светил науки спросил его, не относятся ли она к известным широкой публике происшествиям, случившимся в Нуртехе два года назад. Ларри подтвердил это предположение и обещал приоткрыть завесу тайны, не разгаданной доблестным инспектором из Интерпола Мишелем Давенпортом. Участники конференции вспомнили и арест Акжана Абенова. Акжану пришлось взять слово; он объяснил, что следствие до сих пор не пришло к единому мнению и дело официально не закрыто. Да, Акжан признал все обвинения, но это было сделано для того, чтобы оградить от уголовного преследования его возлюбленную Шынар Ордабаеву, на которую падала тень подозрения. На самом деле у Акжана почти с самого начала появилась собственная версия случившегося, но у него не было веских доказательств. Изобретение навигатора времени предоставило возможность раскрыть преступления.
Когда все вопросы были выяснены, ученым показали видеозапись нескольких вариантов последней встречи Ларри с Дэвидом Спенсером. В одной вселенной, он, как и в нашей, умер, оставшись в тот злополучный вечер один на один с бактериями. Когда все покинули лабораторию, Ларри попросил Дэвида протестировать Эдит на восприимчивость к заморозке.
В другой вселенной от идеи заморозки отказались, и ничего плохого со Спенсером не произошло. В том варианте истории Ларри и Дэвид приложили руку к ликвидации всех смертоносных запасов урана и плутония на Земле.
«Какой же я глупец, — подумал Ларри, — эта заморозка привела к генетическому сбою и, как следствие, к изменению инстинкта бактерий. Дэвид тогда предупреждал меня, что внешние факторы могут влиять на генетический код, хотя такое происходит редко, но я его не послушал».
— Это случайность, — вынес вердикт Ларри. — Здесь нет ни убийства, ни заговора, ни шпионских игр. Мутация бактерий в результате необдуманного эксперимента.
— А как быть с другими убийствами? — спросил Степлтон. — Тоже случайности?
— Сейчас увидите, — ответил Ларри. — Вот видеозаписи вариантов смерти Семецкого.
Сначала зрителям показали вселенную один-в-один схожую с нашей. Семецкий достал с полки сахар, поставил его на стол и принялся с азартом спорить с Кортесом, доказывая ему, что мы живем в вероятностном мире.
— Без сомнений, я был бы невозмутим, поскольку верю в квантовое бессмертие, — говорил с жаром Семецкий. — Даже если сейчас меня отравят тем же пресловутым цианидом, о котором так часто упоминал сегодня Ларри, я все равно буду жив во многих других вселенных. Учитывая, что в некоторых параллельных мирах наверняка уже научились продлевать жизнь методами генной инженерии, я ещё и потенциально бессмертен.
— Давно известно, что квантовое бессмертие, равно как и многомировая интерпретация квантовой механики, — теоретические допущения, не соответствующие критерию Поппера, — вмешался в спор Семецкого и Кортеса Ларри Грант. — Пока вы оба парируете словесные удары оппонента, чай продолжает остывать. Не заставляете атомы чая находиться в суперпозиции, выпейте его.
Семецкий и Кортес дружно улыбнулись шутке Ларри и пригубили из одинаковых чашек веджвудского фарфора с характерными для него чрезвычайно тонкими стенками.
Внезапно Семецкий потерял сознание и грузно повалился на пол. Кортес и другие сотрудники секретного отдела спешно соскочили со своих мест и ринулись к Семецкому. Его дыхание было затруднено. Через несколько секунд, пока Ларри судорожно щупал пульс бывшего япониста, Семецкий умер от нехватки кислорода.
Участники онлайн-конференции замерли от ужаса. Было видно невооруженным глазом, что часть ампулы с цианистым калием просыпалась в сахарницу, и Семецкий положил калий в свою чашку.
В другой вселенной Ларри не смог примирить спорящих, Семецкий ушел расстроенным, а чай сотрудники так и не попили.
— Ну, господа, — со вздохом сказал Ларри, — теперь очередь Андрея Вайнберга, основателя Кремниевой степи.
***
— Подобно апельсинам Костелецки, одержавшим победу над предметами, сброшенными Галилеем с Пизанской башни, идея многомировой интерпретации Эверетта может разгромить в пух и прах другие интерпретации квантовой механики и оказаться самой правдивой из всех представленных на сегодняшний день, — сказал Ларри, повернувшись к двери. — Откровенно говоря, мне никогда не нравилась копенгагенская интерпретация с её непонятной природой волновой функции, пусть она и постулирует необходимость существования свободы воли в мире овеществленной комбинаторики, которая претит мне, но импонирует тебе. Я всегда спрашивал себя: «Если частица может находиться в двух местах, не может ли делать то же самое объект, состоящий из октиллионов таких же частиц?». Копенгагенская интерпретация считает этот вопрос риторическим, а многомировая отвечает на него весьма элегантно. Макрообъект тоже находится в суперпозиции, точнее, в двух разных вселенных, отличающихся историей. Ты сидишь передо мной и ешь апельсины, по-мальчишески бросая кожуру себе под ноги, а в другой вселенной твоя копия живет в уцелевшем Советском Союзе, где апельсины все ещё в дефиците. Где-то в других вселенных Шварценеггер — президент США, потому что отцы-основатели в другой истории не стали вводить поправку, мешающую железному Арни в нашем мире стать хозяином Белого Дома. В других мирах гигантские насекомые продолжают доминировать в обогащенной кислородом атмосфере, динозавры стали разумными, а Новый Свет так и остался неоткрытым.
— Погоди, Ларри. Интерпретация Эверетта тоже ведь детерминистская, как и интерпретация де Бройля-Бома, которую я терпеть не могу за декларирование предопределения?
— Почти. По Эверетту выходит, что каждая вселенная предопределена в локальном масштабе, сама по себе, но в глобальном смысле она априори предполагает свободу воли индивида. Если бы мы доподлинно знали, как живут твои копии в других вселенных, это позволило бы нам избежать неправильных поступков в нашем будущем, ведь по некоторым расчетам, время в любой другой вселенной может опережать наше. Это и будет естественный навигатор времени, столь вожделенный тобой.
— Ясно, — сказал Вайнберг. — Но ведь это нереально?
— Все реально, Андрей. Будьте реалистами, требуйте невозможного.
— Ты заражаешь меня своим оптимизмом, Ларри. Но я все же боюсь, что мы никогда не сможем проникнуть в другие вселенные. Или сможем? — Вайнберг замотал головой. — Что-то я совсем запутался. Хочешь пива?
— Пиво после апельсинов? Нет, спасибо. Я, пожалуй, пойду домой. Спокойной ночи, Андрей. Подумай ещё раз о Габриэле. Только он способен обосновать нашу с тобой работу с философских позиций.
В этом варианте вселенной Андрей решил не язвить по поводу Габриэля и убийств. Вместо этого он предпочел выйти на улицу.
— А разве мы с тобой сами не можем этого сделать? — сказал Андрей, вслед за Ларри выходя из дома. — Я, как бывший инженер, разбираюсь во многих науках, ты тоже. Понадобится — изучу философию. Помнится, ты когда-то спросил меня: «Как в такой обывательской среде, каким, судя по твоим рассказам, было твое семейное окружение, где думали лишь о куске хлеба, вырос интересующийся миром человек?». По прошествии многих лет, ознакомившись с биографией Норберта Виннера, я могу сказать, что это довольно странно — ничто ведь не способствовало такому повороту событий. Виннер был воспитан как оранжерейное растение, у которого ежедневно замеряют уровень полива, регулируют температуру и влажность в помещении, всячески лелеют. Обо мне так не заботились. Я был взращен стихийно, кое-как. Но, благодаря усвоенным книжным истинам, я неуклонно тянулся к свету, вопреки условиям, в которых вырос. Стал миллиардером, создал Кремниевую степь. Припоминаю хокку, автор которого мне, к сожалению, неизвестен.
Зимнее солнце
Не греет почву.
Но росток живой.
— Все так, Андрей. Зимой солнечные лучи не касаются почвы. Зато есть снег, — сказал Ларри, увлекая Вайнберга по направлению к своему дому. — Он тоже холодный, но под его толщей у ростка больше шансов выжить. Именно так прорастают подснежники и озимые растения.
— Я и есть подснежник, Ларри. Жизнь баловала меня лишь снегами и льдами. Но я остался небезучастным к судьбам других людей, потому что не разделял и до сих пор не разделяю общественное и личное. Меня этому научили марксисты в Советском Союзе. Правда, в эмиграции я узнал ещё кое-что: помимо общественных идеалов, за которые отдельные личности порой отдают жизнь, существует и понятие личной совести, чей голос часто противоречит зову общества. Когда я жил в СССР, то уставал от того, насколько жизнь там была детерминированной, как расписание поездов. Действия граждан в таком обществе прописаны до мелочей. Не ты выбираешь место работы после вуза, — вместо этого попадаешь под распределение, — не ты выбираешь школу и класс своего ребенка, за тебя все решает государство. Воплощенная оруэлловская антиутопия. Возможно, это и вынудило меня уехать на Запад. В условиях европейской стохастической экономики, подверженной случайностям, у человека больше возможности проявить свободу воли. Я разбогател и решил вложиться в науку. Я уже рассказывал тебе, как мне в голову пришла идея навигатора времени, который подарил бы человечеству истинную свободу воли.
— Свобода воли существовала на всех этапах развития общества, — возразил Ларри. — Навигатор времени, скорее всего, не даст нам ее, а лишь подтвердит, что она всегда была у человека, но он принимал её за стечение обстоятельств. Посмотри диснеевские мультфильмы, они же все про американскую мечту, про выбор человека. Американцы, не прояви они в свое время свободу воли, все ещё зависели бы от Англии или получили бы независимость только в конце сороковых прошлого века, подобно доминионам, которые и сегодня при совершении политических действий оглядываются в сторону королевы Великобритании. Вспомни, мы получили Конституцию только потому, что отцы-основатели дневали и ночевали в Белом доме, создавая новую республику. Они забывали о супружеском и отцовском долге, отдавая все силы служению общества
«Что я говорю? — подумал Ларри, — я ведь детерминист». Апельсины подействовали на него странным образом.
— Все верно, Ларри, — в этом вопросе Андрей был солидарен с Грантом. — Общество — это своего рода армия. Его приказы не обсуждаются, а выполняются. Индивидуалистов нет даже в дикой природе. Там это чревато одиночеством и гибелью. Как нет муравьев-индивидуалистов, обреченных на голод и вымирание без поддержки соплеменников, пчел, предоставленных самим себе, так не может быть и человека, не являющегося общественным животным. Общественное в нас заложено древними инстинктами. Даже Диоген, живший в бочке, и тот спорадически покидал свою башню из слоновой кости, чтобы поговорить с сильными мира сего. Общественное тесно связано с волей, ведь свобода воли формируется в обществе. Воля, вот что движет человечеством, начиная с того момента, как человек сумел противостоять силам природы и приручил огонь. Волевой человек, будь он даже закоренелым эгоцентристом, не станет отрицать роль общественного. Наполеон был бы никем без его армии, Ленина поддержали массы, даже в космос вышли вовсе не одиночки, ведь за них держало кулаки все человечество. Вспомни строки Киплинга о волевых людях.
Умей поставить в радостной надежде,
Ha карту все, что накопил c трудом,
Все проиграть и нищим стать как прежде
И никогда не пожалеть o том.
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только Воля говорит: «Иди!».
Ларри согласился с Вайнбергом и предложил ему продолжить разговор в другой обстановке. Все закончилось тем, что Андрей переночевал в доме Ларри и помирился с Габриэлем.
В нашей же вселенной квантовые флуктуации привели к тому, что Андрей остался у себя дома, случайно упал на апельсины и разбил себе голову об батарею.
— Смерть Кортеса я показывать не буду, — с печалью в голосе сказал Ларри. — Он был моим лучшим другом, практически братом. Скажу только, что варианты его гибели я тоже просмотрел, и эти видеозаписи есть в архиве Нуртеха. Это была утечка газа. Никакого убийства. Мы пошлем запрос в полицию, и я надеюсь, что они проведут повторное расследование.
— Все выглядит весьма убедительно, — рассудил Степлтон. — Акжан Абенов ни в чем не виноват. Все смерти случайны, что косвенно подтверждает гипотезу вероятностного мира. Свобода воли, надо полагать, все же имеет место, иначе на Земле не было бы умышленных убийств. Но Нассим Талеб оказался прав: мы все одурачены случайностью. Особенно Мишель Давенпорт, который связал все с задачей Эйнштейна и повторил ошибку Вильгельма Баскервильского. Все в мире случайно и хаотично. Только вот одного не возьму в толк: как быть со снежным шаром?
— Здесь все очень просто, — ответил Ларри. — Они все любили фильм «Гражданин Кейн» и всегда носили с собой предмет из фильма. Простое совпадение. Шары были разные и отличались количеством домиков. У кого-то был один домик, у кого-то два, и так далее. Я больше не хочу это обсуждать. Я оплакиваю каждого из них. Все они были моими сотрудниками и друзьями. Все они — жертвы случайности. Я решил подарить миру противоядие от вероятности. Это противоядие — имплант синапса, подключающий человека к другим вселенным.
— Вы возомнили себя богом, уважаемый мистер Грант, — сказал один из участников симпозиума, который все это время с отвращением слушал Ларри. — Что вы дарите миру? Очередную вредную для него технологию, которая, возможно, хуже атомной бомбы? Подобные вам люди стояли на полигоне Аламагордо, бесстрастно наблюдая, как ярко-красное облако-гриб поднимается в воздух. Такие же, как вы, изобрели порох и химическое оружие, тысячи ваших копий работали на воюющие государства, воздвигая небоскребы трупов на алтаре науки. Неважно, какой ценой будет сделано новое открытие, думают такие особи, как вы, неважно, сколько людей при этом погибнет. Дайте нам возможность жить с неопределенностью, нам ни к чему знать, сколькими способами мы можем умереть.
«А ведь он прав, — подумал Грант. — Я со страхом жду девятнадцатое октября и боюсь, что не смогу предотвратить гибель Паулины. Можно ли меня назвать счастливым? Конечно же, нет, я стал самым несчастным человеком, с резкими болями и провалами в памяти, с ежеминутной боязнью за будущее, с проклятым даром предвидения вариантов событий. Боже, могло ли быть по-другому?»
***
Открыв глаза, Габриэль увидел, что он находится в странной комнате. Было светло, откуда-то исходил свет. Кортес никак не мог определить местонахождение источника света. Комната была широкая, но пустая, без окон и дверей. Стен в комнате не было, вернее они были, однако имели причудливую форму: круглые, сужающиеся кверху. Представьте, что вас посадили в огромное яйцо. Вот это и будет комната, в которую попал Габриэль.

«Я же умер. Где я? В чистилище? Вот как оно выглядит на самом деле. Яйцо. В мифах многих народов все начинается с яйца. Брахма был рожден из яйца, содержимое которого стало Вселенной. Первый человек Пань-Гу в китайской мифологии так же появился из яйца».
Как он попал сюда? Какой злой гений переместил его из взорванного коттеджа в Кремниевой степи целым и невредимым в это таинственное помещение?
Он недолго размышлял о причинах метаморфоз. Повернувшись несколько раз в разные стороны, пройдясь вокруг в пустом пространстве, Габриэль наконец увидел, что он не один в комнате. В двух метрах от него стоял рослый человек в темном хитоне, похожий на актера в каком-нибудь древнегреческом театре. Габриэль обратил внимание на высокий лоб, придававший незнакомцу надменное выражение лица, и глубоко посаженные мрачные глаза, полные мировой скорби. Таким людям уж наверняка присущ дазайн, способность осмысливать и пытаться понять собственное бытие, задавать экзистенциальные вопросы и мучиться от невозможности дать исчерпывающие ответы на них. Присмотревшись к незнакомцу, Кортес понял, что вовсе это не грек, а скорее южноамериканский индеец или метис с индейской кровью.
— Кто вы? — тихо спросил Габриэль.
Он был, к собственному удивлению, спокоен и не боялся смотревшего на него в упор человека в темном хитоне (это был точно хитон, вне всяких сомнений). Габриэль, который несколько раз до этого кружился по пустой комнате, готов был поклясться, что незнакомец появился из ниоткуда. Может быть, это Вергилий, а сам Кортес — сменщик Данте?
— Меня зовут Нонгорман, — сообщил гость и протянул руку.
Габриэль пожал её. Рука была мягкая, пухлая, словно её обладатель никогда не держал ничего тяжелого. Нонгорман жестом пригласил Габриэля сесть на пол, оказавшийся гибким и эластичным, даже, к удивлению Кортеса, мягко прогибающимся под сидящим человеком.
16.09.2016-23.08.2021. Нур-Султан