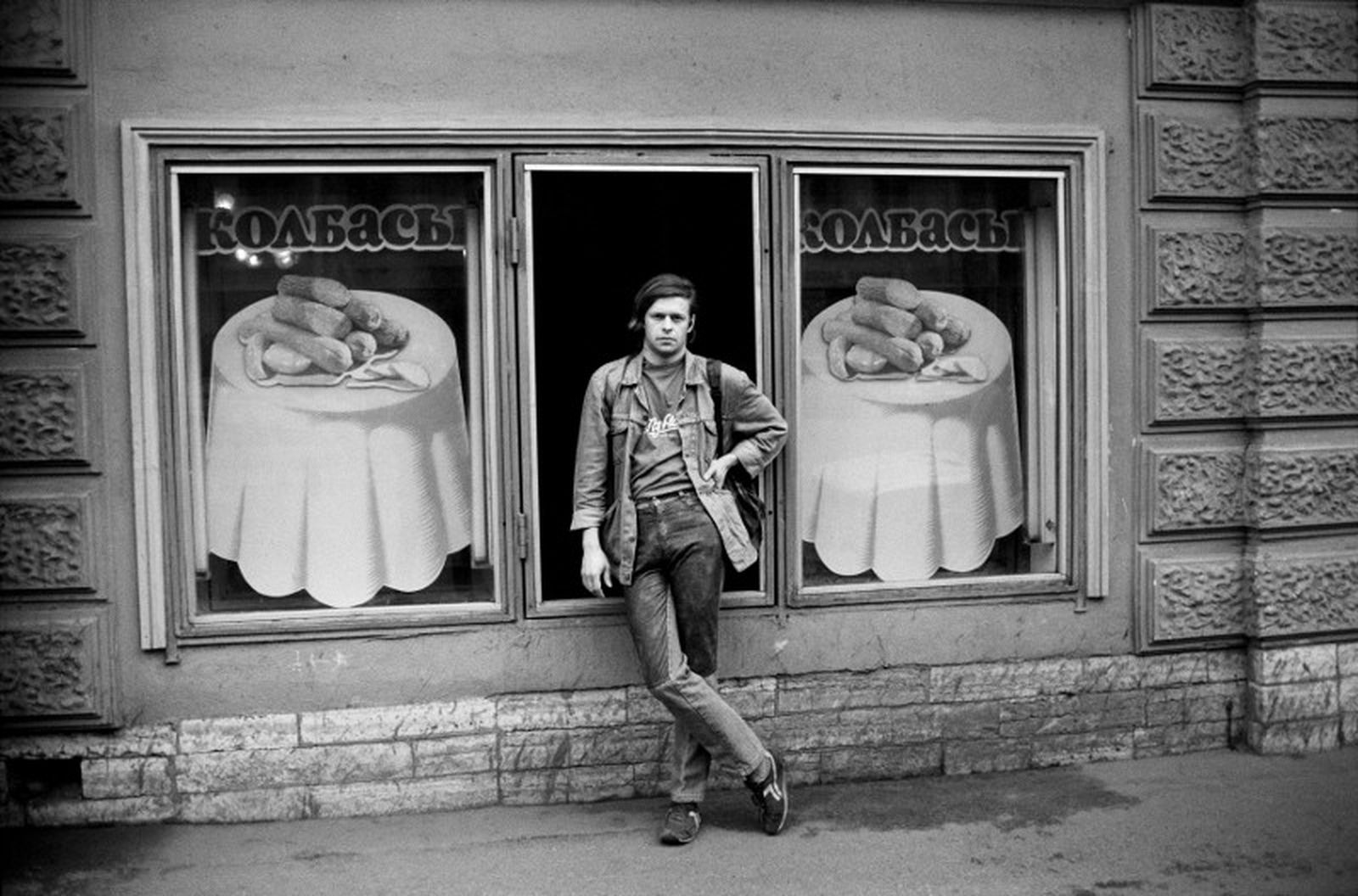27 ноября Борису Гребенщикову — одной из главной фигур ленинградского андерграунда 80-х — исполнилось 65 лет. Мы хорошо знаем БГ как музыканта, но зачастую обделяем вниманием глубину его текстов. Степан Кузнецов анализирует песню «Пепел», используя метод «close reading» и погружая нас в сложную поэтику творчества Гребенщикова.
Оказавший огромное влияние на развитие отечественной рок-музыки, фронтмен «Аквариума» известен во многом неоднозначными текстами своих песен. Поэт Андрей Вознесенский, написавший аннотацию для первой официальной советской пластинки «Аквариума» — так называемого «Белого альбома» — высоко оценивал эту неоднозначность. В недавно вышедшем учебнике поэзии Гребенщиков был «легитимирован» в параграфе о поэзии и музыке, содержащем текст «Капитана Африки». Для самого Гребенщикова слова в песне играют не меньшую роль, чем музыка. В программе «Школа злословия» лидер «Аквариума» назвал себя поэтом. Все это побуждает внимательнее присмотреться к поэтической стороне его творчества, которая остается загадочной как для любителей, так и для ненавистников «Аквариума».
Это иронично, но вполне закономерно: самые известные песни Гребенщикова — дионисийская застольная «Ну-ка мечи стаканы на стол» и «Город золотой», стихи к которому написал даже не Гребенщиков, а Анри Волохонский. Первая песня отражает тот период в творчестве «Аквариума» и БГ, когда они работали над трансформацией фольклорных мотивов в контексте мультикультурализма. Гребенщикова вообще как поэта характеризуют смены доминирующих стилей и соотносимой с ним образной системы и при этом цельность всего корпуса текстов. Вторая песня показывает, что Гребенщиков обладал хорошим поэтическим вкусом и чутьем при выборе чужих текстов для «Аквариума».
Но ни самоопределение, ни мнение авторитетов, ни богатство культурных отсылок в текстах Гребенщикова не могут быть достаточным основанием для признания их литературного новаторства. Увидеть их вклад в литературу можно, если обнаружить способность этих текстов полемизировать с традицией, предлагать свои варианты решения актуальных художественных задач.
В качестве примера одного из интересных своей загадочной суггестивностью текстов Бориса Гребенщикова возьмем «Пепел» из альбома «Табу» и проанализируем его, чтобы показать, как автор работает со словом и его смыслом:
Я вижу провода, я жду наступленья тепла.
Мне кажется порой, что я из стекла и ты из стекла.
Но часто мне кажется что-то еще —
Мне снится пепел.
Моя эффективность растет с каждым днем;
Я люблю свои стены, я называю их «дом».
Ко мне поступают сигналы с разных сторон;
Мне снится пепел.
Мне нравится сталь тем, что она чиста;
Мне нравится жизнь тем, что она проста.
Напомни мне улыбнуться, когда ты видишь меня;
Мне снится пепел.
Гребенщиков в пространстве диалога
Эта песня известна клавишной партией Сергея Курехина и множеством отсылок к Гэри Ньюману. Известно, что «We Are Glass» (Мы — стекло), «Remind Me To Smile» (Напомни мне улыбнуться), «I Dream of Wires» (Мне снятся провода) — названия песен Ньюмана. Но очевидно, что «Пепел» не является кавером ни одной из них. У БГ подобный ход — цитирование строк или названий песен зарубежных рок-музыкантов — встречается достаточно часто: взять хотя бы «Сыновей молчаливых дней» и «Героев», названия которых очевидно отсылают к песням Дэвида Боуи, но не повторяют их содержание. Это характерно для советского рока вообще: обращение к западным коллегам редко ограничивалось подражанием. Зачастую был важен именно диалог.
Подобный диалог, но не с западным роком, а с русской лирической традицией, происходит и в тексте «Пепла». Образ русского лирического субъекта, сложившийся в золотом и серебряном веках в русской поэзии, стал впоследствии объектом препарирования и деконструкции. Это неудивительно: катастрофы первой половины века, культурный кризис и провал в поэтической традиции — все это наделило лирического персонажа прошлого особым ностальгическим мерцанием. Чаяния, надежды и представления эпохи до «Великого Перелома» была безвозвратно потеряны, некоторые из них — подстроены под нужды соцреализма. В классическом лирическом субъекте ушедшей эпохи при всей его сложности был позже обнаружен ряд общих мест: нацеленность на саморефлексию, гражданская мысль о родине, психологическая атрибуция с природой и страстные обращения к возлюбленной.
Поэзия модернистов, потерявшая «право голоса» после наступления монополии соцреализма, ставила себе задачу переизобрести субъектность и найти новый язык, способный более эффективно выразить человеческое в человеке, прорваться к внезнаковой реальности. В результате было получено нечто вроде гётевского гомункула: солипсистский, элитарный и ориентирующийся на тезаурус личного опыта субъект модернизма, в своих авангардистских проявлениях порвавший со всеми конвенциями. «Пепел» Гребенщикова представляет собой игру с премодернистской и модернистской моделями субъектности. Он интересен тем, что реализует отказ от «человеческого»: от того, за что более всего держался русский лирический субъект.
Гребенщиков за гранью человеческого
Нечеловеческая, неантропная оптика — явление, безусловно, не новое. Она существовала с древних времен, но была очень условной, что и не скрывалось. Ведь и герои басен не передавали мироощущения зверей, а были аллегорическими образами тех или иных человеческих качеств. Серьезная попытка передать неантропную оптику предпринималась Львом Толстым в «Холстомере», но и ее можно назвать примером ложной атрибуции, с помощью которой писатель обострял присущее только человеку собственничество.

То, каким образом неантропная оптика проявлялась в поэзии, заставляет говорить о ней скорее как об утопическом проекте. Действительно, освободиться от человеческого во взгляде поэту-человеку практически невозможно. Даже сегодня, выпытывая лирические откровения у голосовых помощников и составляя машины по сочинению стихов, мы делаем ни что иное, как совершаем ложные атрибуции, жесты парейдолии, очеловечивающие нечеловеческое. Подход Гребенщикова, осуществленный в выбранной песне, очень интересен: само «человеческое» рассматривается им как конструкт, с которым собственно и играет «Пепел». Язык становится в таком случае не средством субъективации, а непреодолимым барьером для нее, а то, что считалось «искренностью», проявлением «настоящего» в человеке, становится лишь насильно вставленным в его уста. В «Пепле» эта идея обостряется в ситуации, когда классические, ставшие общими лирические места проговариваются с особой тщательностью, и их сконструированность высвечивается до предела. Их использование становится знаком не человеческой искренности, а желания скрыть «нечеловеческое», инаковое.
Так, созерцание природы оборачивается механическим взглядом на провода, на эти непременные атрибуты урбанистического ландшафта, а духовное общение и взаимоотражения в любви — буквальной констатацией, «что я из стекла, и ты из стекла». Гимн рефлексии и онейрической фантазии приговаривается в припеве к полному уничтожению — пеплу, конечному остову и «белому шуму» органики.
Гребенщиков и патриотизм машины
Во втором куплете остраняются гражданский пафос и патриотизм. Многообразие человеческих качеств и гамма добродетелей упрощаются до общей «эффективности», а горячо любимая Отчизна — до «своих стен». Концепция «всеотзывчивости», присущей поэту экстраординарной чувствительности сводится к «сигналам с разных сторон».
Так и радикально упрощается жизнь, а место протеизма и фертильности органического занимает стерильность стали. Непроизвольный жест эмоции по отношению к объекту любви, который в этом случае может касаться еще одного «классического» общего места — богообщения. Для молитвы как поэтического жанра типичен лирический сюжет обращения к Богу, в котором утверждается сила Бога, и, соответственно, восхищение человека Его могуществом, радость от Его милосердия. Здесь же возникает в результате богообщения «умиление сердца». Но формула естественной радости «когда я чувствую Тебя, я улыбаюсь» заменена императивом «напомни мне улыбнуться», схожим с командой в программном алгоритме.
Лексические средства, стилизующие речь под машинную, присутствуют и в других песнях Гребенщикова, например, в знаменитой «Иду на ты» из культового фильма «Асса». Но наиболее убедительно неантропная оптика представлена в «Пепле»: производя аберрации при воспроизведении установленных кодов, машина-стихотворец непроизвольно вскрывает свою «нечеловеческую» оптику. Ничто так не выдает свою не-антропность, как не-человек, стремящийся казаться человеком. Таким становится субъект «Пепла», из-за своего сверхусилия в попытке очеловечиться предстающий перед человеком в свете эффекта «зловещей долины».
Не стоит считать, что стремление воспроизвести неантропную оптику осуществляется как прием ради приема. Скорее, в фигуре автомата по производству человека особенно остро выражено присутствие «нечеловеческого», коренящейся внутри человека инаковости, поиску которой посвящена не одна песня Бориса Гребенщикова.