Ростки империи стали проглядывать в новой российской действительности практически сразу после распада СССР. Это проявлялось и в символике, и в архитектуре, и в риторике. А в нулевые дошло и до государственной идеологии. Причины этого процесса исследует историк и культуролог профессор Павел Хазанов в книге «Россия, которую мы потеряли», шаг за шагом показывая, как страна с демократическими амбициями вновь превратилась в империю.
Публикуем два отрывка из новой книги Хазанова о том, какую роль образы «утраченной России» сыграли в легитимации сегодняшних российских элит и как реваншистские воспоминания о дореволюционном прошлом повлияли на идеологию постсоветской России. В первом речь идет о том, как возвращение имперства в 90-е оправдывалось «красно-коричневой» опасностью. Во втором — о новом культе царского министра Столыпина, от которого путинский режим позаимствовал умение манипулировать выборами, ксенофобию и авторитарную жесткость.
Имперское ретро и постсоветская нормальность
В декабре 1991 года произошла символическая передача власти от СССР к постсоветской Российской Федерации: над Кремлем вместо советского флага с серпом и молотом подняли досоветский российский триколор. Однако удивительно сложная история возвращения к досоветскому российскому гербу, двуглавому орлу, известна куда меньше. Первоначально создатели современного герба хотели просто скопировать прежний имперский символ; в 1992 году они представили свой проект Верховному Совету, но Совет его отверг. В конце 1993 года, сразу после произошедшего осенью конституционного кризиса (по сути, гражданской войны в миниатюре), по указу Ельцина приняли другой вариант. Новый орел был создан со знанием геральдики, и с тех пор Россия использовала именно такой герб, хотя до 2001 года он не был официально утвержден Думой.
Занимавшиеся его разработкой специалисты по геральдике увеличили центральную часть герба Российской империи и внесли еще несколько небольших стилистических изменений. Однако среди этих изменений есть одно несколько неожиданное: одеяние и разворот всадника, изображенного на щите на груди орла. Всадник на постсоветском гербе скачет в направлении, противоположном движению святого Георгия на гербе имперском. Дракон, которого он убивает, черный, а не золотой, а на самом всаднике уже нет шлема. В итоге Управление геральдики назвало фигуру, изображенную на постсоветском гербе, не святым Георгием, а просто «всадником, поражающим копьем дракона». Зачем эти мелкие изменения? Авторы проекта объясняют:
…Всадник, поражающий копьем дракона, — эмблема не только и не столько столицы, сколько древний символ победы добра над злом, готовности всего народа отстаивать и защищать свою свободу и независимость от врага, если такой объявится. <…>
Итак, тысячелетний путь, который прошли символы Руси и России, привел к возрождению исторически традиционных государственных эмблем. Важно, однако, что в течение многих столетий эти эмблемы изменяли свое содержание. Первоначально и герб и флаг были собственностью главы государства — княжества, царства, империи. Вспомним еще раз закон Российской империи об этих эмблемах: «…государственные герб и флаг относились к внешним правам и преимуществам русского самодержца». Февральская революция 1917 г. сделала их достоянием общества, покончив с пережитками феодализма и средневековья в сфере государственной геральдики. Первоначальная жизнь республиканских символов в 1917 г. была более чем краткой. В эйфории победы большевики отказались от символов, имевших многовековую историю, и создали символы не осуществившейся утопии — серп и молот в качестве герба и красный флаг.
Возвращение к исторической символике — это призыв не только к консолидации общества, его примирению, к своим корням. Это одновременно и призыв к повседневной разумной и конструктивной работе во славу Отечества и во благо каждого из его граждан. Хотелось бы надеяться, что Российская Федерация окажется достойной тех символов, под сенью которых жили многие поколения наших предков.
В дискурсе Управления геральдики воспроизведен ряд общепонятных соображений, касающихся значения досоветского наследия в постсоветской России <…> Это наследие рассматривается как вечное и органичное для российского государства, в то время как большевистский проект был ошибочен и абсурден именно в силу своей утопичности. Постсоветская Россия, полагают авторы текста, больше не поддастся такого рода «эйфории». Вместе с тем важно помнить, что современная Россия отличается от своей досоветской самодержавной предшественницы. Она преодолела «пережитки феодализма и средневековья» (любопытно употребление здесь оборота, типичного для марксизма-ленинизма). Преодолен и утопический советский проект.
На горизонте же никаких грандиозных проектов не намечается, кроме «консолидации и примирения», а также обращения к «корням», искать которые следует в российском (не советском, по крайней мере — пока) прошлом. Измененный имперский герб — хороший пример практичного, комфортного наследия. Он и не должен напоминать об империи, выросшей из средневекового Великого княжества Московского с его святым Георгием. Его смысл не в том, чтобы заставить задуматься об исторических причинах падения Российской империи и победы большевиков. «Мы», жители постсоветской России, должны просто радоваться этому символу как тому, что принадлежит нам по праву. Коротко говоря, досоветское прошлое должно представляться нам как некое приятное, постисторическое, нормальное ретро.
Та же вера в приятное имперское ретро проявилась и в застройке постсоветской России, особенно в Москве. Московские мэры 1990-х годов, как и градостроители, характеризовали свои проекты, апеллируя к расплывчатому представлению о дореволюционной норме. Так, Юрий Лужков (мэр города в 1992–2010 годах, в 1970-е годы входил в правительство Москвы), вспоминая дискуссию о возвращении дореволюционных названий районов и улиц в 1990 году, писал:
…Давайте вернемся к истокам. <…> Мы пригласили специалистов, обвели исторические районы на карте. <…>…И обнаружили подлинную Москву, ту самую, что потерялась за искусственной сеткой «брежневских», «кировских» и прочих анклавов. Увидели город, пусть с некоторыми трансформациями, но все же сохранивший память о прошлом. Услышали старые забытые названия: «Тушино», «Нагатино», «Тропарево».
Менее чем десять лет спустя к аналогичной риторике прибегает Александр Кузьмин, главный архитектор Москвы:
Сформирован девиз нового генплана Москвы до 2020 г. — «Город, удобный для жизни людей», — т. е. просто и ясно раскрыта чисто гуманистическая направленность данного важного градостроительного документа. Пожалуй, впервые в отечественной практике при разработке подобного документа не было политического диктата и идеологического насилия над его авторами. <…> Сейчас, в конце 1990-х, мы говорим, что хотим видеть нашу столицу просто комфортным городом.
Для Кузьмина норма — это комфорт и удобство, для Лужкова — подлинность («подлинная Москва»). С точки зрения обоих, работа, направленная на создание постсоветской нормальности, выгодно отличается от оставшегося в прошлом советского проекта, искусственного и неудобного. Схожую риторику мы наблюдаем и у Владимира Ресина, в 1990-е годы возглавлявшего московское строительство:
Откуда взялись средства на реставрацию в таком масштабе? <…> Их дали по доброй воле те, у кого деньги появились в начале девяностых годов: предприниматели, коммерсанты, банки, фирмы, отечественные и иностранные. Они пожелали начать дело в престижных зданиях, древних стенах, обновленных внутри по стандартам конца ХX века. Во всем мире такие строения — самые дорогие и вожделенные для преуспевающих в бизнесе людей.
Здесь ясно обозначена цель плана по застройке Москвы: создать благоприятные условия для экономически заинтересованных сторон ельцинского времени, то есть новых российских предприятий. Предполагается, что их заказчикам, живущим в столице и привыкшим к городской жизни, тоже комфортно вести бизнес в «престижных зданиях» и «древних стенах», благодаря которым возникает ощущение, что в постсоветской Москве все так же, как и во всем мире. В общей сложности эти утверждения объясняют популярность так называемого лужковского стиля, определившего облик Москвы в 1990-е годы и в первое десятилетие XXI века. Прежде всего этот стиль проявился в крупных реставрационных проектах, результаты которых, по словам архитектурного критика Сабины Гёльц, «трудно отличить от новых построек».
Кроме того, Лужков так усиленно поддерживал строительство домов в стиле модерн, что, по язвительному замечанию одного критика, в городе сооружалось по «двести памятников архитектуры в год». Мэр постсоветской столицы так настойчиво отдавал предпочтение имперскому ретро, потому что оно казалось ему понятным символом удобства, комфорта, постсоветского технократического прагматизма и капитализма.
Имперское ретро олицетворяло идею нормальности как политический проект.
Вместе с тем начиная с девяностых, имперское ретро в России явно функционировало не только в регистре приятной постисторической нормальности. Возьмем, например, рекламу торгового дома «Пересвет» 1993 года. С одной стороны, сам рекламный щит «Пересвета» апеллирует к знакомой досоветской эстетике. Но реклама обретает значение в контрасте с другой, тоже своего рода рекламой — лозунгом: «Мы строим коммунизм!», выдержанным в конструктивистском стиле и помещенным на торец здания на Серпуховской (бывшей Добрынинской) площади в 1970-е или 1980-е годы. Примечательно, что «Пересвет» предпочел не закрыть прежний лозунг, а разместить прямо под ним свой вызывающий ответ: «Мы строим новую Россию!»

Зачем вешать такой ответ, вместо того чтобы просто избавиться от старого лозунга? И почему именно «Пересвет» разместил такой плакат? Этот ответ обретает смысл в конкретный исторический момент — в 1993 году, когда произошел конституционный кризис, который Ельцин в конечном счете разрешил с помощью вооруженной осады парламента, отстранившего его от должности; свои действия Ельцин обосновал тем, что его политические противники — «красно-коричневые» реваншисты, мечтающие вернуть страшные сталинские времена. Реклама «Пересвета», выполненная в духе имперского ретро, намекает на эту конфронтацию, споря с советским наследием. Капиталистическая «новая Россия», которую строит «Пересвет», противостоит бессмысленному, утопическому отклонению от правильного пути — «строительству коммунизма». Бизнес здесь предстает как менее утопическая, а потому более нравственная, более достойная задача.
Наконец, эта реклама настаивает на тесной связи между постсоветским капитализмом и возвышенной целью строительства «новой России». По поводу такого высокопарного заявления легко иронизировать, особенно в случае «Пересвета» — недолго просуществовавшей фирмы с сомнительным (мягко говоря) юридическим статусом, которая «строила новую Россию», обменивая автомобили российского производства на кожаные куртки в Китае. Легко иронизировать и по поводу других сооружений в стиле имперского ретро, как Виктор Пелевин, придумавший «слоган» для храма Христа Спасителя — «солидный Господь для солидных господ». Однако смысл этой рекламы «Пересвета», четко разграничивающей друзей и врагов, далек от иронии. По сути, она вопрошает:
«Шутки в сторону, ты с нами или с этими, красно-коричневыми?»
И сам факт, что «Пересвет» своим ответом не закрыл коммунистический лозунг, говорит о необходимости постоянно помнить об этом делении на своих и чужих: «они» обманывались, полагая, что строят вековечный коммунизм, но и «мы» можем извлечь кое-какую пользу из этой вечности — в конце концов, если и в самом деле предстоит построить новую Россию, наше «мы» может распасться под грузом неудобных вопросов — кого именно она представляет и кому выгодна. Пока же «красно-коричневая» угроза остается (разумеется, со своей вековечной «строительной» миссией) по ту сторону баррикад, досоветское/антисоветское «мы» тоже может сохранять единство в режиме своего рода бессрочного чрезвычайного положения.
«Хозяйственность»: путинизм как столыпинство
Уже в начале 1990-х годов антисоветский дискурс о досоветском прошлом <…> оказывается чрезвычайно на руку новым (но на самом деле старым) правительственным кадрам. Мэр Лужков использует его в своих интересах, проводя собственную программу имперского ретро для «массовой элиты», и прямо апеллирует к логике столыпинства, объясняя свой оправданный в чрезвычайной ситуации авторитаризм. В частности, в 1990 году, когда Лужков еще не занял прочно пост мэра, во время конфронтации с Моссоветом скептически настроенная публика спрашивает его: «Скажите, а на какой платформе вы стоите? Вы демократ или коммунист? Или, может, независимый?» — на что Лужков отвечает, объясняя свой подход к управлению: «Я был и остаюсь на одной платформе. Хозяйственной. <…> Я из партии хозяйственников!» И продолжает:
Этот принцип… дал возможность иметь сегодня в московском правительстве и работников старой системы, что развалилась в процессе преобразований, и тех, кто боролся с этой системой, и тех, кто пришел из других отраслей. <…> Вот эту философию исполнительной власти мы проводили с самого начала при подборе кадров.
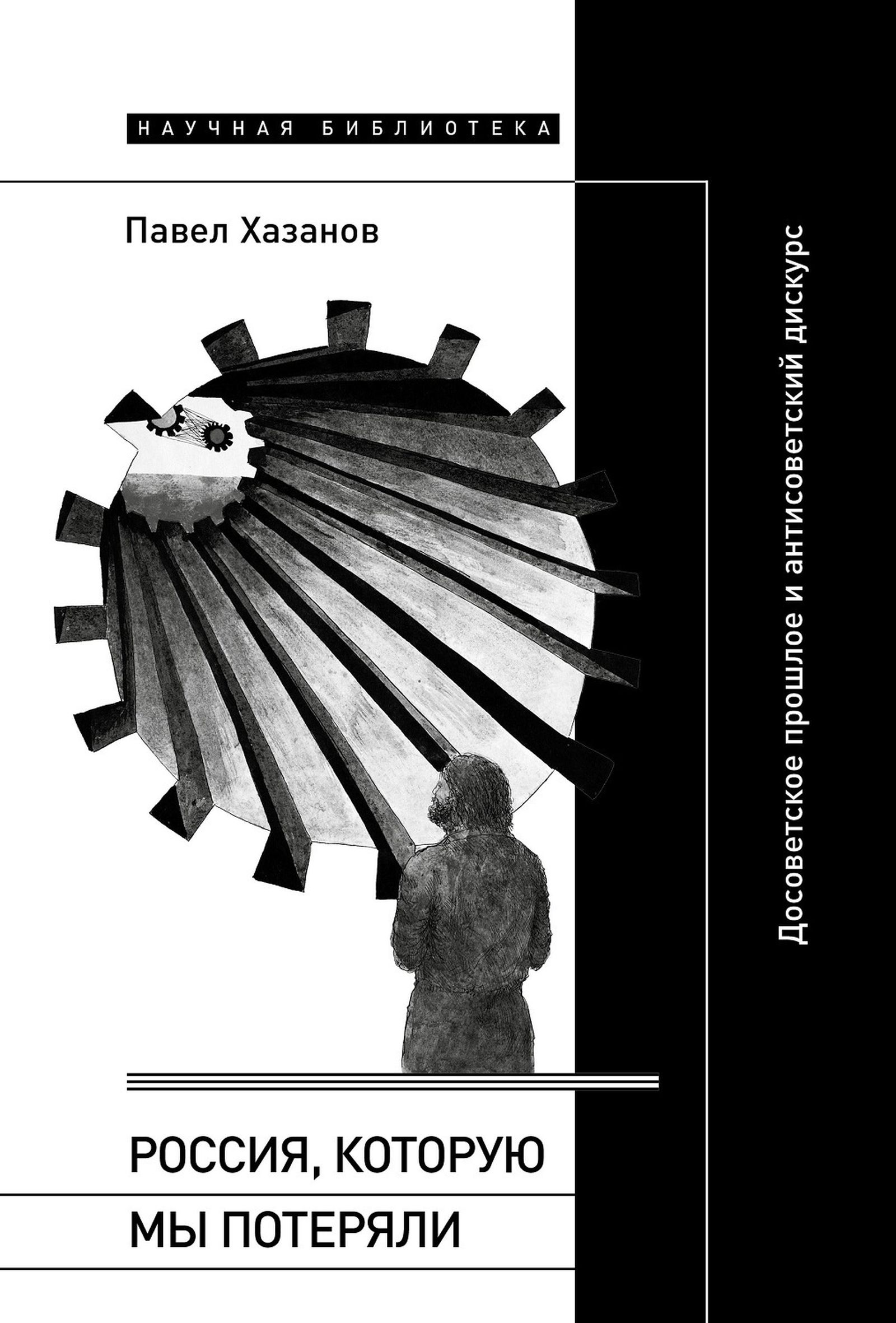
«Философия исполнительной власти», предлагаемая Лужковым, в точности воспроизводит миф о столыпинской власти, не ориентированной ни на левых, ни на правых. К чему это мелкое политиканство, если важна лишь «хозяйственность». Хозяйственность эта сочетается у Лужкова с пристрастием к дореволюционной «подлинности» московской застройки. Все это вопрос здравого смысла — общего здравого смысла, действующего для «нас», для того чтобы удовлетворить наши желания неоимперской интеллигенции, но без скучных дискуссий в законодательных органах. Главное риторическое оружие, которым столыпинство оберегает режим, состоит в утверждении, что даже демократы, которым политики вроде Лужкова обязаны своей карьерой, не должны приставать с вопросами к аппаратчику, проявляющему «хозяйственность», хотя бы этот аппаратчик прошел через двадцать лет партийной дисциплины. Имперское ретро выступает убедительным доказательством хозяйственности, потому что сигнализирует избирателям, что они и их руководство разделяют одни и те же столыпинистские ценности. Другим доказательством, по иронии судьбы, становится легкость, с какой аппаратчик-столыпинец отвергает претензии парламента к его методам управления, — если только он может доказать, что эти претензии исходят от недобросовестных лиц, не составляющих трезвомыслящее «мы». И мы знаем, что скорее всего так и есть, потому что неизменный враг столыпинца — «красно-коричневые». Пока столыпинство изображает своего политического противника как безумный союз левых и правых, невозможно представить себе законное противостояние такой идеологии власти ни с левого, ни с правого фланга.
Столыпинец «нормален», а попытки противостоять ему — нет.
Наиболее лаконично эта парадоксальная, но, как мы уже видели, в основе своей привлекательная идеологическая нелепость выражена в путинистской идее «управляемой демократии». Разработку этой концепции можно проследить в истории культа Столыпина, который явно создавался в поддержку постсоветской правящей элиты, начиная с эволюции книг Святослава Рыбаса о Столыпине в жанре популярной биографии и заканчивая открытием памятника Столыпину в Москве в 2012 году — что знаменательно, сразу после летних протестов против фальсификации результатов выборов и избрания Путина на третий срок.
Хотя <…> писатель Святослав Рыбас значится в рядах «заметных интеллектуалов националистического толка» еще с 1985 года, до перестройки он не был так уж заметен. Тиражи его книг нельзя назвать огромными (375 000 экземпляров в период с 1983 по 1985 год), особенно по сравнению с такими авторами, как Астафьев и Бондарев. Однако в молодости Рыбас явно добился успеха в кругах русской националистической элиты, заведовавшей издательством «Молодая гвардия», где вышло большинство его книг. После распада СССР Рыбас нашел в социальном ландшафте новую нишу. В 1990-е годы он входил в число инициаторов восстановления храма Христа Спасителя и стал почетным членом и профессором Академии военных наук РФ. Примерно в то же время, когда Говорухин выпустил свои столыпинистские документальные фильмы, Рыбас — совместно с Ларисой Таракановой — написал биографию Столыпина, озаглавленную «Реформатор» и вышедшую в издательстве технической литературы «Недра».
В целом панегирическая интерпретация жизни и деятельности Столыпина в этом тексте схожа с трактовками Говорухина и Солженицына. Рыбас и Тараканова усиливают акцент своих предшественников на блистательном капиталистическом элементе столыпинства и категорично заявляют о нем как об идеале для постсоветского настоящего. Они уделяют особое внимание благородному происхождению Столыпина. Они сравнивают его взгляд на мир с мировоззрением Левина из «Анны Карениной». Главное, они продвигают мысль, что столыпинистский новый человек начала ХX века являл собой здоровый сплав старой аристократии с новым промышленным классом. Для «России, которую мы потеряли» предреволюционный период был славной порой, когда социальная сила «сплачивала два типа, русский дворянский и буржуазно-либеральный, в один, новый». Именно о представителях этого смешанного типа, предвестниках будущего, Рыбас и Тараканова говорят:
…Кто же создал «Новую Америку» на Юге России, великую крестьянскую Сибирь, первоклассные оружейные заводы, кадры инженеров, летчиков, земской интеллигенции?.. Откуда они взялись? Из «лишних»? Из «идиотизма» русской жизни? Нам не ответить на эти вопросы без Столыпина.
Авторы продолжают:
Столыпин — это не только личность, но имя целой эпохи нашей жизни, которая была надломлена страшным катаклизмом и которая может возродиться, если мы вернемся к здравому смыслу. Как ни странно, речь о здравом смысле, всегда кажущаяся простой, обычно связана с крайним противостоянием сторон.
Как и у Лужкова, столыпинство предстает здесь в знакомых категориях нормы, здравого смысла, с типичной оговоркой о непринадлежности «ни к левым, ни к правым». Авторы книги еще более отчетливо проговаривают мысль Солженицына и Говорухина, что столыпинистские новые люди — духовные предки позднесоветской и постсоветской интеллигенции. Более того, Рыбас и Тараканова подчеркивают, что именно государство в лице Столыпина обеспечивает такой сплав. Сам Столыпин, дворянин на государственной службе, человек деловой и хозяйственный, еще в начале 1900-х годов санкционировал этот синтез дворянской культуры и буржуазной добродетели.
Однако, что еще важнее, в биографии Рыбаса и Таракановой Столыпин подкрепляет мысль, что власть, будь то до или постсоветская, должна действовать от лица «демократического» лагеря, но в режиме чрезвычайного положения, при котором «избыточная» демократия представляет явную и несомненную опасность. Эта мысль проступает еще отчетливее в новом издании книги, подготовленном Рыбасом в 2003 году, как раз к началу путинской эпохи. Это издание вышло в серии ЖЗЛ «Молодой гвардии» под названием «Столыпин», но по большей части представляет собой дословную копию текста 1991 года, хотя автором указан уже только Рыбас.
Однако некоторые части биографии заметно расширены; особенно это касается того, как умело Столыпин фальсифицировал результаты выборов.
Принимаясь за эту тему, Рыбас проявляет себя как вышедший из среды «Молодой гвардии» националист старой закалки, какими не были ни Солженицын, ни Говорухин. Последние — не исключено, что сознательно, — не стали упоминать, что подготовка Столыпина к выборам носила открыто антисемитский и антипольский характер, тогда как для Рыбаса, продолжающего линию Василия Шульгина, в этом нет ничего зазорного. В конце концов, выборы были «опасным делом», так как «литовцы, белорусы и евреи» «обострили бы национальные противоречия». Но хотя
Рыбас симпатизирует протофашистским наклонностям Столыпина, <…>, тему предвыборных махинаций он затрагивает с иной целью — показать, как успешное, энергичное и нацеленное на реформы правительство должно оправдывать авторитарное использование своей платформы изнутри парламентской парадигмы.
По мнению Рыбаса, правительство столыпинского типа должно подтасовывать результаты выборов ради спокойствия в стране и уж тем более должно воздействовать на сам законодательный процесс — но опять же неизменно провозглашая, что это делается для блага, чтобы в будущем сложилась более совершенная демократия. Поэтому в предисловии к изданию 2003 года Рыбас замечает:
Для Столыпина было очевидно, что народная крестьянская масса, пройдя через испытания княжескими усобицами, монгольским нашествием, Смутным временем, петровской модернизацией, видит оправдание Власти только в фигуре царя-заступника. Между царем и народом нет средостения, нет общественных опор — эти опоры надо строить. Строить, делясь властью царя.
В другом месте мы узнаём:
Столыпин мог повторить мысль А. Пушкина: «В России только одно правительство — европеец». Иными словами, долг власти заключался в улучшении народной жизни, не дожидаясь просьб со стороны самого народа, инициируя перемены сверху.
Еще в одном месте он называет раздел о Третьей Думе, выборы в которую Столыпин сфальсифицировал, «Призрак новой России». Наконец, в разговоре о политическом наследии Столыпина Рыбас цитирует Василия Розанова:
Столыпин показал единственный возможный путь парламентаризма в России… <…> Россия решительно не вынесет парламентаризма… как главы из «истории подражательности своей Западу»…
Биограф заключает:
Что к этому добавить?
Столыпин как бы говорил всем русским:
— Не надо бояться нового. Не надо искать укрытия только в старых традициях. Смело идите навстречу переменам и боритесь за благо России.
Все эти цитаты и настроения опять же перекликаются с риторикой Солженицына и Говорухина. Солженицын тоже ссылается на розановский панегирик Столыпину, навеянный идеей «особого пути», и упоминает «хазар и ливонцев» как веское основание пока (или совсем) не заводить в России демократию. Говорухин горячо соглашается с широко известными консервативными высказываниями Пушкина вроде: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»
Однако у Рыбаса те же настроения в 2003 году приобретают иную окраску, нежели у Солженицына или Говорухина в 1960–1990-е годы. Главное различие в том, что для Рыбаса новая Россия, призраком которой была столыпинская Дума, — уже свершившийся факт.
Столыпинские методы настолько тесно смыкаются с макиавеллиевским путинистским применением политических технологий, что разницу между ними и искать не стоит.
Более того, отсылки Рыбаса к Макиавелли и к словам Розанова намекают, что столыпинистское решение полностью соответствует современным европейским нормам, поэтому нет необходимости и дальше рассматривать его как переходное. Столыпинизм — своевременная, опирающаяся на здравый смысл интерпретация европейских институтов, таких как парламентская демократия. Или, говоря словами Путина (впервые прозвучавшими в 2005 году в его обращении к Федеральному собранию, а затем вошедшими в сборник «Суверенитет», напечатанный в 2006 году издательством с подходящим названием — «Европа»), «Россия — это страна, которая выбрала для себя демократию», ведь «Россия была, есть и, конечно, будет крупнейшей европейской нацией»:
В течение трех столетий мы вместе с другими европейскими народами рука об руку <…> продвигались к [разным] социальным завоеваниям. Повторю, все это мы делали вместе, в чем-то отставая, а в чем-то иногда опережая европейские стандарты.
Та же мысль звучит в еще одном правительственном тексте 2006 года, сборнике «Лидеры», написанном для просвещения партийных кадров «Единой России». Здесь Столыпин — рассказ о котором списан из книги Рыбаса, иногда почти слово в слово, хотя и без указания источника, — поставлен в один ряд с другими известными мировой истории консерваторами, такими как кардинал Ришелье, Михаил Сперанский и Теодор Рузвельт. Столыпин — такая же неизменно актуальная фигура, как и они.
Коротко говоря, столыпинство начинает определять современное российское государство, когда оно оправдывает себя в глазах своей изначальной аудитории — постсоветского среднего класса, в интересах которого оно действует. Столыпин — образцовый протопутинский «суверенный демократ», который ставит нелегитимную власть на путь реформ, признает необходимость некоторого распределения власти посредством внешне демократических институтов, но вместе с тем умело их обходит. Он утверждает, что строго следует букве закона, даже когда прикладывает невероятные усилия, чтобы перетянуть закон на свою сторону. И если в трактовке Солженицына (и даже Говорухина и Рыбаса) он настаивает, что все его маневры — ради будущего, более демократического режима, то к середине первого десятилетия XXI века становится ясно, что нужная форма «суверенной демократии» уже найдена. В предисловии к «Лидерам» эта мысль обозначена совершенно четко:
Политика партии «Единая Россия» основана на понимании социальных реформ как постепенных преобразований, осуществляемых демократическим путем. Долговременная комплексная модернизация страны с опорой на ответственную национальную коалицию, включающую в себя большинство населения, — таким нам видится будущее российского консерватизма и национального консервативного лидерства.
Читателю уже должно быть понятно, как толковать такие с виду демократические предуведомления. С точки зрения столыпинства поддержка «большинства населения» — вещь субъективная, а субъектом в данном случае выступает «ответственная национальная коалиция», поддерживающая «комплексную модернизацию». Если же кто-то утратил ответственность или интерес к модернизации, то, согласно логике столыпинства, они лишились рассудка, и причислять их к большинству не стоит. Несколько позже — на мой взгляд, после массовых протестов 2011–2012 годов против избрания Путина на третий срок — картина пропутинского единства среди всех ответственных капиталистов и демократов дает трещину. Именно тогда путинская риторика «суверенной демократии» в публичной сфере стала сосуществовать с другими, более реакционными и часто несущими на себе печать позднеимперских тенденций идеологиями власти, в частности евразийством Александра Дугина. Однако
путинизм, по большому счету, не так уж много почерпнул из евразийства, тогда как его приверженность столыпинству остается неизменной.
Неслучайно в 2009 году, возлагая венок на могилу Солженицына, Путин выразил восхищение личностью покойного советского диссидента как «государственника», употребив слово, которым сам Солженицын неизменно определял Столыпина. Едва ли стоит удивляться, что памятник Столыпину в Москве установили по личной инициативе Путина, побывавшего на его открытии в декабре 2012 года, сразу после подавления демократического кризиса. Красноречив и набор участников этого мероприятия. Присутствовавший там Илья Глазунов сообщил журналистам, что предлагал установить такой памятник еще в позднесоветские годы, после того как познакомился с Аркадием Столыпиным во Франции. Скульптор, работавший над памятником, учился в Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Путин и Медведев лично финансировали эту работу, а Алексей Кудрин, тогдашний министр финансов, до сих пор считающийся наиболее известным системным либералом в России, якобы вложил в памятник свою месячную зарплату. И конечно, в лучших традициях Лужкова (хотя Лужков на тот момент уже два года как покинул пост) предполагалось окружить памятник сквером в стиле рубежа XIX–ХX веков — «островок того времени в самом центре современной Москвы».
Впоследствии, в начале 2017 года, в ходе экономических и геополитических перипетий третьего президентского срока Путина некоторым системным либералам поручили разработать план выхода России из экономического кризиса. Этот аналитический центр, разумеется, получил название Столыпинского клуба. К 2022 году работа Столыпинского клуба, по-видимому, сошла на нет, Кудрин среди его членов уже не значится, тогда как Институт имени Столыпина остается, похоже, действующей организацией с десятком видных экспертов и консультантов, включая пропутинского олигарха Олега Дерипаску. Институт предлагает широкий набор рекомендаций для масштабных реформ, направленных в основном на создание более благоприятных условий для ведения бизнеса в России.
Как и подобает в столыпинистской логике, демократия нигде не упомянута, хотя, вероятно, и смутно маячит где-то на пути к будущему, когда в России наконец сложится общество среднего класса.
Согласно подсчетам Института, формирование этой группы, которую «Единая Россия» назвала бы «ответственной национальной коалицией, включающей в себя большинство населения», а Солженицын — «десятком работников», произойдет к 2030 году, в самый разгар «второго» «обновленного» президентского срока Путина.












