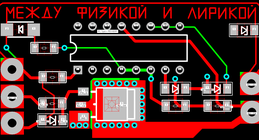Повесть-музыкальный альбом «Рюкзак»

«Рюкзак» — это повесть и одноимённый музыкальный альбом Аркадия Романова, с противоположных сторон рассказывающие о соперничестве двух школьных друзей за сердце одноклассницы. Нелюдимый Купцов стал героем песен альбома, а энергичный Лунгин — авторским «я» исповедальной повести. Это изобретательно изложенная история, близкая всем, кто учился в школе.
Можно слушать музыку, не зная о книге, и наоборот — читать повесть, не слушая альбом, но одновременно каждая песня — это саундтрек соответствующей главы.
Не влюбляйтесь в своих одноклассниц — это сделает вас глупыми и несчастными. Если вы уже закончили школу, то вы знаете, о чём речь.
Каждая глава этой повести соответствует песне альбома. Но песен на одну больше. Проза и музыка описывают события по-разному, но они едины. Как день и ночь одного и того же дня.
Эти истории живут и по отдельности, хоть они никогда не происходили. Школьники и учителя, собаки и их владельцы — всего этого никогда не было и не могло быть. Теперь они здесь.
Они не заслуживают другого.
I
Я сидел за партой и мысленно раздевал Юлю глазами. На ней была чёрная юбка и белая блузка, волосы собраны в пучок. Шёл уже второй час пробного экзамена по математике, мои плюшевые ладони вспотели и оставляли на парте жидкие, продолговатые следы. Я ёрзал по стулу и постоянно отвлекался на плеяду строгих портретов под потолком душноватого кабинета, продолжая поглядывать в сторону Юли.
Юля Гай была модель: тёмные густые и длинные волосы, алые разбухшие губы, брови, как чёрные клавиши на фортепиано, и слегка скошенный нос-поплавок, подпирающий большой гладкий лоб. Это миф, что возле школьной красавицы обязательно должна ошиваться какая-нибудь скучная уродина и «стоять на фоне» — в школе вокруг неё змеями извивались её симпатичные подружки с тощими избалованными лицами, среди которых она вовсе не была самой красивой. В ней был какой-то изъян, ощущавшийся подсознательно. Быть может, недостаточно идеальный рост? Слегка смешные уши?
Мне было неловко подойти и заговорить с ней. Я позволял себе только смотреть. Это единственное, в чём я не мог себе отказать — в изнурительно долгом взгляде, брошенном прямо в черноту её глаз. От этой привычки нельзя избавиться. Она до сих пор даёт о себе знать, когда я в метро всматриваюсь в людей на эскалаторе, срывая с них их заспанные лица-простыни и отвожу глаза, как только они начинают пялиться в ответ.
Впервые я понял, что схожу от неё с ума во время Пушкинского Вечера. Каждую осень одиннадцатиклассники были обязаны участвовать в празднике, посвященном Солнцу Русской Поэзии, а точнее, лицейскому периоду его жизни. Будущие выпускники играли в сценках, поочередно декламировали пушкинские стихи и танцевали вальс. Все известные персонажи пушкинского мифа оборачивались соответствующими ролями и распределялись между старшеклассниками — мне, например, досталась роль Кюхельбекера. Школьная постановка была весьма серьёзной. Она должна была пролить свет на жизнь поэта и его однокашников, на их лицейскую молодость. Вечеру придавали в школе очень большое значение. Даже вечно ворчащая и кудахчущая на уроках литературы Скарлатина Ивановна на репетициях вдруг становилась доброй и чуткой, без остановки хлопала нам своими маленькими, толстыми ручками, чуть подпрыгивая и напоминая динозаврика: «Потрясающе, потрясающе, ребят, это просто БЛЕСК!». И вот, разгар праздника: при полном актовом зале, стоя за кулисами, я жду своего выхода и готовлюсь произносить реплику. Одноклассник, дожидавшийся своей очереди и развлекавший меня своим обществом, выходит читать стихи (по любопытному совпадению его звали Саша), и я остаюсь один. От легкой скуки я достаю телефон и решаю проверить, не выложила ли Юля чего-нибудь — и вдруг обнаруживаю её новую фотографию в обтягивающей белой майке без белья, опубликованную только что. От увиденного у меня подкосились ноги, меня всего стянуло. Слегка приоткрыв свой кошачий рот, она смотрела с фотографии прямо в объектив, прямо на меня, пока я таращился на её просвечивающую под майкой грудь и обвивший шею чёрный ломоть волос. Если раньше я добровольно сползал в её омут сам, слегка отталкиваясь при этом ногой, то в ту секунду был порабощён Юлей целиком. Это были смешанные чувства страсти и унижения, ощущения собственной ничтожности, крошечности, вдобавок погоняемые страхом перед выступлением. «Соберись, тебе сейчас надо читать текст, тебе надо быть Кюхельбекером, даже если она и сидит в зале, она не смотрит этот дурацкий спектакль, хватить об этом думать». Выйдя к микрофону, я без запинки читал свою реплику, пока воочию не наткнулся на Юлю глазами. Запрокинув голову, она стояла впритык к стене и смотрела куда-то в сторону. Юные зрители тосковали, как и всегда, загнанные сюда силком, и Юля не была исключением, но у неё как-то получалось держаться особняком. Её тоска была благороднее, чем у других. Я запнулся, забыл текст и уходил со сцены, продолжая смотреть на её набухшие губы, и даже Пушкинский Вечер не смог отнять у меня этот взгляд.
В школе моя жизнь была насыщена привычными алгоритмами. Почти каждый день я, не выспавшись, просиживал по полдня среди самых удушливых стен родной ОГПУ СОШ № 123. Пока я возвращался домой, мои маленькие, почти детские ладошки чеканили ритм в нагрудных карманах куртки, дожидаясь, когда я вывалю их в раковину под струю кипятка. Больше всего в своей природной мерзлявости меня выводила из себя привычка сутулиться, желание как можно глубже запаковать себя внутрь куртки, закрыв лицо от вьюги и хлопьев снега. Затем я мог весь оставшийся день лежать у себя в комнате, упираясь ладонью в стену. Просто лежать, уткнувшись лицом в подушку, и вынюхивать собственное тёплое дыхание рта. В моём распоряжении была масса времени и возможностей, которые я тратил на какие-то бесполезные мелочи: на шаги вперёд-назад по комнате, на телефон, на переписки с одноклассниками. Я сутулился и по полдня жил впроголодь, ерзал на стульях и чувствовал по утрам характерную молочную отрыжку, затем перераставшую в сухость во рту. Только тот невозможный мир, где Юля вилась подле меня и не желала ничего другого, будоражил мою фантазию и ослаблял хватку обыденности, покуда желания обретали столь нужную им грань.
«Лунгин, к доске!», — и я покорно отправлялся на промысел. Мы с друзьями пили дешёвые коктейли на лавочках и кидали зимой корсары под проезжающие машины. Зарабатывали себе ночами искривление позвоночника, отражаясь в пыльных мониторах со смешным ободком наушников на голове. Школьные шалавы были меркантильны и не умели этим пользоваться, подобно туземцам, впечатлительным при виде всяких погремушек и готовых выменять золото и драгоценности на бесполезные бусы, предлагаемые им белым человеком. Хачи в школе постоянно выёбывались, и поскольку никакой стоящей самоорганизации мы не имели, много крепких пацанов просто шестерили у них, перенимая звериные повадки. Преподаватели были разными, но в основном это были женщины. Я знал всё о том, с какой скоростью вскипают дешёвые пельмени. Я пристёгивал ключ от квартиры к брюкам. Я стригся в дешёвых парикмахерских. В тех, в которых вместе с причёской от тебя отваливаются куски твоей головы и на полную громкость с экрана шуршит пропагандистская передача, а мелкие волоски на спине и шее остаются и чешутся до следующего вечера. Вернувшись домой, я мог полтора часа пролежать на полу гостиной, не снимая школьную форму, и выискивать что-то в ленте через горячий телефон. Я начинал чувствовать голод, ведь я ничего не ел с утра, мне нужно было встать, но я лежал, пока не начинала болеть спина. Вечная сухость во рту, удушье, ощущение того, что окружающие тебя люди — это огромные тупые кухонные ножи, перерезающие твоё солнечное сплетение, преследовали меня. Всё шло своим чередом.
«Гай, к доске!» — и под пристальным взглядом раскинувшейся на весь класс сутулой тайги 11-го «А», Скарлатина Ивановна роняла на всеобщее обозрение печаль по своей увядающей, в противовес Юлиной, красоте. Властный голос учительницы литературы хотел пристыдить девочку, пытаясь, как и я, раздеть её прямо у доски на глазах у всего класса. Все постоянно ощущали это. Юля была популярна в школе — девочки помладше пытались одеваться как она и не стеснялись пересуд за её спиной. Раньше она училась в престижной гимназии, где носила строгий синий пиджак с нашивкой, но дресс-коду Юля была не по зубам. Опыт работы в двух промоутерских конторках с показами в Сингапуре давал о себе знать, правда отец приостановил её карьеру модели, чтобы она смогла как следует подготовиться к выпускным экзаменам, сосредоточившись не на великой красоте, а на мастерстве приклеивания жвачки к внутренностям школьной парты. Её взгляд всегда был снабжён прищуром. Что касается голоса, то она почти мурлыкала, когда говорила что-нибудь. Юля считала, что разбирается в литературе и живописи и старалась подтверждать это, появляясь в соответствующих местах. Про несоответствующие места Юля охотно рассказывала сама, ведь пыталась писать и вела блог. Вот он:
Россыпь косых лучей пробивалась в окно такси. Моё мокрое платье прилипает к горячему телу, мне становится тяжело дышать и я, прислонившись щекой к стеклу, прошу немолодого таксиста включить джаз. Если он всё ещё помнит, чем пахнет летний воздух, он никогда не удивится тому, что я дошла до его машины босиком, держа свои туфли в руках. Так пахнет юность.
Это лето душит меня своим запахом и мне хочется утонуть в нём.
В следующем году я сдам выпускные экзамены. Значит только этим летом, я всё ещё школьница. Все мысли в эту секунду ветром проносятся в моей голове. Я чувствую легкие нотки приятного безумия.
Очередная из летних ночей, проведённая мною в шумном клубе остаётся позади. Я встречаю рассвет в такси — пьяная, молодая и счастливая. Да, мама, я снова не ночевала дома, глотая холодный апероль и дым ментоловых сигарет. Музыка пульсировала посреди ярких огней стробоскопа, и я сливалась в экстазе танца с окружавшим меня пространством, улыбаясь и закрывая свои глаза. Мужчины угощали меня напитками и держали двери, но я чувствую, что помимо ощущения легкости и какой-то беззаботности мне нужно что-то другое. Или кто-то.
Возможно, именно там я найду тебя. Мы улизнем с этого праздника, когда он будет в самом разгаре.
Я скину свои туфли и побегу вперед, ты, конечно, побежишь за мной. И пусть вокруг нас этой ночью ни души — разве если бы на нас смотрел весь город, мы бы засмущались? Я падаю в твои объятия и смеюсь. Такие молодые и пьяные. Старательно сохраняю этот момент в своей памяти.
Наступает рассвет. Ты целуешь меня.
Я открываю глаза, и этот сон улетает сладкой эфирной дымкой прочь, но мы оба знаем, что оно именно так и случится, когда мы повстречаемся друг другу на этой огромной дороге жизни. А пока ты можешь засыпать по ночам со своей девушкой и только догадываться о том, почему внутри такое настойчивое и прочное ощущение, что ты еще чего-то не нашел.
Я падаю в постель и слышу в своей голове отголоски музыки. Мои плечи, с которых я спускаю вниз тоненькую лямку платья, болят после танца. Нотки приятного безумия теперь повсюду.
Эти её НОТКИ приятного безумия я тоже слышал. Как звук упавшего на человека пианино, выброшенного с шестнадцатого этажа. Ни на какие праздники я никогда не попадал. Я засыпал по ночам совершенно один, на первом этаже хрущёвки в тесной комнатушке, в которой было тяжело дышать, если закрыть дверь в гостиную. А проснувшись, видел под своим окном узбеков. Разгребая лопатами сырой мартовский снег, дворники общались между собой на непонятном мне языке и сбивались в кучи. Вмятая в землю пожелтевшая трава, месяцами пролежавшая под сугробами, наверняка чувствовала себя в этот момент, как продрогшая прижавшая колени к груди русская девушка, которую узбеки разбудили посреди ночи, резко скинув с неё толстое одеяло. Я ни разу не менял школу и за 11 лет хорошо усвоил кое-что. Утром еда невкусная. Сухость во рту отдаёт бензоколонкой. Мама пьёт дешевый кофе и соревнуются со мной в борьбе за ванную комнату, хотя мне нужно всего-то полоснуть тело кипятком — и я готов надевать доспехи. Каждое утро, просовывая свою голову в поначалу холодный и неприятный наощупь нательный крест, я будто каждый раз принимал Христа заново, нырял в Иордан.
Моей идеей фикс стало во чтобы то ни стало добиться Юлиной любви, как будто она была способна положить всему этому конец. Как к ней подступиться? Я не предпринимал никаких действий и наблюдал, боясь неаккуратным движением сломать то, что и так каждый день доставляло мне хоть какую-то радость. Но любым даже самым скудным и скользким шансом заполучить расположение Юли к себе я был готов тут же воспользоваться. Я был не из тех людей, которых нужно было просить два раза.
Я не считал себя неудачником. Но как только, наконец, наступал триумф, люди, события и вещи с такой скоростью, таким скопом обрушивались на меня, что я, конечно, может и мог схватить их в охапку, но всегда терялся и не знал, что с этим делать дальше. Весь мой успех — это вечные ужимки плечами. На очередной дворовой вечеринке или на чьей-нибудь кухне я был первым, кому становилось не по себе от навязчивых разговоров про красивых и стрёмных девочек, про, так сказать, удачные и неудачные первые опыты, а также про давалок и шлюх (последними были, естественно, те, что не дают). Мышцы лица болели от ложных самовоспламеняющихся улыбок, которые я выпускал от невыносимости проживания этого момента, и кто бы знал, сколько раз мне хотелось бы хоть на минуту остановить время и оказаться в пустом помещении, чтобы выдохнуть и успокоиться. Короче говоря, я никогда не умел наслаждаться своей победой. Как только у меня что-либо получалось, я будто спрашивал у прошлого разрешения.
Тем временем, пробник продолжался. Холодный мартовский воздух наполнял кабинет сквозь едва распахнутую форточку. 11 «А» сидел тихо, уткнувшись в свои листы. Ничто не отвлекало от разглядывания дразнившей меня Юлиной талии, спрятавшейся за деревяшкой казённого стула. Шариковая ручка была заперта в очередной клетке тетради, попутно пачкая мои руки. Я пытался вывалиться из реальности, уставившись куда-нибудь. Вот куда смотрели эти вечно задумчивые профили четырёх корифеев русской литературы, высеченные на колоннах при входе в здание школы? Очень интересно. Иногда я пялюсь в стену и этого достаточно.
Когда это происходит, я представляю, как Юля сидит на мне, обхватив по-кошачьи мою спину своими лапами. Больше всего я боялся показаться ей нелепым: взболтнуть лишнего, отдавить ей ногу в приступе неуклюжести, я боялся даже брать её за руку, ведь у меня очень потливые ладони. До этого, правда, ещё предстояло дожить — за весь тот год мы, в общем-то, не разговаривали наедине дольше минуты. Она почти никогда не смотрела в мою сторону.
Русская литературочка готовила меня к тому, что девочки это такие кроткие, нежные и очень благородные создания, преисполненные манерами и вечно готовые ждать твоей решительности, либо, на худой конец, что это импульсивные кликуши и истерички, способные на самопожертвование в критический момент. Нет, оно так и оказалось, но почему нигде ничего не было сказано про Гай? Почему всего меня эта странная культура дачных философских разговоров полностью описывает, а её будто бы скрывает, пытается спрятать от меня? Здесь явно что-то не так. И в который раз я пытаюсь придумать какой-то план, навести порядок. В который раз я сижу возле неё со своим огромным лицом большой доброй собаки и преодолеваю собственную поверхностность, пока её красные, как комья пены для бритья в крови, глаза выплёвывают на пол всё что видят.
Мне давно стало ясно что я эротоман. Как это часто бывает, я этого обречённо стыжусь, но не вижу никаких альтернатив. Меня попросту рвёт на куски, но я ничего не могу с собой поделать. Онанизм не помогает. Он и не может помочь, ведь это не подростковый спермотоксикоз (хотя, и он тоже), это тысячи маникюрных ножниц, ежесекундно режущих меня изнутри. Она даже не делает попытки взглянуть в мою сторону. Это ВЫМОРАЖИВАЕТ. Я однажды просто полдня просидел в актовом зале в рубашке, потому что без пиджака (как мне казалось) я смотрелся бы круче. Из-за распахнутых настежь окон я буквально околел: мои зубы дрожали и скрипели как стулья из 104-го кабинета, и не было ничего хуже, чем поймать себя на мысли, что я опять стараюсь ради неё.
Я хочу вынюхать её. Хочу срезать ей лицо языком, обгладывая, как кость. Я каждый раз мысленно репетирую, как рву чокер у неё на шее и ставлю её к стенке. Это не расстрел. Это громче, чем расстрел. Я хочу отсидеть статью за её изнасилование. Я хочу вывалиться в неё, вцепиться челюстью в её блузку, и что бы там ни было под ней. Хотя нет, я догадываюсь, что там. Я хочу сидеть с ней на наркотиках. Хочу запереться с ней на последнем этаже отеля Hilton в номере для молодожёнов, и, напившись Red Label, отстреливаться от папарацци и ментов из штурмовых винтовок. Я хочу смотреть её сны ночью, хочу видеть её беззащитной. Я хочу идти с ней по вечерней улице и упасть прямо на тротуаре. Я хочу, чтобы она спиной почувствовала этот ебучий холодный асфальт, на котором я лежу, приткнувшись щекой, все эти годы, и затем обхватила меня ногами и выцарапала мне всю спину, пока из неё не начали расти крылья. Хочу, чтобы её сводило до судорог, хочу, чтобы её пальцы, пустившись в тремор, пытались нащупать моё лицо и снять его, а затем пусть она рухнет в конвульсивном припадке, когда это всё закончится. Вернее, прекратится на время. Потому что пусть это никогда не заканчивается.
II
Всё изменилось, когда Скарлатина Ивановна попросила нас двоих остаться в классе. Пробный экзамен был кончен, и все наши бланки прильнули к её стеклянной столешнице толстой пачкой. Я не мог пялиться на Юлю как раньше — она всё видела. Пришлось направить свой взор на пульсирующий вверх-вниз кулон на шее у Скарлатины Ивановны. Учительница сказала, что я и Юля показали лучшие результаты в школе на предыдущих сочинениях по литературе. Что если бы я «постоянно не совещался» с Купцовым — моим соседом по парте, то может из меня бы вышел толковый журналист «или, на худой конец, писатель».
На этих словах я впервые ощутил на себе Юлин взгляд, то ли любопытствующий, то ли удивлённый. Ещё бы, оказывается, зажеванный стишок на Пушкинском вечере — это не предел моих литературных талантов. Во всяком случае так считало начальство. Я был всё ещё далеко от цели, но, пожалуй, именно там и началась эта история.
— Я не понимаю, Лунгин, зачем ты тратишь моё время и ХОРОШО ПИШЕШЬ эти свои сочинения. Где ты был в прошлом году? Где ты был предыдущие 11 лет? — Скарлатина Ивановна будто схватила меня за шкирку как провинившегося щенка, — экзамен по литературе решил сдавать под конец года? Чтобы все потом говорили, как я плохо тебя подготовила, да?
— Нет, Скарлатина Иванна, — ответил я.
— За тебя писал интернет? Сознавайся…
— Никто не помогал, я всё сделал сам, клянусь.
— В таком случае, Лунгин, я приглашаю тебя и Юлю в мой кабинет через две недели. Раз ты такой умный, будем писать ещё одно.
Скарлатина Ивановна рассказала нам про всероссийский конкурс сочинений, который проведут через две недели. Условие было одно —иметь отлично написанные в прошлом сочинения, которые заносились в общую базу данных и отправлялись на дополнительную проверку. В тот раз моей темой была «Нужны ли Базаровы России?», но теперь тематика держалась в секрете вплоть до начала экзамена, чтобы исключить возможность какой-либо подготовки. Моя мама была бы в восторге. Юля кивала и соглашалась. Мне тоже было поздно отказываться —я бы ни за что не упустил шанса провести целый час в одном кабинете с Юлей, да и перед ней было бы как-то неудобно зарекомендовать себя как трусливого троечника в ментальном плане. Юля не водилась с такими.
Снабдив информацией, Скарлатина Ивановна отпустила нас на перемену. Выскочив из кабинета, мы с Юлей разминулись под натиском волн других учеников в коридоре. Оглянувшись, я вновь не нашёл на себе её взгляд и расстроился. По крайней мере, будет, о чём с ней поговорить, думал я, провожая глазами Юлин затылок. Теперь этот идиотский тест на графоманию — то крохотное общее, что есть у меня с ней. Я двигался в нужном направлении. В школьном коридоре стоял шум.
Из-за угла на меня таращилась устроенная шестиклассниками куча-мала: гремя квадратными ранцами и сжимая в руке телефоны, дети ржали красными лицами и толкали друг друга плечами. Это были старые добрые школьные забавы. Из динамика телефона где-то поблизости доносился Скарашар, и ему подпевали несколько хрупких голосов, правда, что это была за песня, было не разобрать. Нет вещи более жуткой, более обезличенной, чем детский гогот. Они никогда не устают улыбаться, смеяться, ржать, чавкать и нестись куда-то, думал я. Мамины деньги на столовую я откладывал и тратил на сигареты, поэтому одолеваемый чувством голода я не спускался на первый этаж обедать, а покорно направлялся прямиком в кабинет, в котором было запланировано следующее занятие. Втиснувшись в густой поток, я краем глаза заметил, как девочки списывали что-то на большом белом подоконнике, и, порой мне кажется, что вся вселенная со всеми присущими ей мириадами звёзд тоже была списана на нём.
Я шёл и думал о том, как участие в этой авантюре с сочинением поможет мне овладеть Юлей. В конце концов она была не просто умной девчонкой, но и желанной. Это накладывало определённые обязательства. Она не могла, думал я, просто заинтересоваться мной, потому что я тоже хорошо пишу (ну, или в её случае — просто пишу). Этого мало для того, чтобы понравиться такой как она. Самые красивые девочки в школе поголовно были заняты старшаками. Мы перехватывались, чем придётся, и доедали объедки с барского стола: гуляли с чуть более страшненькими девчонками из параллельного класса, целовались с дворовыми оторвами и рвали целки подружкам из интернета. Мы были полными ничтожествами. Теперь же, каждый шаг должен был приближать миг близости с моей Юлей, и я боялся оступиться — я смотрел на юношей, мечущих, словно икру, тестостерон во все стороны, и потихоньку закипал от ненависти к каждому из них: они караулили меня в коридорах и закоулках улиц, жизнеутверждающе смотрели на меня со своих профилей в сети, и все, все до единого, мечтали о Юле. Я был словно немощный, постаревший Одиссей против толпы женихов, Одиссей, никогда не знавший ни брака, ни приключений, ни даже Итаки.
У входа в класс я встретил Купцова. Он стоял, прислонившись к стене, и листал ленту в телефоне, правой рукой придерживая гитару в чехле за гриф. Услышав шарканье моих туфель, он поднял голову:
— Что она тебе сказала? Тебя всё-таки оставляют на второй год? — спросил Купцов, зная, что меня задержала Скарлатина Ивановна.
— Нет, дебил. Я — последняя надежда русской литературочки, — отрезал я, — мы пишем сочинения через две недели. Я и Юля Гай.
— Возьми у неё автограф для меня, — сказал он как бы себе под нос, — курить пойдёшь?
— Мы разве успеем… Сейчас же будет звонок, а я не хочу больше опаздывать и выслушивать от химички. Эй!
Ничего не ответив, Купцов жестами позвал меня за собой. Я оставил рюкзак в куче других сумок у стенки возле кабинета. Там же и осталась бы гитара Купцова, но он резко схватил её и утащил с собой. Мы спустились в раздевалку. Охранник выпускал покурить только особенных, выборочно. К таким относился Купцов (я — нет), и за компанию он мог прихватить ещё одного-двух. Он хотел купить себе поесть, поэтому мы не встали возле «курилки», как делали обычно, а отправились ему за сникерсом в магазин на соседнюю улицу. Не буду скрывать, мой расчёт был в том, что он по-братски поделится со мной куском. Я никогда не говорил ему, что схожу с ума по Юле.
Снег хрустел у нас под ногами. Я повернулся к Купцову и спросил:
— Зачем ты постоянно носишь с собой гитару?
— У меня с ребятами сегодня репетиция после уроков. Ты как будто забыл, что я тебе говорил это.
— Хорошо, но зачем она висит у тебя на спине, когда ты идёшь курить?
Он боялся за свою гитару. Это было видно. После стен, которые буквально рикошетили детьми, я бы тоже боялся за инструмент —ну пнули бы они мой рюкзак ботинком и Бог с ним, его не жалко, там только учебники. А тут хорошая гитара. На носу у Купцова было выступление на 8-е марта в школе, где его попросили «что-нибудь сыграть». В школе № 123, не брезгуя, используют любые таланты и способности учеников, стоит им один раз оступиться. Серёга Купцов очень стеснялся этих концертов и считал, что петь для школы — это не круто, но был слишком хорошим мальчиком, чтобы рискнуть испортить отношения с начальством.
Мы с Купцовым общались уже год. Он пришёл из соседней школы, и других друзей у него здесь не было. По правде говоря, многим было всё равно, есть ли такая фамилия в школьном журнале или нет, а кто-то прямо недолюбливал Серёгу за его нелюдимость, за странные привычки вроде таскания за собой гитары и внешний вид. Что-то было в его лице, в его реакциях на услышанные им слова, что иногда раздражало даже меня. Всё это лишь подстёгивало меня больше общаться с ним, ведь чем недоступнее и сложнее, тем больше я этого хочу. Серёга и сам был таким. Я строил нам умное, сумрачное товарищество и у меня получалось с переменным успехом.
— Я вчера гулял в центре с одной девчонкой. Она сказала, что у меня очень красивые волосы и постоянно их трогала. Отвела меня на какой-то чердак и мы полчаса там целовались. Она была странноватая, честное слово — ну ты знаешь, мне с такими везёт. И постоянно спрашивала, мол: «А тебе не страшно? Ведь мы здесь сидим, а под нами по ночам мессы проходят, шабаш». И водила ладонью по лицу, словно ведьма какая-то, — сказал Купцов.
Тут я впервые задумался о том, чтобы рассказать свою тайну Купцову. Не потому что мне нужен был его совет, или чтобы он меня выслушал, а потому чтоя боялся смерти. Не физически, не телесно, не болезненно, а как-то умственно. Кто знает, что может с тобой произойти в любую секунду. В иной раз, даже не закрывая глаза, я представляю, как окровавленный лежу в мундире и умираю. Кровь подступает к горлу, я полулежу израненный, будто дикий зверь, и пряди моих волос тихо липнут к лицу. Купцов, словно денщик или младший офицер, в пылу грохочущего сражения оттаскивает меня с поля боя, держа мою руку и прислонившись ко мне щекой, слушает последние приказы. Среди прочего, я прошу его залезть во внутренний карман у меня под грудью и достать одну вещь — я обессилен и не могу этого сделать сам. Его кисть копается в моих внутренностях и через пару секунд, вся выпачканная моей кровью и ошмётками органов достаёт маленький жёлтый конверт, в котором я все эти годы держал письмо, написанное к Юле. В нём излагается вся история моих бесконечных страстей, все мои ёрзанья по стульям и мытарства в поисках её ответного взгляда, всё то, что я не мог ей сказать за это время. Купцов клятвенно заверяет меня, что исполнит мою последнюю волю и доставит это письмо к адресату, чему бы ему это не стоило. Я отдаю ему честь и, сделав последний вдох, героически погибаю лёжа на холодной земле. И далее минуты ускользающих фантазий и картин того, как именно Юля, после прочтения и ручьёв слёз, клянётся век хранить мне верность в монастырях, оберегая своё тело и душу от всего мира, дожидаясь встречи со мной на том свете. Доверяясь Купцову, я представлял бы именно это. А пока что мы всего лишь пускали дым.
Ненавижу курить на ходу, но мои челюсти буквально вцепились в содержимое пачки, короткими очередями выдавливая клубы дыма на чёрный потрескавшийся утренний мороз. Оглядываясь по сторонам, в ходе своего марш-броска, я замечал жутковатые, но привычные детские площадки, которые уже к полудню будут заполнены маленькими нерусскими детьми. Качели, вымоченная снегом песочница и паутинка были затянуты туманом и пусты, а багряный, еле опознаваемый солнечный свет выглядывал сквозь прорезавшиеся зубы новостроек и дышал мне прямо в затылок.
Любой, кто живёт на этом районе, на дух не переносит местную железнодорожную станцию. Помимо очевидного ада самих электричек, напоминающих мне закованных в железо паразитических червей, неприятные ассоциации у обывателей вызваны раздающимся шумом и гулом, который то и дело слышно на весь район в любое время суток. Из-за невыносимого скрипа рельсов, детская психика проживающих поблизости школьников пострадала ещё до столкновения с трудностями этого неподатливого мира. Издающийся при этом звук, подобный скрежету ножа по стеклу, мог свести с ума, напоминая нечто среднее между сиреной в Silent Hill и трубами, возвещающими о начале Судного Дня. Куда бы горожанин не попытался спрятаться, будь то парта начальной школы или тёплая супружеская постель — станция и её звуки настигали его, и гудели, подобно морской ракушке, прямо над его ухом.
Как раз со стороны этого жуткого шума к нам шли четыре молодых парня в расстёгнутых пуховиках. Они смеялись и громко разговаривали, через слово роняя мат. Одного из них, с самой мужественной наружностью, я узнал — это был Зима — высокий парень, уже три года как закончивший местное училище. Мы жили рядом и знали друг друга с детства. Когда они подошли, я узнал и всех остальных его друзей, с которыми у нас было на тот момент шапочное знакомство. На всю округу раздался грубый крик великана-Зимы:
— Э, Лунгин! Иди сюда и прихвати своего дружка.
Повинуясь, мы подошли ближе. Они ожидаемо попросили у нас сигарет. Мы образовали небольшой полукруг и начали обсуждать текущее положение дел:
— Парни, как я вам завидую, — говорил я — меня уже всё заебало. И школа, и экзамены… Да вообще всё.
Все дружно смеялись и говорили, что я ещё не знаю, что это такое — настоящая усталость, и тем более не умею её правильно снимать. Всем было важно напомнить мне, каким они помнят меня мелким, и какой я стал большой, что «даже теперь курю». Впрочем, если память мне не изменяет, именно они научили меня курить. Полезные знакомства несут полезные навыки.
— Лунгин, а ты помнишь Африку? Тем вечером? — весело обратился ко мне Зима.
— Конечно, — ответил я, — Такое не забудешь. Жалко, что он уже умер.
— Какая ещё «Африка»? — спросил один из друзей Зимы, не понимая о чём идёт речь.
— О-о-о. А разве Зима тебе не рассказывал? — подхватили остальные.
— Вам есть, чему поучиться у этого малого, — гордо сказал Зима, хлопая меня по руке, — много лет назад зимой, когда я ещё учился в школе — ну, а Лунгин так тем более, я шёл ночью к одной девчонке. Жила тут недалеко, за станцией — не знаю, что с ней сейчас. Так вот, иду я как ни в чём не бывало и тут вижу возле её подъезда стоит заведённая машина и в ней сидят чурки какие-то. Ну, думаю, чурки и чурки, они сейчас повсюду, иду дальше. Начинаю звонить в домофон, слышу: трубку сняла, чуть ли не дышит в неё, а молчит. Я хочу телефон достать, позвонить ей, думаю, может случилось чего — и тут слышу, открываются двери машины, и они выходят со словами: «Это он». У одного в руке кастет, всего их трое. Всё, думаю, «приехали». Ну я зажигалку на автомате достал из кармана, сжал покрепче. Совсем уже охуели, — пронеслось у меня в голове — на машинах, ещё и школьника грабят. Почти вплотную подошли и самый главный из них говорит: «Слышь, чорт, ты какого хуя здесь делаешь?». Я понимаю, что что-то тут не так, и с дуру говорю первое, что пришло на ум: «Я к своей девушке Кате пришёл, она живёт на шестом этаже. А какие проблемы?». Оказалось, это и был её настоящий парень — Тагир. Он бегал теперь по району и ловил ещё троих других таких же «Катиных любовников». Вот такая Катя была ветреная. Ну да ладно, про эту шлюху как-нибудь в другой раз. Так вот, он уже почти заносит руку, я оглядываюсь — позади лишь дверь подъезда, от которого у меня нет ключей. И что ты думаешь: тут из подъезда выходит Лунгин в своей идиотской желтой шапочке с помпоном и у него на поводке огромная кавказская овчарка. Если Тагир в тот момент не понял всей иронии случившегося, то, боюсь, он не знает значения этого слова. Лохматая, здоровая, брызжущая во все стороны слюной овчарка по кличке Африка тупо смотрит на моих «гостей». А Ромка стоит, как вкопанный, глядит на меня, улыбается, не понимает, что происходит. Мы же с одного района, он просто подумал, что встретил у подъезда старшего приятеля, пока выгуливал пса. И тут этот Тагир поворачивается к собаке и Лунгину и начинает орать «Чё смотришь, э! Иди отсюда, не мешайся». А Рома до сих пор ничего понять не может, стоит как вкопанный, поводок сжимает, смотрит на меня, ждёт, что я ему всё объясню. А я ему глазами говорю: «Помоги, открой подъезд, позови кого-нибудь». Проходит ещё секунда, и Тагир делает ещё один шаг к Роме: «Ты что, глухой, чорт? Совсем страх потерял? А?» и наступает на лапу Африке. Ромка начинает плакать. Тихо, просто слёзы бегут по щекам, не слышно почти ничего. И говорит: «Ухожу». Спускается по ступенькам вниз и я теряю его из вида: теперь я вижу только озверевшее лицо Тагира. Нельзя сказать, что перед глазами в такие моменты пролетает вся жизнь, но все разы, что я пёр Катю я вспомнил тогда посекундно. «Вот сука, — думал я, — что меня ждёт? Больничка, перелом, а может и убьют вообще — они же бешеные, дикие». И тут слышу где-то на заднем плане вопли с акцентом: «Снимите её с меня, снимите!». Смотрю, а прямо возле машины стоит Лунгин с отпущённым поводком и своим смешным детским голоском кричит: «АФРИКА, ФАС», после чего гигантская чёрная клякса впивается черножопому прямо в его лицо, повалив его на землю, сдирая пол щеки, выплёвывая куски его чёрной резиновой курточки на снег вместе с мясом. Тагир оборачивается, и я прописываю ему боковой в голову, а потом он теряет равновесие и катится по ступенькам подъезда кубарем вниз. Оказалось, когда Лунгин в слезах уже практически ушёл, он вдруг резко обернулся и что-то вякнул на одного из чёрных. Не долго раздумывая, чёрный достал травмат и выстрелил в пса — пуля прошла над ухом, лишь задев и разозлив Африку, после чего уже разъярённый Лунгин отпустил поводок. Чтобы собака не сожрала последнего оставшегося в живых, я быстро подбежал и сделал ему проход в ноги, и тот тоже оказался на земле. Вот так Лунгин и его собака меня спасли. Что было потом рассказывать долго — скажу только, что эти трое меня больше не беспокоили, а парень, который стрелял, остался со шрамом на всю жизнь. И к Кате я больше не ходил. Разве я уже не вещал эту историю?
— Я в магазин. — сказал Купцов, чувствуя себя ненужным в нашей компании, — Ром, подожди меня. Вот, держи гитару, пока меня нет.
Все по очереди посмотрели ему вслед. Я немного стеснялся Купцова при «уличных» парнях, мне не нравилось, что они могут подумать, будто я был таким же как он. Мне приходилось подыгрывать ребятам и идти им навстречу в их суетности и шуме, делать вид, что у меня тоже чешутся руки и постоянно мять их на морозе, крутить их туда-сюда. Куртка, должно быть, вовсю провоняла дымом. Они нигде не учились, но у них были деньги и машины. Между нами была разница всего в несколько лет, но даже визуально я ощущал себя пигмеем на их фоне. Мы стояли и продолжали обсуждать чепуху.
— Странный он у тебя, — сказал Зима, указывая на ступеньки магазина, по которым только что поднимался Купцов, — ты зачем за него гитару держишь?
— Ну он же меня попросил, — сказал я.
— А если он тебя свой хуй подержать попросит? По-братски.
Раздался дружный смех. Всех, кроме меня. Зима с серьёзным видом оглянул товарищей, чтобы показать, что он не пытается надо мной издеваться, а хочет научить меня жизни и сказал:
— Тебе пора уже начинать становиться пацаном, Ромка. Мы в твоём возрасте уже водили тачки и наказывали лохов.
После этих слов я поставил гитару на землю возле ближайшего дерева, как бы соглашаясь со сказанным и изъявляя желание научиться водить тачки и наказывать лохов как можно быстрее.
— Я стараюсь, — ответил я.
— Этого не достаточно. Пока ты будешь так легко ему шестерить, к тебе все будут относится так же, как раньше. Тут Африка не поможет. Иди сюда.
Я подошёл к Зиме. Он выставил вперёд свою огромную ладонь, размером с пол моей головы.
— Бей, — сказал Зима.
Я молчал, оглядываясь на остальных. Их взгляд намекал, что мне нечего ждать от них помощи. Тогда я решился спросить Зиму:
— Бить? В смысле ты хочешь, чтобы я тебя ударил?
— Пусть кто-нибудь попробует меня ударить — охотно посмотрел бы, что с ним станет потом. А я хочу, чтобы ты просто показал мне свой удар. Как ты умеешь бить. Давай, не ссы.
Меня брали на слабо. Уже публично продинамив Купцова и бросив его гитару на произвол судьбы, как раненого солдата на поле боя, я понимал, что отступать мне некуда. Я боялся не только слабо ударить, но и промахнуться, хоть и сделать это, учитывая размер его руки, было нереально. Собравшись с силами, я всё-таки ударил и мой кулак чуть ли не утонул в его ладони — настолько непоколебимым оказался Зима, и настолько сильно у меня согнулась от боли рука. Однако вместо дружного смеха и издевательств, все дружно начали хлопать:
— Наш пацан!
— Так держать!
— Красавчик!
Зима сильно похлопал меня по плечу — так сильно, что даже через куртку я почувствовал боль. Он сказал, что я отлично справился и что должен быть готов в любой момент прописать «двоечку», если этого потребуют обстоятельства, что я красавчик.
— Давай, не пропадай. — пожимая мне руку, сказал Зима, — Если тебе нужны будут ещё уроки бокса, или просто захочешь на тачке с нами покататься —звони.
— Спасибо, парни…я очень рад…— бессвязно бормотал я, отстреливаясь от мощных рукопожатий.
Четвёрка продолжила шумный путь дальше. На ступеньках магазина показался Купцов, на ходу жующий свой батончик.
— Блядь, где моя гитара?! — крикнул Купцов.
Я резко оглянулся по сторонам. Гитару Купцова медленно нёс какой-то бомж в серой шинели. Чувство вины заставило действовать, и я со всей дури побежал за ним, боясь упустить это существо из вида. Не зная, как правильно окрикнуть такого человека, я бежал и кричал: «Эй, бомж!». Я бы тоже на его месте обиделся и не оборачивался, чем он не преминул воспользоваться. Всё же догнав бомжа, я начал отбирать у него гитару, которую он не выпускал из рук:
— Сука, отдай её сюда! — шипел я.
Бомж сопротивлялся и повторял: «Моё! Моё! Моё!». Чуть ли не со слезами на глазах к нам подбежал Купцов, который не понимал, кто же из нас двоих —я или бомж, причинит гитаре наибольший ущерб и потому просто стоял рядом с нами, разводя руками от бессилия и нервно вздыхая. В конце концов он присоединился ко мне, и мы стали тянуть гитару как дед и бабка в сказке про репку, отталкиваясь от бомжа ногами до тех пор, пока тот окончательно не обессилел и не ёбнулся в снег. Я и Купцов со всей дури рванули оттуда вон, заговорив лишь на подходе к школе.
— Ты что, с ума сошёл? Зачем ты начал тянуть гитару? Вы с этим бездомным решили поиграть в перетягивание каната? Может, ты бы лучше отработал на нём свой великолепный удар, которому тебя только что научили? — возмущался Купцов.
— Ты что, видел, как я бил?! — спросил я.
— В магазине есть окна, — мрачно заметил Купцов, — стоит мне тебя оставить на минуту, и ты уже завёл себе новых друзей?
— Я знаю их дольше, чем тебя. Зима —мой старый кент.
— Это не объясняет, почему, когда я вышел на улицу, моя гитара оказалась в руках бомжа. Или это был его отец, и ты решил дать ему поиграть?
— Что-то в присутствии Зимы ты так не шутил, а молчал в тряпочку. —заметил я.
— Уверен он тоже много о чём помалкивает. Например, о том, каким надо быть идиотом, чтобы узнать, что твоя девушка встречается с кавказцем только в тот момент, когда он пришёл тебя бить.
— А как же то, что она сама ему не сказала ни слова, будто этого и не было вовсе? Да и не встречались они, это была обычная дура с района. С каждым может такое случиться.
— То есть он не рассказывал, как он чувствовал себя после того, как его обвела вокруг пальца дура с района?
— Он говорил, что для него это слишком табуированная тема, — сказал я, и затем ещё, — ну, слово «табуированная» он, конечно, не говорил. Это я уже от себя добавил.
Купцов рассмеялся. Мы постояли ещё минут пять, пока оба не вспомнили про время:
— Химия! Мы опаздываем! Бежим!
Слякоть Евгеньевна была самым противным учителем в школе. Её образ въедался нам в память с каждой секундой, которую мы задерживались на улице. Серая, напоминающая мешок для сбора пыли или горшок для фикуса, она ни разу не сказала ни одному из нас доброго слова. Провоцируя, она выводила любого из себя, постоянно переходя на личности, могла запросто перебить ученика посреди его же реплики, а затем, поставив его в тупик, мерзко смеяться, оскалив свои кривые жёлтые зубы. Её овальная, похожая на плод овоща, голова лишь вальяжно покачивалась, сидя на бесформенных плечах. О да, это был один из тех предметов, на которые не хочется приходить вовремя. Мы бежали, что есть сил, чтобы не опоздать на её урок и при этом оба отдали бы всё, чтобы он быстрее кончился — пожалуй, ни один учитель в школе не сочетал в себе большей противоречивости. Конечно, ещё можно было успеть — снег хватал нас за ноги и оттаскивал вниз, ступени скользили из-за нескольких слоёв грязи, охранник слишком долго соображал пускать нас или нет, однако нужно было поднажать ещё чуть-чуть, и мы бы были у цели.
Но мы опоздали. Взяв рюкзак, пролежавший всё время, что меня не было, возле стены я дёрнул за ручку и открыл дверь. Я и Купцов с гитарой в руке стали ждать разрешения войти и сесть.
— Не отвлекаемся, пишем-пишем, — сказала Слякоть Евгеньевна привычным ей тоном презрения, даже не поднимая глаз на повернувшихся в нашу сторону одноклассников и продолжая спокойно смотреть в стол, — а вы зачем сюда пришли? — продолжала она, обращаясь к нам двоим, — вы мне здесь не нужны.
— Мы опоздали…простите…учиться хотим, — мямлили по очереди я и Серёга, как это всегда бывает с провинившимися школьниками.
— Учиться хотите? — не поднимая голоса, спросила Слякоть Евгеньевна, — А мне не нужны такие ученики. И я вам не нужна. Вы совершенно спокойно справлялись эти 15 минут без меня. Справитесь и ещё полчаса, не так ли?
Мы опять стали бубнить что-то бессвязное. У Купцова из-за быстрого бега началась адская одышка, которая вызвала тихие смешки на задних партах. «Простите, мы не хотели» — повторяли я и Купцов. — «Пожалуйста».
— Что значит «мы не хотели?». Вот в интернете сидеть целыми вечерами, вместо домашнего задания и подготовки к экзаменам вы успеваете. Это значит, у вас много свободного времени, да? М, поняла. Лунгин, вот скажите мне, ваша мама — она как вообще относится к тому, что вы не сдадите ни один экзамен и никуда не поступите? Будет, как у всех сейчас это принято, жаловаться, что я у его ребёнка отняла хорошую успеваемость? А никому не нужна потому что эта успеваемость сейчас, понимаете? Никому давно ничего не надо, никто ничего не читает. Идёт конкретная такая обработка мозгов, посмотрите, как мир с ума сходит. Сидят в телефонах по ночам, деградируют, а потом расшибаются насмерть из-за того, что начитаются там про этих дельфинов. Им внушат, что это мы плохие, что их довели до такой жизни, что из-за нас им не надо жить! А жить надо…
Во мне закипало всё. Купцов хватал меня за руку и дёргал, давая сигнал «успокойся». Может стоило опробовать на этой окаменевшей мокроте пару своих новых уличных приёмов, думал я. Так или иначе, я смог проглотить это унижение, и Слякоть Евгеньевна разрешила нам занять свои места. Именно в этот момент я наконец смог отвести взгляд в сторону Юли — та послушно сидела на своём месте и смотрела в тетрадь, хоть и всё слышала. Слякоть Евгеньевна её не любила — но, буду честен, она вообще никого не любила, поэтому её отношение к ученику могло быть в лучшем случае нейтральным. Безумно переживал за то, достаточно ли мужественно я выглядел в тот момент. Казалось, всё было кончено, но напоследок учительница посмотрела на гитару, а затем спросила Купцова:
— Сергей, скажите пожалуйста, а вы-то сам музыку пишете или как вообще?
— Ну так…пописываю немного, — ответил Купцов.
— Да вы не стесняйтесь, пожалуйста, не надо. А то сейчас молодые исполнители они все такие. Вы же тоже там живёте? Вместе со всеми, да?
— Где живу?
— В интернете. На компьютере музыку записываете?
— Я её ещё нигде пока не записываю.
— То есть вы такой музыкант-трус, да? Боитесь быть непонятым и отвергнутым?
— Мне кажется, у меня ещё недостаточно опыта.
— О, ну это вы зря, Купцов! У вас предостаточно опыта в химии, иначе зачем бы вы стали приходить ко мне на уроки, верно? Думаю, что и музыкального опыта вам, так сказать, не занимать. Вы бы лучше у нас в актовом зале свои песни спели, мы бы хоть послушали, разглядели бы ваш талант поближе — ну, на восьмое марта, например, я думаю наши девочки были бы от вас без-у-ма, — когда Слякоть Евгеньевна, смакуя, произнесла это слово по слогам, несколько девчонок в классе ехидно похихикали, что окончательно вывело из себя на этот раз уже Купцова, — Так значит, не споёте? Не будете свои песни играть? А, впрочем, я и не удивлена. Это всё сейчас виртуальное — музыка, слова. Всё там. И вы тоже ненастоящий, как оказывается. Собирайте лайки, продолжайте считать, что вы особенный и необычный, без качественного-то музыкального образования… Музыка-то у вас, Купцов, оказывается — во! — и на слове «во» Слякоть Евгеньевна за секунду пробежалась по столу пальцами левой руки, постукивая по нему костяшками, что видимо означало: «Хуйня, пустота, ничто». Музыка Купцова была заочно объявлена ею ничтожной.
Купцов молча выскочил из кабинета. Слякоть Евгеньевна, не поднимая голоса, продолжила говорить о Купцове на весь класс, но этого не выдержал и я и вышел вслед за Серёгой. Он стоил того, чтобы идти ради него на последствия. Я догнал его на лестнице и одёрнул за плечо. По его щекам ползли слёзы.
— Чувак, прекрати! Забей, ладно? Ты же знаешь её. Она хотела вывести нас из себя, и у неё это отлично получилось, — сказал я, — идём.
Мы почти дошли до раздевалки. Было решено прогулять школу с концами — оставшиеся уроки и их преподаватели ни в какое сравнение не шли со Слякотью и меркли перед ней в значимости. Внезапно Купцов остановился и направился к умывальникам —они обособленно стояли в противоположном углу и никогда не пользовались популярностью, тем более сейчас, когда по всей школе шли уроки и, не считая доносящихся из спортивного зала криков, стояла тишина. Я пошёл за ним. Он включил в раковине воду, расчехлил гитару и сел на пол, жестом попросив меня последовать его примеру.
— Что ты творишь? — спросил я.
— Я хочу, чтобы ты это послушал и сказал, настоящее это или нет. Оно не закончено. Слушай.
Купцов начал очень тихо петь песню своим бархатным голоском, еле прорезавшимся сквозь шум падающей воды. Пальцы бегали по гитаре, издавая приглушённый, но чёткий звук каждой струны. Под впечатлением от того, что пережил этот инструмент, да и мы за сегодняшний день, я отнёсся к неожиданной затее Купцова очень вдумчиво. Мне нравился его вокал, я впервые слышал, как он поёт. Там были даже какие-то слова, что-то вроде: «Если бы у меня была только ты, то я смог бы бросить всё». В общем, поэзия была грубовата, но совпадала с моими тогдашними ощущениями по поводу Юли. Где-то через полторы минуты Купцов закончил:
— Ну как? — Серёга так ждал ответа, будто он один мог изменить его судьбу.
— Ты романтическая натура, Купцов.
— Тебе не нравится песня? —спросил Купцов практически окончательно уничтоженный таким ответом.
— Стой, нет! —спешил я теперь успокоить его и не врал, — она настоящая! Это настоящая песня и ты настоящий. Прости, что чуть было навсегда не отдал твою гитару бомжам.
— Как думаешь, стоит продолжать? — спросил Купцов, уже чуть более уверенным голосом.
— Я ничего не смыслю в музыке. Я не творческий человек. Но я точно могу сказать, что ты не потратил моё время зря, будь уверен. И не прокручивай слова Слякоть Евгеньевны раз за разом в голове, когда придёшь домой. Все её слова, от первого до последнего — неправда. А теперь пошли в раздевалку.
— Но ведь у меня сегодня репетиция, — вспомнил Купцов.
— Твоя гитара на сегодня настрадалась. Нашего актового зала она точно не выдержит, — сказал я, — уходим.
Купцов улыбался и был вне себя от радости. Мы обернули всё произошедшее в нашу маленькую победу над системой и довольные шли по улице до тех пор, пока нам не пришлось повернуть в разные стороны. Мы пошли по домам.
Дороги были пустыми, как в пять утра. Работа и школа растащили пешеходов с улиц, и теперь на них оставался лишь я. Отломанной на ходу веточкой с ближайшего дерева я начинал проводить по торчащему, по мою правую руку, забору детского садика, пытаясь не пропустить ни один прутик его железной стены. Левой рукой я раскручивал давно выцветший мешок со сменной обувью, напоминая самому себе древнегреческого пращника.
Обычно, прохожие понятия не имели, как выглядит древнегреческий пращник, в чём его миссия, и зачем вообще все школьники вечно крутят этим мешком как кадилом и ломают на своём пути какие-то ветки. Но прохожих не было.
III
Прошёл ещё один день. В наступление весны никто не верил, а школьная жизнь шла своим чередом. После того, как мы с Купцовым гордо ретировались с урока химии, про нас стали говорить повсюду. Нас обсуждали в курилках и чатах, за партами и в столовке. Назревал скандал: какой-то угнетённый поэт с гитарой и его дружок проявили акт неповиновения. Но это не принесло в наш тандем единства. Возможно, так получилось потому что моя возлюбленная написала под своей новой фотографией это:
«Хоть у кого-то на днях хватило смелости спорить со Слякотью. Мы часто прячем свои чувства в глубокий панцирь, когда нам хочется петь или даже кричать. Я сама зачастую сталкиваюсь с этим в школе и на съёмках, в шумных общественных местах или когда одна моюсь в душе. До чего мерзко, когда виной этому становятся окружающие, способные полностью истощить наш эмоциональный фон. Бедный мальчик.
— Подонок! Сукин сын! Купцов, ты думаешь я позволю тебе урвать все лавры? Надо было бросить тебя там, в сугробе вместе с этим бомжом и блядской гитарой, — думал я, — ты зашёл на чужую территорию, сына. Там возле раковин, под шум горячей воды, может быть, ты и есть весь из себя бедненький и трогательный, но только не возле меня, когда она смотрит. Когда она смотрит ты — никто. Ты червяк. Жалкая пародия на человека с куском деревяшки в руке, думающая, что она умеет разговаривать. Ты хуже жабы, ты — насекомое. А я— Большая Белая Акула. И если надо, я тебя сожру.
Я был уверен, Купцов даже не понимал этой проблемы. Ведь с чего бы ему следить за Гай и её постами? А если и увидит — то разве он обратит на это внимание? Так, потешит своё самолюбие и всё — в его нынешнем положении было не трудно найти для этого повод.
Все подходили к нему и жали руку. Говорили, что не надо вешать нос, что все ученики ненавидят Слякоть Евгеньевну и ей повезло, что в этом году выпускные классы попались тихие — в прошлом, мол, на месте угрюмого байронического Купцова были отбитые хулиганы и дерзкие задиры, так что учительнице тоже доставалось. Теперь же неповиновение приняло, так скажем, более «гуманный» характер. Но более всего меня поражала резкая смена отношения к нему — ещё вчера я был единственный человек, которому было до него дело, а теперь он чуть ли не школьная звезда!
А я? Ну так, за компанию вышел… Да это моя идея была послать её нахуй! Моя! Купцов дёргал меня за ручку, как трезвая жена в попытке успокоить злого пьяного мужа, что готов разгромить ресепшн отеля, уже который час не способного их заселить. Мне нужна была уникальная идея. Нужно было приложить все усилия, чтобы Купцов так и не осознал до конца своих возможностей и даже не подумал о Юле. Их нарисованный в моей голове роман отдавал худшими литературными клише. Если раньше Купцов рисовался мне верным слугой, моим Планше, то теперь нам предстояла дуэль за сердце Юли, дуэль Онегина и Ленского, Безухова и Долохова. Пули беспристрастны и неподкупны, но что если перековать их в стрелы Купидона и выстрелить ими в ту сумасшедшую с чердака, про которую он говорил мне два дня назад, и которую я не видел ни разу в жизни? Выражаясь словами Слякоть Евгеньевны, я решил «промыть Купцову мозг», чтобы он думал, что мы подобрали ему хорошую партию.
Дождавшись большой перемены, я позвал его курить. Минуя этаж за этажом, я собирал на себе взгляды девочек-дежурных в белых блузках, таких же белых и прямоугольных, как их бейджики. У меня постоянно чесалась спина и шея из-за мелких волосков, попавших туда после вчерашней стрижки и каждая новая ступенька лестницы напоминала мне об этом. Мы с Купцовым вновь оказались на улице. Может меня хотя бы курить начнут выпускать без него?
Я вспоминал всё, что мне тогда сказал Зима. Теперь его слова звучали по-другому. А что если я и правда слишком сюсюкаюсь с Купцовым? Пора стать мужчиной. Чтобы она это увидела. Мне нужно учиться держать удар. Перестать смотреть в пол, когда тебя толкают в плечо. У меня уже хватило смелости проявить мужество однажды —настала пора доказать, что это не было случайностью. В общем, нас опять было двое. Я и моя тень.
— Расскажи мне про ту девчонку, с которой вы целовались на чердаке, — спросил я.
— Её зовут Лида, —ответил Купцов, — хочешь позвать её на свидание?
— Давайте погуляем вместе. Ты, я, она. Может ещё её подружка. У неё есть подружка?
— Наверное, я не знаю, — замешкал Купцов, — она старше меня. Должно быть у неё есть одногруппницы. Что с тобой случилось? Это моя песня так на тебя подействовала?
— Мне надоело, что ничего не происходит, — сказал я, — здесь никогда ничего не происходит. Давайте сходим в кино. Погуляем в центре, выпьем. Пусть она отведёт нас всех на тот чердак в конце концов.
— Туда больше нельзя. Теперь там возится куча её знакомых.
— Почему? Кто они такие? — удивлённо спросил я.
— Они ставят там звук и свет, а Лида их хорошо знает. Слышал что-нибудь про «Вертеп»? Он пройдёт там в эту пятницу. Прямо под чердаком. Так что сейчас туда не попасть.
Мне было трудно сделать вид, что я слышу про Вертеп впервые. Как человек, который жил у Юли Гай на страничке, я знал про все места, где она появлялась: про модные кафе, буржуазные рестораны и ночные вечеринки. Я судил о Вертепе по каким-то огрызкам информации — мрачная атмосфера приглушённого света, мерцающие огни стробоскопов, импровизированно прикрученных на ветхие конструкции бывших советских предприятий и комбинатов, и где-то посреди всего этого стоит Юля и танцует с напитком в руке. Локация рейва всегда была новой, чтобы сбить с толку блюстителей порядка, наведывавшихся с облавами и рейдами — время гламурных клубов осталось в прошлом, теперь молодёжь дёргалась посреди бывших скотобоен и бойлерных. Забытые и брошенные в объятия ржавчины нашими родителями эти здания и помещения были нами переоткрыты и вновь обретены, что позволило моему поколению нюхать фен или глотать колёса на руинах советского модернизма. Вертеп вдохнул в них вторую жизнь. И хоть Купцов ещё этого не знал, но он уже должен был помочь мне туда попасть. Так что мой ответ был такой:
— Эта Лида — невероятно интересная и необычная девушка с характером. По-моему, ты бездействуешь…
— Я не знаю, с чего ты взял, что она интересная. Во всяком случае я в ней ничего интересного не нашёл — как только у нас закончились темы, мы начали целоваться. Хотя она старше меня и тем для общения у неё должно быть хоть отбавляй.
— Да брось, ты просто не умеешь общаться с девушками.
— Вот как? Научи меня.
— Назначь нам встречу, — поймал его я, — она, её подруга и мы вдвоём. Давайте сходим в кино.
— Ей скорее захочется выпить
— Значит идём в бар.
— Нам там не нальют.
— Тогда пить будут только они, что меня совершенно устраивает! — настаивал я, — Купцов, я не хочу провести последние дни в этой клоаке, сгрызая ногти и колпачки от шариковых ручек. Я хочу девок, я хочу ночь, мне нужно чувствовать себя живым, я весь иссох и мне надо испить воды. Ты же понимаешь, что я имею в виду?
— Кажется, да, — сказал он, — только вот ты обратился с этим не по адресу. Твои дружки с района «напоят» тебя вдоволь. А я пишу песни, которые боюсь петь — Слякоть Евгеньевна была права. Мы просто два труса. И ничего больше.
После такого разговора позарез нужна была ещё одна сигарета, но, как назло, мы скурили их все. Спина чесалась жутко. Ближайший супермаркет был через дорогу и было решено идти туда. Оставив рюкзаки в камере хранения, мы отправились в табачный отдел. Возле касс, в нескольких шагах от меня я увидел высокого парня в расстёгнутой куртке и его друга в капюшоне. Они смотрели на меня и будто бы обсуждали: дерзкое лицо парня в куртке казалось до боли знакомым, но не установив кем он всё-таки был, я отвёл свой взгляд и пошёл дальше. Когда мы уже пробивали на кассе сигареты, те двое и вовсе исчезли из магазина. Пока мы стояли в очереди, Купцов достал мобильник и показал мне, как выглядит Лида. Она была хороша собой и олицетворяла Вертеп: спортивная одежда, алкоголь и безучастное лицо.
Конечно, это был не Юлин уровень. Та была школьной звездой и символом этих мест. Её хотели и обсуждали, о ней сплетничали и шуршали языками. Я всего лишь хотел прогрызть пропасть между настоящей Юлей и её образом —размыть его, если придётся. Зачем Купцову была нужна Лида? Такие девушки, как Лида, были прекрасны, но они действовали в рамках доступного им понимания жизни. Они были красивы, остроумны, и с ними тебе было хорошо, но они не давали тебе чувство, что ты правишь миром. Куда бы не приходила Юля, она была по-настоящему таинственна и желанна — обладать ею означало подчинить себе эту реальность, тогда как такие как Лида лишь помогали от неё уйти. Чтобы понять, как часто от таких, как Лида, уходили на войны, достаточно знать, как часто из-за таких, как Юля, их развязывали.
До ворот школы оставалось пару минут ходьбы. В зубах тлела новая сигарета. Мы почти перестали разговаривать, как вдруг переглянулись и поняли, что забыли в супермаркете рюкзаки. Купцов сказал, чтобы я его ждал и рысью кинулся обратно. Теперь я стоял один. Сигарета приближалась к фильтру. Где-то поблизости вновь гудела станция.
В лежавших слева от меня белых сугробах, трескавшихся маленькими мерцающими бликами солнца, точно наэлектризованных, валялись зелёные бутылки. Засмотревшись на них и задумавшись о том, почему у меня на районе лежат бутылки, я не успел обратить внимание на двух парней, стоящих посреди тротуара. Это были те двое из супермаркета. Они что-то обсуждали, но увидев меня раньше, повернули головы в мою сторону. Одного из них я всё-таки узнал. Лицо второго я просто не мог разглядеть под массивным чёрным капюшоном его пуховика. Но и кем именно был первый вспомнить не получалось. Сосед с района? Наверное, мы вместе учились в школе… Ушёл после девятого? А может мы занимались вместе на какой-нибудь секции, когда мне было лет десять? Все эти догадки буквально за секунду прокрутились в моей голове, но его лицо по-прежнему казалось лишь знакомым, лишь увиденным однажды где-то. Ни имени, ни уверенности в том, что я вообще его знаю, у меня не было, и я сделал ещё пару шагов вперёд, ближе к школе. Я уже почти прошёл молча мимо него, как вдруг услышал:
— Чё, руку обоссал?
Сука. Кем бы он ни был, ему было лучше меня не узнавать. Это было самое неуместное, что он мог сделать. Не сами слова, а то как они сказаны, с каким выражением лица произнесены. Его звонкий, тупой голос и уголки его тупого, паршивого рта в ухмылке, его расстёгнутая синяя куртка, чёрные глаза-пуговицы. Из тех людей, от которых за километр несёт выебоном, даже если от них останутся одни только эти пуговицы. Всё это смешалось с шумом в голове, с парикмахерской, с маленькими волосками на спине. Мне показалось, что нельзя дать им так со мной разговаривать, иначе Зима окажется прав, и они точно победят.
Теперь я понимаю значение фразы «…или я за себя не ручаюсь». Я за себя не ручался. Я, почти не поменяв выражения лица, за секунду подошёл к «незнакомцу» вплотную и воткнул пылающий бычок ему шею, после чего этой же рукой прописал ему правый боковой в челюсть.
Его лицо поменялось. Больше него в этот момент охуел только я.
Насколько же плохо я ударил…метко, но плохо. Наверное, если бы мир был таким податливым, как я хотел, наверное, если бы из моих ног ушла эта мешковатость и скованность (присущая дурацким снам, в которых враги за мной гонятся, а ноги, как назло, перестают слушаться и становятся ватными), а в воздухе перестала ощущаться тяжесть, тяжесть и копоть — наверное тогда он тут же рухнул бы после такой внезапной и уверенной атаки. Даже не знаю, на что я рассчитывал, потому что этого не случилось.
Вместо этого он тут же накинулся на меня и осыпал меня серией прямых и боковых в голову, хорошенько отдавив мне все ноги. Хорошо, что я был в удобной обуви. Сама мысль о том, что драка может настигнуть кого-то, когда на нём надеты, положим, сандалии приводила меня в ужас. Как их носили римляне? А вдруг палец отрежет или сдерёт ноготь? Мой запал тут же куда-то исчез, слава Богу на рефлексе я смог выставить руками блок после трёх-четырёх пропущенных по лицу. Где-то между третьим и четвёртым я поймал себя на мысли, что эта драка уже проиграна. Когда бьёшь первым — страшно, мысли в духе «зачем начал» и «теперь мне пизда».
— Тебе пизда!
Он замахнулся. Но как только его кулак долетел до моего лба, я не почувствовал ни боли, ни страха. Перестаёшь глаза зажмуривать, на секунду даже появилась мысль, что, если бы тебе платили за это, ты бы был готов драться так каждую неделю. Смелости нанести первый удар, как оказалось, нужно не так много, а вот выдержки дождаться момента, когда ты сам первый раз пропустишь, можно найти не у каждого. Я пятился от него назад, пока в конце концов он не повалил меня на землю. Рост у нас был одинаковый, а вот мяса в нём было гораздо больше. Лёжа на тротуаре, он продолжал душить меня левой рукой, а правой бить в спину и бок. Метил в почку, но промахивался и попадал чуть выше или ниже цели.
— Сука, я тебя убью! — шипел он.
— Пошёл нахуй! — сквозь зубы я.
Мне пришлось отталкивать его голову ладонями и ногтями царапать его лицо: щёки, шею (на секунду мой указательный палец даже очутился у него во рту). Я совершенно терял контроль над поединком и по кошачьи царапался, руководствуясь доисторическими инстинктами самосохранения, а затем получил от него еще один удар в бок:
— Ты девчонка. И дерёшься ты, как девчонка, — сказал он.
— Отъебись от меня!
— Мудак… — послышался голос другого парня (странно, что он не вступился за друга, но двоих я бы точно не выдержал). Его голос показался мне знакомым, где-то и когда-то услышанным в школьных коридорах — кто знает, может и он уже узнал меня. Тем временем парень, которого я ударил, душил меня, ослабляя хватку:
— Ну что, успокоился? УСПОКОИЛСЯ?!
Меня так бесили его слова. Бесили, потому что драку начал действительно я и успокаиваться нужно было мне, хотя и лицо его не становилось от этого менее противным. Я восстанавливал дыхание. Он даже помог мне подняться с земли — я начал отряхивать со спины снег и грязь, попутно нащупывая в кармане телефон и ключи. Они были на месте и никуда не вылетели.
— Ты мудак, — сказал он, подойдя ближе, — у меня нож с собой, я тебя в следующий раз просто зарежу нахуй, ты понял?
Я понимал, что это ложь, но, когда ты решил проиграть драку (а я решил её проиграть), ты говоришь и делаешь всё, чтобы побыстрее оказаться где-нибудь в другом месте. В этот момент это было моим единственным желанием, мне хотелось, чтобы всё это уже закончилось. Я просто молчал и слушал его угрозы. Второй, тот, что был в капюшоне, харкал в снег и смотрел на нас. Мой обидчик, парень в расстёгнутой куртке, схватил меня за воротник и уставился мне прямо в глаза своим ушлым рылом. Тяжелая одышка и красное, опухшее лицо говорили всё сами за себя, но страх в меня уже не помещался, ведь даже у него есть свой срок годности:
— ТЫ ПОНЯЛ? — повторил он.
— Я тебя не боюсь, — сказал я.
Но я был не уверен.
— ТЫ ПОНЯЛ, Я ТЕБЯ СПРАШИВАЮ?
Тут, внезапно, сверкая голой щиколоткой, к нам на дорогу выбежала старуха в калошах и накинутой наспех куртке. Её окна выходили на этот двор, она увидела драку. Это был неожиданный поворот. Чувство гражданской ответственности не позволяло ей сидеть в стороне. Из её сморщенного лица, состоявшего только из складок и пары глаз, вырвалось:
— ВЫ ЧТО ТУТ УСТРОИЛИ?
Мой обидчик убрал руки с моего воротника. Несмотря на озверевшую, хищную серьёзность лица этого пидора, до этой секунды мне бы и в голову не пришло улыбнуться, но я улыбнулся. Это, конечно, было из-за стресса — я немного рассмеялся от всей этой картины. Не разрядил обстановку, но скорее добавил истерики в происходящее. Двое типов, перебивая друг друга, принялись второпях просить бабку уйти и не вмешиваться в процедуру «наказания». Она была возмущена, металась между двумя противоборствующими сторонами и в итоге уставилась на меня:
— Ну и зачем ты его ударил?! — строго спросила меня бабушка.
— Стоп! Короче! — одышка у меня проскакивала через слово, — я его н-н-не узнал! Я мимо проходил! Он сказал мне: «Ты чё, руку обоссал?». Это меня…оскорбило, и я ударил его.
«Оскорбило?! ДА ТЫ РЕАЛЬНО ОХУЕВШИЙ!» — читалось на лице у моего обидчика.
— Ну и что с того?! — возмущалась старуха, — а ты бы ему сказал: «НУ ДА, ОБОССАЛ! И ЧТО?». А потом бы взял да протянул бы ему свою руку!
Где были её драгоценные подсказки минуту назад? Пару секунд промолчав, она решила вынести приговор:
— Ты из этой школы? — спросила она меня, указывая перстом в сторону здания.
— Да, я в одиннадцатом классе, — из последних сил сказал я.
Её лицо озверело, и она обрушила на двух моих врагов поток ругательств. Она начала защищать меня. Несмотря на то, что зачинщиком драки был я, ожидать скорее следовало что это они могут причинить мне вред, а не наоборот.
И это помогло. Что-то промычав, эти двое действительно развернулись и двинули прочь, видимо решив, что они и так победили. Парень в расстёгнутой куртке ощупывал ожог от моей сигареты на шее, пытаясь оценить ущерб. Он продолжал угрожающе поглядывать в мою сторону, пока он и его товарищ не завернули за угол. Старушка ликовала. Я по-прежнему пытался привести дыхание в норму. Лояльность району и соседская взаимовыручка сегодня взяла верх. Кивком поблагодарив свою заступницу, я из последних сил поплёлся в сторону школы. Аппетит, так же, как и волоски на спине, и шум в голове куда-то исчезли.
— Ром, ты в порядке?! — услышал я позади себя голос Купцова.
Его охватил кипиш. С испачканными и влажными от снега брюками, с красным лицом в кровоподтёках и синяках я смотрел на Купцова, понимая, что из-за случившегося совершенно забыл про него. Он усадил меня на низкорослый металлический заборчик, сидеть на котором было можно лишь подстилая под жопу зимнюю куртку. Я чувствовал, как потихоньку ко мне начинал накатывать страх вновь встретить этого парня, и Купцов, стоявший возле меня, будто бы тоже понял это. Как минимум, на одного из них, — думал я, — я мог бы запросто наткнуться в школе (легализованная тревога). Складывалось впечатление, что все мировые катастрофы и фатальные решения принимаются из-за исключительного желания решить какую-либо проблему в момент её появления. Мне никогда не хватало усидчивости для ведения затяжных конфликтов, я хотел их побыстрее закончить, «закрыть сделку».
Успокоившись, я рассказал ему о случившимся.
— Погоди, ты реально взял и с нихуя потушил ему об шею бычок? — внезапно решил уточнить Купцов у меня.
— Я же тебе сказал — я не узнал его, растерялся, мне показалось это какой-то лох. Идиот с района решил на меня наехать — так я подумал.
— С каких пор ты каждому встречному лоху втыкаешь в шею бычки? Это Зима тебя научил? Ром, ты слышал, что есть такое выражение — «руку обоссал»? Понимаешь, так говорят, когда кто-то игнорирует рукопожатие, — объяснял Купцов.
— Стоп, а где вообще был ты? —разъяренно спросил я, — у меня было ощущение, что мы оставили эти блядские рюкзаки в сейфе банковского хранилища в Цюрихе, а не в камере хранения Пятёрочки — настолько долго тебя не было.
— Я, по-твоему, виноват, что когда ты проводишь дружеский спарринг с чьей-то ладошкой, то любой магазин, как назло, утыкан окнами, а когда тебе приходит в голову потушить бычок об чью-нибудь шею, их там не оказывается? — на слове «шея» Купцов дотронулся до моей пальцами, — Думаешь, я бы стоял в стороне, если бы видел?
Всё верно — мне было некого винить в случившемся, кроме самого себя. Никто не виноват, что мой боковой не произвёл впечатления на обидчика, или что Африка не воскрес на пару минут из пёсьей преисподней и не вцепился ему в кадык. Если бы не рюкзак, то ничего бы не случилось. Купцову не пришлось бы идти обратно в магазин, а я не встретил бы тех двоих. Но я не думал про рюкзак, я думал про Гай и «Вертеп», а о чём в тот день думал Сергей Купцов, я бы и сам очень хотел знать.
— Ты жутко выглядишь, — сказал он, — иди домой, приведи себя в порядок. В таком виде обратно в школу тебе лучше не ходить. Я скажу всем, что ты плохо себя почувствовал и отпросился уйти.
Купцов был прав. Я ещё не видел своё лицо, но мои попытки наощупь оценить ущерб руками лишь подпитывали фантазию. Когда Серёга вернул мне рюкзак, он крепко сжал мою руку и сказал:
— Признай, что ты неровно дышишь.
— К чему? — неуверенно уточнил я.
«Господи, как он догадался? Неужели я выдал себя?», — произнёс я в голове, думая, что речь идёт о Юле.
— К уважению со стороны разных ничтожеств, — сказал Купцов, — ты боишься в их глазах считаться трусом. Но не получится нравиться всем, Лунгин — ты хочешь убить слишком много зайцев.
— Бред, — возразил я, качая головой, — нас просто проверяют на вшивость. Сначала Слякоть Евгеньевна, теперь эти двое. Знаешь, всё было, как во сне, когда у тебя руки и ноги становятся ватными. И ты хочешь ударить своих врагов или каких-то жутких чудищ, приснившихся тебе, но мышцы превращаются в говно, и ты задыхаешься от собственной немощи. Тебе разве никогда такое не снилось?
— Только не говори никому, но иногда во сне, я будто нахожусь в какой-то капсуле и лечу сквозь миры. Внутри кабины очень тепло и уютно, она будто бы обволакивает меня, как кокон. Я даже не вижу своих конечностей, будто у меня есть одни только глаза, и я смотрю в упор на всю эту сияющую звёздную красоту. Самое жуткое после такого — проснуться и, тщетно пытаясь вернуться в сон, судорожно натягивать на себя одеяло, умоляя, чтобы оно превратилось в стенку капсулы. Но так не бывает. Ведь это лишь сны, да и только.
Попрощавшись, мы разошлись в разные стороны.
Когда я пришёл домой, в ванной горел свет. Я щёлкнул выключателем, чтобы удостовериться, что внутри никого нет. «Если никто не подаёт голос — значит пусто», — думал я про себя. Я заполз внутрь. Белый свет с оттенками желтизны вместе с моей мятой рубашкой падали на кафельный пол. Стоя голый по пояс перед зеркалом, я внимательно разглядывал большие синие пятна на моём лице и теле, остановив кровь из носа куском туалетной бумаги. Следы побоев располагались причудливо, в тех местах, где их обычно не заметишь: по центру лба, на левой щеке, ненатурально прямая царапина красовалась на носу. Надо было всё же придумать, что сказать родителям. «Споткнулся об угол, упал, но всё равно получил по ебалу». У сороки — боли, у вороны — боли.
IV
Наступила пятница. Я всё-таки уговорил Купцова позвать девчонок и устроить нам двойное свидание. Договорились на вечер. Как только он передал Лиде что я хочу, чтобы она взяла с собой подругу, та согласилась со словами «специально для твоего друга будет сюрприз». Бурная фантазия вовсю рисовала мне её облик и внешний вид, метая меня от смуглой нимфетки с матовой кожей к леденящей кровь белокурой красавице с нордическим лицом. Я старался заранее подобрать темы для разговора, воображая нашу встречу во всех деталях, пока сидел на уроке. Стыдливо прикрывая следы минувших побоев рукавом пиджака, я старался думать о чём угодно, чтобы время шло быстрее, но этого не происходило. Однако, у всего была и положительная сторона — вот уже как пару дней Юля Гай отсутствовала на занятиях по причине болезни. Это лишало меня сразу двух проблем: мне не нужно было бояться, что она увидит меня побитым, в случае если сегодня ночью мне всё-таки удастся попасть на Вертеп, не нужно было думать о том, как я встречу её там. Тем не менее, совсем не думать о Юле у меня не получалось. Вот я сижу тут, а на меня смотрят всё те же портреты русских писателей и чего-то ждут. «Должно быть, только что проснулась», — думал я.
Наверное, сейчас она где-то у себя, в одной из четырёх комнат своей квартиры с большим стеклянным балконом и двумя маленькими, скребущимися в дверь, тявкающими псинами. В черных трусиках с туговатой резинкой и белой, короткой домашней майке. По щеке, как печать недавнего, крепкого сна, размазано большое алое пятно, напоминающее стаканчик клубничного мороженного. Потягивается, хрустит косточками, пальцами правой руки пробегая вдоль своих рёбер, и спичечных ножек, пахнущих вчерашним лосьоном. Перекатывается с одного конца постели в другой, вскользь читая приходящие на открытый ноутбук уведомления. На всю комнату играет The Kooks, прямо со стены на неё в упор таращится коллаж из её собственных фотографий; вспененные, запутанные волосы крошатся на дорогущий линолеум. Подёргиваясь, она притаптывает ногой и снова падает на мягкий матрац с короткого разбега, засунув свою голову между подушек. Приняв очередной кошачий изгиб, она сворачивается калачиком и по детской привычке кладет палец в свой большой, кроваво-красный рот, уставившись в слепящие лучи утреннего окна. Распахнутые чёрные толстые шторы сверкали, как два молчаливых стражника с алебардами у ложа принцессы, как улыбка, не покинувшая в то утро пределы её комнаты и доставшаяся только им.
Школьный звонок положил конец моим фантазиям. Нас отпустили домой, где я сварил пельменей и начал готовиться к вечеру. Стоя в комнате напротив большого зеркала в шкафу, я пытался принять товарный вид — на моём лице и теле ещё оставались синяки. В гостиной фоном гудел родительский телевизор. Темнело тогда достаточно рано: у меня не хватило энтузиазма зашторить окна и включить свет, поэтому я лежал в тёмной комнате, залипая в окно на горящие уличные фонари. То и дело шёл мокрый снег и дождь, казалось, что за окнами сидит нечто огромное и чавкает. Моя комната была слишком маленькая даже для меня, постоянно приходилось открывать и закрывать окна, когда становилось душно и нужно было проветривать. Из-за этого зимой я легко простужался, а летом не мог уснуть из-за обилия звуков, доносящихся разговоров и насекомых. Окна выходили на дорогу и соседний дом, я слышал буквально всё — по ночам не покидало ощущение, что ты лежишь посреди шоссе, что ты на ладони, и тебя все видят. Когда позвонил Купцов и, посягнув на моё одиночество, сказал, что мы с девчонками встречаемся в центре, я уже чуть было не передумал идти.
Я опаздывал и в метро ехал стоя — почему-то так мне казалось, что я еду быстрее, а точнее моя совесть не позволяла мне сесть. В вагоне бил яркий свет. Пытаясь нащупать пространство для манёвров, я по очереди заглядывал в лицо каждому встречному пассажиру, но парня в расстёгнутой куртке среди них не было. Я готов был поклясться, что всё ещё не мог вспомнить, откуда я его знаю. Перестать об этом думать, и раз за разом прокручивать эту ситуацию в голове, было невозможно.
Прибыв в назначенное место, я быстро нашёл ребят. Все трое ждали только меня. Сначала мой взгляд пал на Лиду — я узнал её, благодаря тому фото, и её тёмные волосы и худощавое лицо отлично смотрелись в отблеске фонарей — может быть, я даже начинал завидовать Купцову. Обещанный «сюрприз» — её подруга, украдкой разглядывала меня ещё издалека, и когда я со всеми поздоровался, она сообщила мне своё имя:
— Привет, я — Аня. Нехорошо заставлять аж двух девушек вас ждать, молодой человек.
Не имеет никакого значения, что у неё отличные ноги. У меня никогда не получалось оценивать девушку по запчастям: «шикарные бёдра», «синие глаза», «а вот нос ни туда, ни сюда» или «ростом люблю поменьше». По деталям я ни одну девушку, кроме Юли, толком не опишу, не вспомню просто, «не смотрел». Я ничего не знаю о цвете волос и глаз, о форме носа и оттенке ногтей — видя девушку, я вижу ходячий, разговаривающий комок тёплой шерсти и хочу в него попасть. Она пришла, а я даже не обратил внимания во что она одета, хотя и думал о ней по дороге сюда.
— Ладно, пошли выпьем, — скомандовал Купцов.
Лида знала одно неплохое место. Наша компания забралась в тесную рюмочную, и мы сели за столик парочками. Моя подружка на сегодняшний вечер— Аня, продолжала разглядывать меня, нарочно громко обращаясь к Лиде через весь стол:
— Так, Севастьянова, если я сегодня буду пьяная залезать на барную стойку — снимай меня, понятно? Я под твоей ответственностью!
Нарочитая показушность в вопросах выпивки выдавала в Ане мой самый нелюбимый типаж девушек — капризную неудачницу. Только школьница может так выделываться, будто вот-вот напьётся и, не дай Бог, позвонит своему бывшему:
— Что, боишься ненароком напиться и начать звонить своему бывшему? — спросил я у Ани.
Лида улыбнулась. Купцов дотошно и внимательно изучал меню. Аня, не поворачивая головы, отвечала своим высоким голоском:
— Роман, вы такой проницательный! Надеюсь, вы сможете занять меня настолько, чтобы я не смогла думать ни о ком, кроме вас.
— Да не вопрос, крошка. А когда ты последний раз танцевала на барной стойке? — спросил я.
— Ха-ха! Сейчас… Лида, когда мы с тобой были в «Spec»? Неделю назад, получается. Вот там и танцевала. Но это было уже после абсента.
— Хочешь сказать, тебе настолько не понравилось, что сегодня ты всеми силами попытаешься это предотвратить?
— Я хочу сказать, что, когда я буду наверху, я могу в порыве танца ненароком наступить каблуком на вашу умную голову, — грубо отвечала мне Аня, — Если вы вздумаете изменять своей девушке, даю совет — выходите из всех профилей, когда она остаётся у вас на ночь. Иначе в скором времени вместо вас она начнёт взбираться на стойку.
Аня встала из-за стола, попросила взять ей сидра и пошла в туалет, лихо виляя бёдрами. Я пододвинул голову к Лиде и спросил:
— Прости, а в чём заключался обещанный «сюрприз»? В том, что у неё нет парня или в том, что её легко споить?
— Я бы была поосторожнее в таких заявлениях — спокойно уронила Лида, — однажды, когда мы ходили на Вертеп, какой-то парень потратил на неё бутылку рома, и Аня всё равно ему не дала.
— Видимо, тот не становился симпатичнее от глотка к глотку, — тихо сказал Купцов, не отрываясь от меню.
Лида Севастьянова действительно была немного странная. Образ бледной незнакомки с Вертепа, повидавшей ночную жизнь, лишь дополнял эту черту. Её речь была прямой и спокойной, она выглядела как взрослая женщина, особенно на фоне истерички Ани. Купцов рядом с ней был похож уже не на школьника, а на молодого битника и фаворита роковой женщины, чуть ли не мужа Коко Шанель. Тогдашним нам, совсем юным и голодным до женской плоти, было легко пустить пыль в глаза, напялив на себя какое-нибудь красивое пальто и удачно прищурившись во время первой затяжки. После наших одноклассниц-прямоугольников с писклявыми девичьими смешками это казалось чем-то совершенным.
Мы заказали три пива и сидр. Спустя некоторое время попросили повторить. Я щупал свои синяки, видя, что девчонки на них смотрят. Через час болтовни о какой-то чепухе, я подкараулил момент, когда Аня снова вышла в туалет, и допив вторую пинту до конца, негромко спросил:
— Извини за такой вопрос, ведь мы почти не знакомы — обратился я к Лиде, — но как вышло, что вы с Аней подруги? Вы познакомились на Вертепе?
— Господи, Сергей, что за конспирация у твоего друга? — шутливо спросила Лида, повернувшись к снова уткнувшемуся в меню Купцову, — теперь я весь вечер буду думать, что моя идея свести Рому и Аню…безнадёжна! Да, мы все — я, Аня, мои подруги, так или иначе знакомы через Вертеп. Там нас познакомил Леван.
— А кто такой этот Леван? — спросил я.
— Мой приятель с Вертепа. Знает там всех и каждого, в том числе организаторов. Не пропустил ни одной вечеринки. Приходит, закатывает, так сказать, мистерию какую-нибудь, приносит с собой разные вкусности. Вам правда, мальчики, такое ещё рано— вон Серёжа даже бриться толком не начинал, — на этих словах Лида ласково провела ладонью по подбородку Купцова, и тот поднял на неё глаза:
— Да с чего ты взяла, что не начинал? — спрашивал он.
— Потому что, когда я целую тебя, я не чувствую твоей щетины, мальчик —сказала Лида полушёпотом, после чего медленно поцеловала ошарашенного Купцова в губы и снова повернулась ко мне. Лида была странной.
— Собственно, Леван дал мне ключи от чердака, куда мы на днях ходили с Серёжей — продолжила Лида, — там очень атмосферно, такая таинственность. В прошлый раз, когда всё проводилось на скотобойне, было так себе. Сыро, грязно, ржавчина. Когда с таблеток отпускало, так вообще жуть — вокруг малолетки, тьма —ощущение, будто заблудилась во время школьной экскурсии на мясокомбинате.
— И теперь Вертеп будет проходить на том чердаке? — спросил я.
— Прямо под ним, в старинном здании возле Татищевского особняка. Леван говорил, что когда-то в этом доме собирались медиумы и ведьмы. Устраивались спиритические сеансы, в старину на первом этаже был гадальный салон. Потом там долго хранился какой-то архив, поэтому всё заставили шкафами, а интерьер остался прежним. Потом какая-то хиппи-коммуна жила. А нынче — Вертеп.
После весьма продолжительного отсутствия, Аня вернулась и села за стол. Решено было повышать градус и взять Ольмеку. Нам принесли стопки, лимон и соль. В помещении было жарко и душно. Мы выпили около трёх шотов каждый и становились веселее и развязнее. Особенно Купцов. Речь как-то опять зашла про Вертеп, и теперь уже к разговору присоединилась Аня:
— Я и не собиралась идти на Вертеп! Особенно зная, что этот МУДАК туда придёт —ни за что! Это вам, мальчики, сейчас кажется, что в каждом месте, где вас нет, происходит что-то классное, поэтому и удивляетесь почему нас — девочек, теперь чаще тянет пить вино и сидеть дома.
— Скорее похоже на то, что ты предпочитаешь мстить своему бывшему с барной стойки в заведениях, вроде этого… — сказал я.
— А когда парни расстаются с девушками, они тут же дают обет безбрачия? — возмущённо спросила Аня, — Я делаю, что хочу! Вертеп? Мне он надоел задолго до того, как мой бывший решил приударить там за вашими ровесницами. Вот как они начали туда ходить, эта вечеринка и превратилась в один большой гадюшник.
И тогда Аня стала во всех подробностях описывать каждую дубоватую суку, которая в эту ночь могла явиться на Вертеп. Я присоединился к её шутливым издевательствам, понимая, конечно, что это специфическая агитация туда пойти. Она пренебрежением и критикой обводила события и людей, которые ей на самом деле не безразличны, что было свойственно вообще всем людям её среды. Мы все постепенно пьянели, и у нас заплетались языки. Когда я переставал её слушать и смотреть на неё, я смотрел куда-то чуть выше её волос, в угол, и все образы в голове начинали смешиваться: она, Юля, Лида, бабулька из того двора. Когда-нибудь все мои девчонки узнают о существовании друг друга и начнут грызться.
Мы пили и разговаривали ещё около часа. Я, Лида и Купцов постоянно смеялись и шутили, а Аня стала мрачна и несговорчива, уткнувшись в свой телефон. Через какое-то время она опять встала и вышла из-за стола. Её не было довольно долго, и Лида заволновалась. Я решил пойти и проверить, всё ли в порядке. Рядом с уборными Ани не было — я вышел на улицу, и увидел, как она пьяная звонила своему бывшему. Без куртки, она стояла в слезах и кричала в трубку на потеху курящих поблизости. Я подошёл и вырвал телефон у неё из рук.
— Ты что, охуел?! А ну верни мне его, сейчас же!
— Нет. Пойдём внутрь, тебя все ждут, — сказал я, пытаясь взять её за руку.
— Отстань от меня, придурок! Ты что, думаешь я буду тебя слушать? Мой младший брат старше, чем ты!
Я подошёл к Ане вплотную и поцеловал её. Она аккуратно оттолкнула меня ладонью, проведя ею как бы сверху-вниз, будто царапая мне грудь.
— Рома! Что происходит?! Прекрати!
Я обнял её за талию и прижал к себе. В этот раз она не сопротивлялась, и мы целовались минут пятнадцать, пока оба не окоченели от холода.
— Пошли внутрь, — сказал я.
Зайдя в бар, я обнаружил на её телефоне семь пропущенных вызовов от человека по имени СТАС — ну и пошёл он нахуй, — подумал я. Аня сейчас не может взять трубку.
Купцов и Лида, тем временем, сидели в обнимку и целовались. В рюмочной теперь стоял такой шум и гам, что они не слышали, как мы им кричим. Посидев вместе ещё несколько минут, чтобы согреться, Аня подскочила и крикнула:
— Пошли гулять по городу! Здесь скучно и душно!
Вот это мне нравилось. Синяки пройдут. Юля Гай — не единственная девушка на земле. Слякоть Евгеньевну забуду через год. Мне хотелось праздника здесь и сейчас, чтобы всем вокруг меня обязательно было весело и хорошо, а мерцающие вокруг нас огни что-нибудь означали.
Мы вышли на улицу, взяли в ларьке ром и колу, и, перелив их в одну бутылку, пили по очереди не сбрасывая шаг. Купцов и Лида держались за руки — та что-то шептала ему на ухо и смеялась. Их связь будоражила моё воображение. Мои спутники подталкивали меня к блуду, а недавно пережитое унижение и страх будущего заставляли всецело отдаваться их прихотям. Тротуар тащил нас за собой вперёд: мы шли и пили. Я включил с телефона какую-то песню, и мы начали горланить её вчетвером на радость ночи.
Почти допив до конца бутылку, мы решили сделать привал в небольшом скверике. Где-то вдалеке на скамейке киряли панки. Мы сидели на бугорке с Купцовым и курили, наблюдая за Лидой и Аней: девки пьяными лежали на снегу и, держась за руки, делали ангелов.
— Ну и ночь, — сказал Купцов, — спасибо, что уговорил меня всех вытащить.
— Я же тебе говорил, чтотвоя Лида очень интересная…
— Да уж, ты оказался прав.
— Поехали на Вертеп.
— Что? Прямо сейчас? Ты с ума сошёл? — Купцов даже как будто немного протрезвел.
— Я совершенно серьёзно.
— Ты же знаешь, я не ходок по таким местам. Мне нечего там делать. Толпа модников, мажоров, каких-то наркоманов и сумасшедших. Одинаковая музыка. Да нас туда просто не пустят — мы ведь ещё малолетки!
— Посмотри туда — сказал я, показывая на Лиду, — вот наш входной билет на Вертеп.
Тем временем девчонки начали возиться в снегу и в шутку бороться друг с другом. Лида повалила Аню на лопатки и нависла над ней, стоя на коленях. Высосав из пластиковой бутылки последние капли спиртного, Лида демонстративно швырнула её в сторону и поцеловала Аню. Теперь они медленно и красиво целовались в окружении таявших сугробов. Купцов долго смотрел на всё это и продолжал отнекиваться от моей идеи. Тогда я спустился вниз и предложил поехать на Вертеп нашим спутницам:
— Девчонки, а как насчёт заявиться сегодня в один большой гадюшник и навести в нём шороху, а?
Девушки оглянулись на меня, переводя дыхание и пьяным хором ответили: «Да», будто они весь вечер только и ждали этого вопроса. Их радостный вопль царапал ночь. «Чего же мы ждём?» — такой был общий смысл всех доносившихся фраз, которые я смог разобрать. Теперь Купцов был в меньшинстве и ему ничего не оставалось сделать, как безоговорочно поддержать эту затею. Лида сказала, что сначала ей нужно быстро переодеться и взять денег. Так что мы вызвали такси, и все вместе поехали к ней домой.
Это была достаточно просторная квартира с высокими потолками и чёрными стенами комнат. Пока Лида наводила туалет, Купцов спустился за выпивкой в ближайший магазин. Мы с Аней остались вдвоём в гостиной. Она крутилась перед зеркалом, спрашивая меня, нравится ли мне её фигура.
— А грудь у меня хорошая? Как ты думаешь?
— Думаю, вполне себе.
— А ноги? Не выглядят уродливо?
— Нет, у тебя отличные ноги, крошка.
— Хватит называть меня крошкой, — ворчливо сказала Аня, — это ты крошка, ты же школьник, ха-ха! Я и забыла, представляешь.
— Мне все говорят, что я очень молодо выгляжу, но вообще-то я бы не сказал, что похож на школьника.
— У меня брат старшеклассник, так что я никогда не спутаю просто молодого парня и милого дерзкого школьничка, вроде тебя.
— Мне до сих пор не продают сигареты из-за этого, и я считаю это несправедливо, — жаловался я.
— Посмотри, у тебя даже синдром школьника.
— В каком смысле?
— У тебя на руках следы от шариковой ручки, ты испачкался. Такие следы только у школьников бывают.
Её внимательность начинала меня пугать. Тем временем вернулся Купцов. Поставив на пол пакет, из которого торчали горла бутылок шампанского и коньяка, он вручил мне чек на 3600, чтобы мы разделили его пополам. Угощая девушек таким манером, определённо чувствуешь себя взрослее и беднее одновременно.
— Сука, всю помаду съела, —сказала Аня, продолжавшая ошиваться возле зеркала, — Лида, ты скоро там? — крикнула она на всю квартиру.
Лида вышла из спальни. На ней была чёрная кожаная куртка и джинсовые шорты с колготками. Обильный, дикий макияж на лице напоминал боевой раскрас воинственного индейского племени. Предыдущий её облик, полный женственности и таинственности, исчез без следа. Желание в ней искрилось. Хрустнув тяжёлой подошвой ботинка по проседающей под ногой половице, она улыбалась, выставив вперёд колено и грудь. Купцов тащил на Вертеп самую тёмную лошадку. «Ну что, мальчики, я готова», — сказала Лида.
Родителям я сказал, что останусь на ночь у Купцова. Быстро приколотив шампанское в ожидании такси, коньяк мы допивали уже в машине, по дороге туда. Вечеринка начиналась, когда по закону мне уже нельзя было находиться за пределами дома одному, так что выйдя на улицу, я ещё несколько минут наслаждался пустотой и безлюдностью, пока машина не подъехала к подъезду. Я сидел спереди. Таксист завёл разговор не напрямую — напрямую они вообще никогда ничего не делают, такой уж они народ. «Ты посмотри… опять всё перекопали…». Будто не со мной. Вскоре мы были там.
Перед нами раскинулся старинный жёлтый дом. Тускло освещённая редкими фонарями улица замыкала его с боку. Людей возле дома не было совсем, от чего в моей голове проскользнула мысль, что мы указали водителю ложный адрес.
— Вход с заднего двора, пошли — сказала Лида, и мы двинулись, оставив ночь позади.
Зайдя внутрь, мы оказались в широком предбаннике. Здесь толпились те, кто вышел покурить, те, кому стало плохо и хотелось на воздух, а также те везунчики, которых не пустили или вышвырнули вон. Я закурил сигарету. Пьяная Аня повисла на мне, обхватив мою шею. Из глубины стен и дверей доносились отголоски музыки. Лида пыталась дозвониться Левану, чтобы он пришёл к нам и помог нас впустить.
Я повернул голову налево и увидел, как молодой парень топтался в углу с выпученными глазами и на полной громкости нёс какую-то околесицу, пока трое других пытались успокоить его. Он не мог стоять на месте и ловить себя на мыслях, он не мог сосредоточиться и хватался за воздух, требовал не допускать бездействия и тишины. Больше всего из его спутников говорил какой-то бородатый лысый мужичонка в коричневой дублёнке, по внешнему виду тоже не совсем трезвый. На его груди маячило пластиковое удостоверение с VIP пропуском на балконы и в гримёрку. Трясущийся парень не успокаивался, всё больше и больше привлекая внимание суровых охранников неподалёку, а бородатый мужичонка что-то говорил и размахивал связкой ключей.
— Эй, мужик! А ты, случайно, не Леван? — крикнул я бородачу, решив, что раз имя «Леван» похоже на какую-то ближневосточную страну, то и его владелец тоже будет. Я оказался прав.
Леван обернулся в нашу сторону. Лида, увидев его, демонстративно хлопнула себе ладонью по лбу. «Леван! Леван!» — адресовала она ему свой крик. Он что-то напоследок сказал двум другим своим компаньонам и подошёл к нам.
Со всеми поздоровавшись, Леван повёл нас через тёмные задымлённые коридоры, приговаривая стоявшим на пути охранникам «они со мной». Большие и добрые глаза здоровяка сияли, при виде Лиды. Леван напоминал мне могучего друида, шамана с посохом и хозяина леса, тайными тропами ведущего нас сквозь толпу объебосов.
— А что случилось с тем парнем на входе, — спросил я Левана, — это был твой друг?
— Ни в коем случае. Просто чувак переборщил с кислотой. Обкидался ей вместе с таблетками, один химический элемент вступил в идейное противоречие с другим и вуаля — парню сорвало крышу. Ему кажется, что мы все очень злые, — на этой фразе Леван сильно ударил себя в грудь, — что сдадим его милиционерам в поликлинику, что всё здание рушится в труху у него на глазах. Твердит что-то про ведьм. Я рассказал его дружкам, что нужно делать, чтобы он пришёл в себя.
— Тогда зачем помогать, если он тебе никто?
— Понимаешь, старик, я давно в игре. Я — талисман этого праздника. И уже который раз я вижу детей, наступающих на одни и те же грабли, — они жрут незнакомые для них препараты в шумном месте с кучей посторонних людей. С известным результатом. Я ведь пытаюсь им сказать еще до того, как они кладут промокашки себе под язык, что нужно расслабиться, отдаться течению, запретить запрещать, приплыть к первому Бардо, если получится — «в той комнате незначащая встреча…» или как там было? А они ведут себя как щенки, брызжа слюной и бездумно глотая все, что найдут на обратной стороне магнитика. Понимаешь, с кислотой надо учится абстрагироваться от происходящего и перестать сопротивляться её эффектам — «Русский солдат, сдавайся! В немецком плену хорошо кормят». Но они опять берутся за своё…
— А про ведьм это правда? Я слышал, что тут раньше были какие-то шабаши, — решил я полюбопытствовать.
— Ведьмин дом, ха-ха! Да любой рейв позавидовал бы этой истории, не находишь? Слушай, я кино занимаюсь, если тебе интересно. И я где только не был, и чего мы только не снимали — и вот в таких старых домах, и в катакомбах, и в водонапорных башнях, ещё дореволюционных. Практически везде есть маза найти какой-нибудь причудливый артефакт. Шар какой-нибудь, зеркало, шкатулку. Потом набегает куча «паломников» и начинает чертить там какие-то пентаграммы, вызывать пиковую даму и заниматься откровенной хуйней. Вертепу эти слухи на пользу — поднимают ажиотаж. Но серьёзно об этом думать брось. Мы торчали на чердаке недели две, общались с местными хиппи, подвозили аппарат. Никакой мистики не наблюдали. Я всем рассказываю байку про этих ведьм — но мы-то оба знаем, что настоящие ведьмы сейчас здесь, под прицелом стробоскопа. Вот мы и пришли!
Окольными путями Леван вывел нас к танцполу. Мы повесили куртки, проскользнули внутрь и были оглушены музыкой. Здание оказалось полузаброшенным, по бокам валялись нагромождения из досок: становилось ясно, что это очень большая старая квартира без мебели с высокими потолками и гигантскими колоннами по периметру. В одной из комнат был оборудован бар, куда уже выстроилась внушительная очередь, в самом большом помещении находился задымленный танцпол в тусклом, фиолетово-зелёном освещении. Весь Вертеп был приведён в сумрачное движение. Балом правила прямая бочка, а Наташи Ростовы и Кити Щербацкие с чёрными зрачками-воронками плыли вокруг нас в мутных плевках дым-машины. Стоит заметить, они все то и дело бросали свой взгляд на Купцова. Мрак и огни стробоскопа делали его лицо другим. Что-то в нем становилось сильнее и первобытнее.
Аня впилась в мой бицепс и крикнула:
— Я ПОЙДУ СХОЖУ И ВОЗЬМУ НАМ ВЫПИТЬ!
Начались эти перекрикивания. Моя пассия отправилась к бару, чтобы принести нам ром. Я озирался по сторонам и всматривался в грохот, рассчитывая не выглядеть слишком уж по-дурацки не делая ничего.
Танцпол задыхался в облаке дыма. Хоровод из лиц, огней и голосов блуждал по старинному дому, сотрясая стены своим тяжёлым дыханием. Липкие капли напитков и кляксы растоптанных самокруток хватали меня за ноги, как потревоженные Вертепом призраки людей, когда–то давно здесь живших. Запах пота и духов смешивался с дымом и кусал меня за лицо, стараясь стащить с меня маску безразличия. Я чувствовал себя одиноким паломником в самом центре языческого капища. Каждое движение, каждый пойманный ртом вздох будто шептал мне «иди к нам». Я никуда не собирался уходить. Радение хлыстов было в самом разгаре.
Выпив по два больших красных стакана, мы пошли танцевать. Я не очень умел это делать и двигался как ёбаный Буратино, но Аня была в восторге. Напиваться у неё получалось. В танце с закрытыми глазами она почему-то напоминала мне сельдь. Купцов и Лида танцевали неподалёку, сливаясь с людским морем. Музыка была громкой, даже чарующей — я попросту не мог придумать, чем мне больше нравится заниматься: двигаться под неё в такт, забыв о происходящем, или вслушиваться в неё. Аня принесла нам ещё по стакану, но тут мне приспичило отлить, и я исчез с танцплощадки. Стоя в очереди, я на секунду загляделся на малопонятные надписи, выцарапанные кем-то на потолке. Вдруг я почувствовал, как рука по локоть стала мокрой. На меня пролили какой-то липкий алкоголь. После недавних событий, ещё разок попытаться потушить об кого-нибудь бычок не виделось мне таким уж невероятным сценарием, тем более что разозлился я за секунду. Обернувшись, я был парализован:
— Господи, прости меня пожалуйста! Не сильно?
Передо мной стояла Юля Гай и вытирала меня салфетками. Это действительно происходило. Неряха чувствовала себя неловко, изрядно опустив свою королевскую стать: с моей руки стекали капли вина; на одежду почти не попало, но она пыталась вытереть и там.
— Всё нормально, ничего страшного, — мямлил я, — как твоё самочувствие, Юль?
«Неужели ты мог ляпнуть такую хуйню, идиот — ты ещё у неё температуру померь», — думал я.
— Рома Лунгин! — на лице Юли появилась широкая улыбка и смех, как только она узнала меня, — ты что здесь делаешь?
Нет-нет, минуточку! Это ТЫ что здесь делаешь? Почему ты не лежишь в постели с щенками и алебардами, сгорая от гриппа с градусником во рту? Как я мог не понять, что ты придёшь? Зачем всё случилось именно сейчас?
Сквозь её белую майку, заправленную в чёрные брюки, просвечивалась грудь. Она сжимала опустевший бокал, улыбалась и смотрела на меня, водя глазами вверх-вниз. Моё огромное лицо отражалось в её бокале, полностью не помещаясь в него. Повсюду мерцал свет, и вокруг нас текли люди. Я собрался с силами и сказал:
— Мы тусовались с Купцовым и решили заглянуть сюда. Все вокруг только и говорят про Вертеп.
— А может быть, ты меня преследуешь, Лунгин? Пишешь со мной сочинения, ходишь со мной на Вертеп, м? — на этих словах Юля прищурилась и немного улыбнулась, как она всегда делала, когда флиртовала с парнями, —даже не представляю, где мы столкнёмся в следующий раз.
— Откуда мне знать, может ты специально облила меня, чтобы завести этот разговор, — сказал я, всё-такинайдя в себе силы быть остроумным, — и на самом деле ты без ума от меня?
Улыбаясь, Юля ещё раз дотронулась до меня, как бы наощупь удостоверившись, что на мне всё высохло. Подойдя ближе, она наклонила голову ко мне, и я впервые узнал её запах. Затем она направилась куда-то в сторону, договаривая на ходу:
— Ладно, ещё увидимся, Лунгин. Не убегай далеко.
Юля растворилась в танцующей толпе. Я с трудом вспомнил, что шёл справлять нужду. Всё же оказавшись в кабинке туалета, я смотрел в грязное, желтеющее зеркало и говорил:
— Прямо сейчас нужно избавиться от Ани. Она не должна попасться Юле на глаза. Надо споить её вусмерть, взять у Лиды или Левана ключи от чердака, спрятать там её пьяную тушку и приударить за Юлей сейчас же, пока этого не сделал кто-нибудь ещё. Чёрт возьми, да даже Купцову лучше не показываться ей на глаза. Я в жутком положении… Думай, думай, думай…
Когда я оказался снаружи, из конечностей ушла слабость. Мозг работал на пределе своих возможностей, одновременно и протрезвев, и опьянев от случившегося. Увидев Купцова и Лиду, слившихся в ритме танца, я подошёл к ним и спросил:
— Кто-нибудь из вас видел Аню?
Купцов задумчиво поглядывал куда-то вдаль ещё до того, как я задал вопрос, словно кого-то выискивал. Лида, щеголяющая своим панк-прикидом, задумчиво посмотрела на меня, оголив зубы.
— Она тебя везде искала, — сказала Лида, глотая выпивку, — а потом, кажется, ей надоело, и она ушла танцевать вон туда.
Лида указала направление. Я подошёл ближе и сказал:
— Мне нужны ключи от чердака. Они ещё у тебя?
— Представляешь, Аня только что спрашивала у меня то же самое, — сказала Лида, — я отдала их ей.
Протискиваясь через пульсирующие кучки мальчиков и девчонок, я отправился искать Аню среди дыма и огня. По мере моего продвижения вперёд становилось жарче. Вдруг я снова увидел Гай, одиноко стоящую у стены и пьющую свой апероль. Её чёрные волосы падали на грудь, в руке светился телефон. Она стояла совершенно одна, терзая меня своим видом.
Я знаю, как начать разговор. Я знаю, что я ей тоже нравлюсь —всё было ясно ещё у Скарлатины Ивановны, а подтвердилось, когда мы встретились здесь. Теперь главное собрать волю в кулак, подойти и заговорить с ней, пока она так беззащитна, пока этого не сделал кто-то другой. Сейчас или никогда. Юля поднимает глаза и смотрит в мою сторону, она заметила, что я пялюсь прямо на неё. Теперь она меня видит и отступать некуда. Я делаю шаг вперёд…
— Вот ты где, мальчишка — послышался голос позади меня, — Я повсюду тебя искала.
Это была Аня. Она подошла со спины и обняла меня прямо на глазах у Юли Гай, которая увидев это, мигом прильнула к экрану с едва заметной ухмылкой.
— Представляешь, он здесь! — продолжала Аня, — Этот придурок стоит возле бара с какой-то мерзкой рыжей тварью и лапает её — и в этот самый момент мимо него прохожу я! Видел бы ты его лицо, ха-ха, кажется, в этот момент его насквозь прогнившая душа ушла в пятки. Слушай, я хотела сказать тебе спасибо за то, что отнял у меня телефон сегодня вечером. Я ведь была уже готова ехать к нему и всё ему простить, но ты меня как ведром с холодной водой облил! Напомнил мне про гордость… Ну и чего ты встал? Пошли танцевать, пошли пить, Рома, да пошли уже куда-нибудь…
Аня берёт меня за руку и это всё напоминает какой-то жуткий, кошмарный сон: она начинает криками на ухо разговаривать со мной, видимо пытаясь объяснить, как сильно нуждается в моём обществе, полностью выдавая меня с потрохами. Теперь даже о несерьёзном обмене фразами с Юлей не могло быть и речи — я был заявлен как одновременно парень в отношениях, так и как человек с параличом лицевого нерва: за минуту, что длилась эта неловкая сцена, я не смог обронить ни слова.
Мы с Аней подошли к барной стойке и заказали несколько стопок. Уже изрядно опьяневшая, она выпила их залпом. Мы потанцевали ещё десять минут: Аня постоянно тёрлась об меня, падала мне на руки, лезла целоваться с языком и кричала на ухо, что без ума от меня. В конце концов, она прижала меня спиной к обшарпанной стене, обвилась вокруг шеи и сказала:
— Послушай, я должна тебе отсосать.
— Крошка, у меня сейчас небольшие проблемы, это невозможно…
— Ты что, не понимаешь, это РАДИ НЕГО, ради СТАСА.
— Блядь, что ты несёшь?
— Я хочу отсасывать тебе, зная, что Стас поблизости! — Аня трясла в руках крохотной связкой ключиков, с таким довольным видом словно это были его яйца. — Знаешь что это? У меня есть ключи от чердака. Пойдём наверх.
Она затащила меня на чердак, по дороге заскочив в гардероб и прихватив с собой наши куртки. Аня знала куда идти, видимо её уже водила сюда Лида или вроде того. Она по-прежнему крепко сжимала мою ладонь, а я старался смотреть в лицо каждому встречному по дороге туда, в надежде найти в его глазах непонятно откуда взявшееся сочувствие. В тусклом коридоре на втором этаже мы нашли нужную лестницу. Людей рядом не было.
Кое как взгромоздившись на лестницу и с четвертого раза попав ключиком в замочную скважину, пьяная Аня отворила чердак, жестом пригласив меня к себе. В этой небольшой комнате с низкими потолками совсем не было света. Снизу доносилась музыка, но теперь она была настолько тихой, что, наконец, можно было перестать её перекрикивать.
— Ты что-нибудь видишь? —спросил я.
— Дай мне свою зажигалку, —сказала Аня, — нужно найти шкатулку.
Пару минут порывшись на полу как собака и подняв лёгкий слой пыли в воздух, Аня достала большую белую свечу из какой-то деревянной коробочки. Она зажгла её и поставила в угол комнаты.
— Ложись, —сказала Аня, постелив на холодный пол свой пуховик, — и не размахивай руками слишком сильно, иначе свеча потухнет.
Она что, предполагает, что я буду отбиваться от неё? Вообще это был бы не такой уж и плохой вариант, тем более что ничего, кроме отвращения к этой пищалке с причёской я уже не чувствовал.
Однако теперь я лучше видел пространство вокруг себя: целиком отделанное и пахнущее деревом, оно всё было исписано какими-то странными надписями на кириллице и латинице. В другом углу чердака было темно настолько, что казалось, будто это темнота шевелилась и дёргалась в разные стороны — оттуда доносился едва заметный, странный шум. Проглядывались детали интерьера: старинные комоды с отломанными ручками и ножками, часы, стрелка которых остановилась на цифре три, какие-то странные разбросанные повсюду шкатулки и обувь. Этот бардак приютил как знакомые вещи из настоящего, так и Богом забытые странные артефакты прошлого. Одним из таких был маленький серый шар, который выкатился из-под шкатулки. Я схватил его, он помещался в мой крохотный кулачок, и с любопытством начал разглядывать — казалось, кто-то выдохнул сигаретный дым внутрь этого шарика и навсегда запер его внутри, поскольку серый цвет словно пульсировал и перемещался в его полости.
— Отдай сюда эту штуковину, — сказала Аня, — или положи её рядом.
Я повиновался и положил шарик возле горящей свечи. Аня неумело и нелепо начала пытаться расстегнуть мне джинсы, круговыми движениями языка облизывая свои губы. Через несколько секунд я отвлёкся и вновь начал пялиться на стеклянный шарик.
— А что если это спиритический шар? Или какой-то колдовской предмет и в нём живёт душа съеденного заживо еврейского мальчика начала XX века? — спросил я.
— Ты что, в край охуел? — злобно спросила Аня, опалив меня гневным взглядом. — Дай мне эту штуку.
Аня попыталась дотянуться до шара, чтобы избавиться от него и уже быстрее начать мне отсасывать, но пьяная упала на меня лицом в грудь. Затем, попытавшись подняться, снова потянулась за шариком, но его уже схватил я и не собирался ей отдавать.
— Дай сюда! Отдай мне его!
Я боролся с Аней на полу с расстёгнутыми джинсами лёжа на её пуховике. Теперь это уже было дело принципа — я не собирался уступать ей этот шар.
— Дура, ты его сломаешь! А что если он стоит кучу денег? А если на нём лежит порча и ты теперь наложишь её на нас? — кричал я.
— Что ты несёшь, придурок?! Брось, брось его!
— Нет!
— ДАЙ СЮДА!
Больно ущипнув меня своими ногтями, Аня выхватила из моих рук шар и в порыве ярости бросила его в самый тёмный, противоположный угол чердака.
— ПРЕКРАТИТЕ, УМОЛЯЮ, Я БОЛЬШЕ НЕ БУДУ МОЛЧАТЬ, — донеслось оттуда.
Аня отскочила от меня на несколько метров, словно её ударили током. С перепугу я схватил её пуховик и бросил в угол, откуда только что пронеслась реплика, в надежде что это нейтрализует её источник. Послышались всхлипы и рыдания, с чётко выраженным «пожалуйста, пожалуйста».
— ЧТО ТЫ ТАКОЕ?! ЧТО ТЕБЕ НУЖНО? —с перепуга кричала Аня, одной рукой пытаясь перекреститься, а другой нащупать на полу что-нибудь тяжёлое и ещё раз бросить это в темноту.
— Стой, погоди, я его знаю, — крикнул я, схватив Аню за руку, —я видел его сегодня у входа.
Я взял свечу и поднёс её к углу, чтобы убедиться в своих догадках. Куски стекла от разбитого предмета были разбросаны по полу и торчали в стене, чудом не задев нашего героя. Уткнувшись в толстовку с бледным, мокрым лицом передо мной весь съёжившись сидел тот самый парень в бэд трипе. Подойдя к нему вплотную и успокаивая его около десяти минут, мне удалось узнать, что его зовут Паша, и он сидит здесь уже около часа.
— Как ты сюда попал? Почему молчал? — спрашивал я.
— Страшно…страшно же.
— Мы открыли чердак ключом. Кто тебя здесь закрыл?
— Леван отвёл. Я просил, просил его не уходить, но он вышел…
Хорошо, что Паша не дождался минета, иначе его опалённый наркотиками мозг решил бы, что Аня пытается меня сожрать. Мы с ней решили посидеть с ним, пока к нам кто-нибудь не придёт. И действительно, через несколько минут вернулся Леван с пледом и подушкой в руках.
— Эй, а вы кто такие, и кто вас сюда впустил? — удивлённо спросил он, не успев толком разглядеть нас.
Рассказав ему о случившемся, мы возмущённо пытались узнать, зачем он оставил Пашу здесь одного. Леван сказал, что быстро спустился в машину и взял подушки и одеяло, чтобы парень смог переночевать на чердаке, пока не придёт в себя. Именно в это время сюда заявились мы. История напоминала какой-то бредовый кошмарный сон. Курнув с Леваном и ещё немного посидев с Пашей, мы с Аней забрали куртки и оставили их вдвоём, спустившись вниз по лестнице такими трезвыми, словно вся прошлая ночь больше ничего не значила.
Весь бледный и вспотевший я вернулся на танцпол. Каждый из нас решил рассказать нашим товарищам эту историю позже — или не рассказывать никогда. Аня вызвала такси и поехала домой, Лида с Купцовым нашли себе весёлую компанию возле туалетов и не собирались спать эту ночь. Юля Гай бесследно исчезла, видимо, одна или с кем-то покинув этот дьявольский дом. Я устал и хотел спать. Попрощавшись с ребятами, я направился в сторону метро, которое вот-вот должно было открыться.
Любопытно, что ранним субботним утром в метро встречаются лишь две категории людей — помятая молодёжь с глазами-подстаканниками и верующие. Первые — домой, другие — на службу. Я ехал, прокручивал в голове все события вечера и удерживал в памяти Юлин запах, чтобы, не дай Бог, не забыть. Это ещё не конец — совсем скоро мы встретимся вновь, где я продолжу свою борьбу и не отступлюсь. Когда желаемое вдруг стало сегодня для меня таким осязаемым я больше не хотел размениваться на мелочи. Я сиял. Внутри меня пожары, внутри меня горящая бочка, вокруг которой солдаты греют руки. Её взгляд, должно быть, всегда был немного пьяный, когда её трахаешь. Во всяком случае, такое ощущение складывалось, когда на неё смотришь. Как будто она в любой момент готова опьянеть для тебя и только ждёт сигнала на низком старте. Мне не кажется, что фантазии меня развращают. В конце концов, если где-то внутри человека есть рай, он обязательно туда попадёт.
V
Весна наконец-то вошла в свои права и первые ручьи воды облизывали тротуар. Юля Гай стала периодически поглядывать в мою сторону, но мы не разговаривали дольше одной минуты, с той самой встречи на Вертепе. Я решил заговорить с ней, как только представится случай — до сочинения по литературе оставалось всего два дня.
Моё путешествие к школьным ступеням подходило к концу: ныряя через проходные ворота, я воткнул непотушенный бычок в макушку сугроба и оставил это новоявленное произведение современного искусства на всеобщее обозрение. Утром район напоминал мне вывернутую наизнанку белую футболку — и теперь не было ни одной причины, чтобы оставаться на нём дольше, чем того требовала ситуация, поэтому, почти не отряхивая ботинки, я проскочил через желтеющее лицо заскучавшего охранника, приложив свой пропуск куда надо.
В тот день солнце рвалось во все стороны. Я ощущал прилив сил и шёл в школу в хорошем настроении. Так и не встретив за эти дни никого, с кем я дрался неделю назад, я перестал бояться и ждать, что они выскочат из-за угла в самый неподходящий момент. Теперь моей головной болью была только Слякоть Евгеньевна.
Купцов и я систематически прогуливали уроки химии после того демарша. Это грозило нам серьёзными последствиями. Вся школа пристально наблюдала за исходом этого противостояния, зная — нам рано или поздно придётся приползти к Слякоть Евгеньевне на карачках и просить прощения, слёзно умоляя аттестовать нас хотя бы тройкой. Все наши одноклассники моментально попали к ней в немилость: учительница стала занижать им оценки, издеваться и перегружать домашними заданиями в отместку за наше неповиновение. Ни я, ни Купцов не хотели отступать, но ещё одна неявка грозила для нас двойкой в полугодии. Наши одноклассники, и, в особенности, страшные девочки-отличницы, ненавидящие Слякоть Евгеньевну, презрительно смотрели на нас с Купцовым и ждали, когда мы, наконец, дадим себя сломить. Казалось, если этого не сделает она, рано или поздно это могут сделать они.
Мы стояли и ждали у входа в кабинет. Слякоть Евгеньевна всегда запирала класс и разрешала входить только вместе с ней, в самую последнюю минуту до звонка. Это держало учеников в напряжении, не давая привыкнуть к обстановке внутри. Все переглядывались. Мы стояли чуть поодаль, чтобы зайти внутрь одними из последних. Урок начался, мы с Купцовым сидели на своих местах как ни в чём не бывало.
— А вы, собственно, по какому поводу к нам заглянули, молодые люди? — в своей манере, не отрываясь от стола и что-то читая, спросила нас Слякоть Евгеньевна, — Поезд ушёл. Собирайте свои вещи, встретимся в следующем году.
Стояла напряженная тишина. Все знали, что дело серьёзное, но не предполагали, что настолько. Помогать даже сочувствующим взглядом нам никто не собирался. Я посмотрел на Купцова, и тот дал мне сигнал — «говорить буду я». Он встал и сказал:
— Слякоть Евгеньевна, простите нас. Мы неправильно себя вели и хотим учиться дальше.
Учительница, по-прежнему, даже не поднимая глаз, монотонно проговорила своими жёлтыми, кривыми зубами:
— Я что, непонятно изъясняюсь? Купцов, Лунгин, оба — на выход. Уроки химии для вас окончены.
— Но…ведь это значит у нас будет двойка, и мы не получим аттестат —бубнил Купцов, отказываясь терять надежду. Я поддержал его уверенными поддакиваниями.
— Всё верно Купцов — именно это с Лунгиным вас и ждёт. До свидания, — сказала Слякоть Евгеньевна.
После этих слов она попросила остальных списать с доски новую тему и начала урок. Мы сидели ещё около трёх минут, надеясь, что всё это — для того чтобы нас припугнуть и, стоит только тихонько посидеть ещё немного, всё уляжется и образуется. Слякоть Евгеньевна замолчала, а затем объявила:
— Пишем контрольную работу по предыдущей теме. Оценка в журнал. Прийти исправить нельзя.
По классу покатились тихие возмущения. Одна из страшил-отличниц вовсю пищала, совсем потеряв страх и даже не подняв руки:
— Слякоть Евгеньна, но ведь так же нельзя! Мы ничего не знали о контрольной работе, мы не готовы!
Дружные голоса поддержали её вопль. Ненадолго во мне затаилась надежда, что это стадо сутулых лузеров способно самоорганизоваться хотя бы против невзрачной советской рухляди. Но не тут-то было:
— Контрольная стоит в вашем электронном журнале. Я ещё в начале месяца говорила, что упраздню её для вас по доброте душевной, чтобы снизить нагрузки перед экзаменами — и ничего, абсолютно ничего в этом мире не помешает мне вернуть её в ваше расписание обратно. Этого можно избежать лишь одним способом — если ваши закадычные дружки Купцов и Лунгин немедленно освободят мой класс, — сказала Слякоть Евгеньевна.
— ДА ОНИ НАМ НИКТО, ПУСТЬ УХОДЯТ! —закричали Полисорбова и Алабян с последней парты.
— Да! Почему мы должны из-за вас получать? Вы сами виноваты, мы тут не причём! —глядя мне прямо в глаза с соседнего ряда вякнул Миша Бобырев.
Треть класса поддержала эту круговую поруку. Разбухшее брюхо пенала было не в силах скрыть пораженческие настроения каждого из моих одноклассников. Слякоть настроила всех против нас. Мы были разбиты. Внутри меня закипала ярость, но в отличие от прошлого раза, в ней не было места спонтанной злобе или обиде — лишь холодная, как сталь, уверенность в своей правоте. Я нуждался в исторической справедливости, мне нужно было, чтобы мои трусливые однокашники перестали воспринимать Слякоть Евгеньевну как непобедимую. Я был готов выйти из кабинета в ту же секунду, но признать себя маленьким, крохотным, ничтожным по отношению к этой ходячей куче аморфной серости с оттопыренными зубами — никогда. Что и произошло.
Мы покинули класс под единодушное одобрение большинства. Наверное, Слякоть Евгеньевна ликовала, думал я. Не может же она всю жизнь быть такой хладнокровной и даже в сердцах не злорадствовать, не ликовать от достигнутых результатов.
— Что теперь делать будем? — поникшим голосом спросил Купцов, — Мне уже надоело всё это. Я хочу закончить школу и уехать отсюда.
— О чём ты говоришь? Из города?
— Да, — ответил Купцов, — Подальше от школы, подальше от всех.
Купцов был серьёзен. Я ещё никогда не видел его таким.
— И куда собираешься ехать? Думаешь, ты сможешь поступить куда-то ещё? — спрашивал я.
— Я хочу уехать в Питер. Учиться, жить в общежитии, если придётся. Найду себе музыкантов — их там, говорят, тьма. Где угодно, лишь бы не здесь.
Перед таким далёким путешествием я предложил Купцову, для начала, дойти до курилки. Я пытался найти повод продолжать борьбу. Делать нам было всё равно нечего, так что мы спустились вниз. Мы курили одну за одной. Было сыро и красиво — солнечный свет находил себе пристань в первых весенних лужах.
Вдруг, на лестнице появился охранник с жёлтым лицом. Он тоже выходил покурить, накидывая на плечи свою чёрную курточку. Его зажигалка не работала, и он спросил, будет ли у нас для него огоньку. Мы дружелюбно позвали его к себе. Спустившись и пройдя несколько шагов, Толян встал возле нас и тоже закурил.
— А вы чего не на уроках? — спросил вдруг он нас, — Прогуливаете, курильщики?
—Слякоть Евгеньевна выгнала нас — ответил я.
— У-у-у, Слякоть Евгеньевна говоришь? Это такая полноватая, с тёмными волосами и с вечно недовольной миной? — деликатно уточнил Толян.
— Да, точно — дружно и понуро затянули мы с Купцовым.
— Ну конечно! Такой только дай повод —всю кровь высосет. Противная душонка… Приходит в школу — не здоровается, уходит — хамит. Вот дочка у неё зато хороша! Катя, кажется, её зовут. Так же как вы, постоянно курить при мне бегала.
Мы с Купцовым переглянулись. Он спросил у Толяна:
— Её дочь раньше здесь училась?
— Перевелась в другую школу. Это было давно, несколько лет назад, — сказал Толян, пуская струйки дыма из своих ноздрей.
— А почему она ушла отсюда? — спросил я у охранника.
— Мать была на неё очень зла. Постоянно ругались — бывало, схватит за руку, выведет на улицу вот сюда, чтобы никто не слышал, и отчитывает, мол да как ты себя ведёшь, мол, ты мне не дочь — в таком ключе, — сказал Толян, — Наверняка, это всё из-за того чурбана! — на нетолерантном слове он перешёл на шёпот, — Не нравятся мне они…
— Погоди, —сказал я, — О ком идёт речь?
После недолгой паузы, оскоблив сигарету до фильтра, Толян продолжил рассказ:
— Какой-то нерусский сюда приезжал на машине и забирал Катю из школы. Может из-за этого они со Слякоть Евгеньевной и ссорились. Но подробностей я никаких не знаю, не моё это дело.
Я смотрел на Купцова и пытался понять — думает ли он о том же, о чём и я. По глазам я понял, что он потихоньку начинал въезжать.
— Вы не запомнили его имя? —спросил я у Толяна.
—Чурбана-то? Мы с ним что тут, по-твоему, в нарды играли? Откуда я знаю его имя…
— Может быть какие-то особые приметы, одежда… — пытался выйти из ситуации я.
— Послушай, юный следопыт, я понятия не имею как его звали! Это был самый обыкновенный чурбан похожий на всех остальных чурбанов! Он харкался и имел дерзкий вид, ездил на чёрной тонированной машине с буквами T A G I R вместо номеров! Это всё, что мне известно!
Докурив сигареты, мы отошли в сторону. Купцов спросил у меня:
— Ты же не думаешь, что это тот самый Тагир?
— Да, именно так я и думаю.
— И что та самая Катя, которую трахали все подряд во главе с Зимой — дочь нашей химички?
— Так и есть.
Купцов был уверен, что это просто смешное совпадение имён.
— Ну это не может быть она, — говорил он.
— Почему?
— Если Слякоть Евгеньевна — мать Кати, то ты должен бы был жить с ней в одном доме! Хочешь сказать, ты бы этого не заметил?
— С чего ты взял, что я жил с ней под одной крышей, Купцов? — сказал я.
— Зима говорил, что ты выходил со своей собакой из дома! А он стоял возле подъезда и ждал, пока Катя ему откроет. Получается, Катя, про которую он рассказывал, живёт в твоём доме! Иначе как вы бы встретились?
— Да не живёт она в моём доме! Я ходил стричь Африку.
— Чего, блядь? Зачем его стричь?!
— У него было аномально много шерсти, и она начала попадать ему в глаза. Я повёл его стричь к маминой подруге-ветеринару. Она жила на другом конце района, в сторону станции. В тот вечер я выходил из её подъезда.
— Это ничего не доказывает. Даже если её дочь и вправду такая шлюха, то что нам с этого?
— Есть только один способ это проверить, дружище. Вернуться на урок.
— Ты что, сдурел? Ты хочешь, чтобы нас выперли из школы прямо сейчас?
— Как же ты не понимаешь, — настаивал я, — эта старая сука приложила все усилия, использовала все свои полномочия, только чтобы эта история никуда не вышла. Она выперла свою дочь из школы, лишь бы слухи не ползли дальше. В конце концов, она годами издевалась здесь над всеми учениками, но прятала свою собственную дочь, чтобы никто не издевался над ней. Бля, да даже моя собака чуть было из-за неё не сдохла! Ты что, собираешься просто так опустить руки? Играть в поддавки с обстоятельствами, при первой маленькой неудаче? Да как ты вообще собираешься добиться чего-то в своём Питере, если ты ссышь какую-то консьержку с дипломом химика?
— С недавних пор ты стал как-то чересчур уверен в себе.
— Скажи мне, Купцов, твоя жизнь подчинена какой-нибудь великой цели? — спросил я, — Чего ты хочешь?
— Я не знаю, — ответил он, — Я думаю, я хотел бы любить и всё в жизни отдал бы ради любви. Настоящей, чистой, сумасшедшей.
— Ты говоришь о Лиде?
— Возможно.
— Но ты о ком-то говоришь?
— Да, — после недолгой паузы ответил Купцов.
— Тогда представь, что она смотрит. Будто она видела всё, что случилось в классе и видит всё, что должно случится теперь. Что всё это происходит прямо у неё на глазах. Ты бы отступил? Ты бы не воспользовался выпавшим шансом перестать быть ничтожеством, вместо того, чтобы постоянно пытаться убежать от этого бремени? И тогда, на улице, я дрался за неё. Дрался, потому что был уверен, что она смотрит. В каком-то смысле так оно и было.
— Ты тоже на кого-то запал.
— Серёга, я не просто запал. Я реально торчу с неё. С её волос, с её голоса, с её манеры говорить и смотреть. С каждого дурацкого слова, слетающего с её огромных губ. У меня уже почти получилось. Я в шаге от цели. Я уверен, что эта девушка будет моей. Я ничего не хочу сильнее, чем обладать ей. Но нельзя обладать кем-то, когда земля бежит из-под ног. Поэтому если ты действительно веришь в себя или в свои песни — не оставляй Слякоти те слова. Ты их не заслуживаешь.
Серёга смотрел на меня и молчал. Думаю, я смог нащупать верный подход. Выслушав мой план, он крепко сжал кулаки.
— Хорошо, идём, — ответил Купцов.
Я и Купцов вернулись в школу. Молча простояв минуту перед дверью и собравшись с последними силами, мы без стука зашли внутрь и сели за нашу парту. Она была пустая и ждала только нас. Могучей поступью, расправив плечи и не боясь, мы шли к ней так уверенно, что Слякоть Евгеньевна впервые подняла на нас глаза:
— Это что такое? — спросила Слякоть Евгеньевна, — Соскучились по контрольным? Вас не учили, что нельзя входить без стука?
— Мы отсюда не уйдём, — сказал я, — делайте всё, что хотите.
Кажется, было слышно, как рукава пиджаков трутся друг об друга — вовсю стояла тишина. Слякоть Евгеньевна ухмыльнулась и сказала:
— Вы потеряете какие-либо права в этой школе. Вы потеряете возможность закончить своё обучение и поступить в университет. Вы потеряете год своей жизни — и вам сулит весь её остаток проходить в дураках, Лунгин — точно так же, как и вашему дружку Купцову. И даже не думайте теперь, что вы сможете меня смягчить. После того, как вы нагло заявляетесь сюда и нарушаете мои правила, вас ждёт суровое наказание. Как вы смеете огрызаться и хамить преподавателю? Ваш грязный рот постоянно чем-то занят…
— Как у Кати, пока вы вели уроки— сказал я.
Химичка побледнела. Её зрачки расширились, пот хлынул по лбу. Я был прав, и Катя была её дочерью. Весь класс внимательно следил за моими словами.
— Что… Что ты сейчас сказал? — дрожащим голосом спросила Слякоть Евгеньевна. Одноклассники замерли в ожидании.
— Я сказал, что ваша Катя может продолжать сосать у всех хуй и ни в чём себя не стеснять, до тех пор, пока вы доблестно ведёте этот предмет. Она, видимо, поставила себе цель отсосать такому количеству парней, чтобы эта цифра превысила число элементов в периодической таблице…
Слякоть Евгеньевна попыталась встать с места, словно за тем, чтобы убедиться, что эти слова действительно говорю я, а не кто-то другой, но оступилась и чуть было не упала на пол, в последний момент ухватившись за край стола. Она мычала что-то несвязное, видимо, стараясь угрожать, но путаясь в словах и интонациях. Учительница словно сходила с ума. Но я не остановился:
— Сейчас я задам вам вопрос: какое право вы имели читать всем нравоучения, зная, что в вашем глазу помещается такое здоровенное бревно? Думаете, молодость виновата в том, что ваша дочь — шлюха? Вы считали нас виновными. Всех и каждого, будто после такого никто из учеников и не заслуживает другого обращения. И вот ещё что — я слышал, как поёт Серёжа, которого вы при всех смешали с грязью, объявив трусом и бездарностью. Этого парня ждёт большое будущее, и он талантлив. Трус и бездарность — вы и вам подобные, ищущие в молодых оправдание своей гнусной жизни. Вот теперь мы готовы писать контрольную.
Оглянувшись, я окинул помещение беглым взглядом — всех присутствовавших охватил шок. Девочки и мальчики, двоечники и отличницы, тихони и хулиганы, разинув рты, таращились на нас с Купцовым. Алабян, Полисорбова и даже Миша Бобырев с его скотским ебальником больше не доставляли неудобств —они сидели молча, приняв мои правила игры. Юля смотрела на меня и, по-моему, хотела. Во всяком случае мне было приятно так думать — а судя по её налитому кровью лицу, я был в этом уверен. Она взволнованно дышала.
Слякоть Евгеньевна молча стояла несколько секунд. В её глазах сочилась скверна. Ещё никто и никогда не видел её в такой растерянности — мне было её жалко. В конце концов она также молча покинула класс, исчезнув в глубине коридора. Сошедший с ума 11«А» встал и начал мне аплодировать. Юля хлопала вместе со всеми и улыбалась. Отдельные лица выражали беспокойство — «Что будет дальше?», «Как нас накажут?», «Давайте догоним и вернём Слякоть Евгеньевну», но они тонули в искрящихся от восторга лицах остальных. Её ненавидели все и вот — дракон был повержен на их глазах. Повержен мной.
Девочка, сидевшая у окна, воскликнула:
— Смотрите, она вышла из школы! Идёт по улице!
Купцов вскочил на парту и стоя над всеми крикнул:
— Рвите свои тетради и комкайте листы! Хватайте пеналы! Кидайте их в неё!
Купцов подбежал к окну, распахнул его и впустил свежий воздух в кабинет. Подавая другим пример, он лично схватил свой пенал, напихал его рваной бумагой, раскрутил и кинул в химичку через окно. Снаряд упал рядом, в ближайший сугроб. Слякоть Евгеньевна пыталась ускорить шаг, но поскальзывалась и падала на руки. Вслед за Купцовым, ещё двое смельчаков схватили свои пеналы и с криком: «Получай!» бросили их в учителя из соседних окон. Через минуту половина класса с выкриками «ПОШЛА НАХУЙ» швыряла ручки, точилки и транспортиры, которые бессмысленно улетали в сторону от ветра, но создавали устрашающий эффект единодушного гнева. Мой отряд ринулся в бой. Канцелярские принадлежности летели из окон, толпа семнадцатилетних носилась по помещению как кавалерийская бригада, Юля стояла и снимала всё это на камеру. Это была безоговорочная капитуляция.
Вокруг меня собрался небольшой кружок, и я поделился подробностями на счёт дочки Слякоть Евгеньевны со всеми желающими. Я стал главной знаменитостью 11 «А». Теперь я понимал, что чувствовали все бунтовщики и мятежники, восставшие матросы и заключенные, распропагандированные революционеры и обторченные члены религиозных сект, предающиеся безумным оргиям в свой последний час, когда понимали, что точка невозврата пройдена — они ощущали власть над временем. В сущности, было плевать, что теперь со мной будет. И этой реакции не пришлось долго ждать.
В кабинет ворвались завуч и директор, услышавшие громкий шум и крики. Они попытались добиться хоть от кого-нибудь объяснений, что тут происходит. Охранник сообщил, что Слякоть Евгеньевна схватила пальто и буквально сбежала из школы без объяснения причин. Парты были перевёрнуты, в кабинете царила настоящая анархия. Я с довольным видом принялся объяснять, что Слякоть Евгеньевна не вытерпела моего общества, не останавливаясь на подробностях случившегося. Купцов, который к тому моменту снял с себя пиджак и стоял на парте с расстёгнутой рубашкой и, видимо, чувствовал себя каким-то эротическим божеством, молча кивнул, готовый разделить со мной все последствия.
Юля молча смотрела в пол. Общий кураж моментально пошёл на спад. Резкая тишина, воцарившаяся в классе, лишь подчёркивала серьёзность инцидента. Я смотрел на Купцова и видел в его глазах страсть. Мы ощущали себя пехотой, марширующей по мелким улочкам пустующего захолустного городишки, пригодного лишь для мародёрства, и ищущей где бы закатить дебош. С той лишь разницей, что мы стояли на месте.
VI
Мартовские иды наступили. Наших мам вызвал директор для разъяснительной беседы. Он хотел исключить нас из школы — помешало ходатайство Скарлатины Ивановны, которая охарактеризовала меня как «подающего надежды эссеиста», а Купцова как «просто хорошего парня с гитарой». Было не совсем ясно, каким образом такие хорошие ребята довели учителя до ручки: Слякоть Евгеньевна тихо написала заявление об уходе, одноклассники отмалчивались и включали дурачка, а по школе, тем временем, циркулировали всевозможные слухи и пересуды — впрочем, наверху не хотели ими руководствоваться и решили помиловать нас. За призыв выбросить канцелярию из окна, на которую мы бессовестно подначили остальных учеников, нас с Купцовым отстранили от уроков на неделю. Похоже, они действительно считали это наказанием.
Мы стали героями школы. Дети ликовали от счастья, ведь самый жестокий и ненормальный препод в её истории покинул свой пост. Весь школьный интернет говорил о нас. Судя по вялой реакции на случившееся, Слякоть Евгеньевну не жаловали ни руководство, ни другие учителя — никто по ней не скучал. Я мог целыми днями делать всё, что захочу. Мне сказали, что даже если я или Купцов захотим прийти на уроки, то нас туда не пустят. Исключением было сочинение по литературе, которое я должен был писать вместе с Юлей Гай у Скарлатины Ивановны. Именно там и я хотел нанести решительный удар.
Я считал, что Юля без ума от меня. Я верил в это. После всего, что со мной случилось за эти две недели, после всех этих случайных встреч и намёков судьбы, я был настроен завоевать её. Всплеск интереса ко мне со стороны многих других девочек из школы — взгляды, кивки, смешки — лишь дразнил меня и ещё больше заставлял хотеть её. Соскочив в самую рань, я не мог спать и не хотел есть. Моё сердце бешено дёргалось, в предвкушении грядущей встречи. Мама думала, что я встал пораньше, чтобы приготовиться к сочинению, — «Как?», — рассуждала она, — «Как он мог что-нибудь натворить в школе, если он так усердно готовится? Я в это не верю! Моего сына опять заставили влезть в неприятности, это всё его дружки!»
Мои дружки ждали меня на детской площадке. Это был Зима и его компания. До них дошли вести о школьном бунте, а поскольку Зима имел ко всему случившемуся прямое отношение, то сгорал от желания слышать эту историю и даже сам позвонил мне и вытащил меня на улицу. Я рассказал им её во всех подробностях.
— Пиздец!
— Красавчик!
— Охуеть!
Они повторяли это, хлопая меня по плечу.
— Я всегда подозревал, что эти скляночки и колбочки у Кати на столе не для красоты стояли, — подытожил мою историю Зима, — видишь, Ромчик, как тесен этот мир.
Раздался дружный хохот. Парни смотрели на меня иначе, будто тоже улавливали флюиды моей самоуверенности и подыгрывали.
— О да, мир тесен, —говорил я, — как вам, например, такое, что я недавно ходил на Вертеп и встретил там свою одноклассницу?
— Вертеп — это клуб, да?
— Не совсем клуб. Это ночная вечеринка.
Мне хотелось всего лишь щегольнуть своими ночными похождениями. Не надо было этого говорить. В них зажглось любопытство.
— И кого ты там встретил? — спросил Зима.
— Кажется, вы её не знаете.
— Мы должны знать твоих одноклассниц, нам же их натягивать. Дай угадаю…это Лосева?
— Она в «Б» учится.
Они перебирали варианты дальше.
— Фоменко? Та ещё соска.
— Нет. У Фоменко же парень и он наглухо отбитый, — сказал я, — он бы её убил нахуй, если бы просто увидел вас двоих рядом.
— Ради меня она бы рискнула.
— А кто тогда? — перехватил инициативу один из дружков Зимы, — Может эта… Полисорбова?
— Нет! Нет! Нет! Это была Юля Гай, — не вытерпел я.
Зима и его дружки переглянулись с ухмылкой. Я внимательно смотрел за их реакцией, пытаясь понять, что она значит.
— Так бы сразу и сказал. Юлю Гай все знают, — говорил Зима.
— И что она? — спросил я, пытаясь угадать, о чём идёт речь.
— Ну как что? Обычная сучка, которая липнет на взрослых парней. От этой Кати отличается только тем, что при деньгах.
У меня в голове не укладывалась такая параллель. Да, Юля разумеется ходит в разные клубы и тому подобные места, выпивает, флиртует, спит со взрослыми мужчинами, но ведь и получает от жизни всё, что хочет. Катя же — глупая шалава, дающая всем подряд без разбора. Пренебрежение, с которым Зима, его дружки и их наглые рты говорили о Юле, меня раздражало. Мне не хватало решительности снять с лица улыбку, накричать на них, заступиться за поруганное имя моей возлюбленной — я стоял и отшучивался, как последний трус, трясясь за свою репутацию перед ними.
— Да ладно вам…— пытался я, — она не совсем такая!
— Тебе пацаны из ИСИС не рассказывали, как они отмечали свой выпускной? — спросил Зима, — ящик коньяка, лимузин, ресторан, потом все уехали в арендованный коттедж. Начали вызванивать тёлок, и один из них эту Юлю твою знал откуда-то. Она такси вызвала, приехала, выжрала вина, и они на двоих с однокурсником её расчехлили. Говорят, она в перерывах между палками умудрялась с парнем по телефону поговорить, типа: «Со мной всё хорошо, мы кино с подругой смотрим».
— Но ведь у Юли нет парня, — ссыкливо маневрировал я, — и, мне кажется, её не так уж легко склеить.
— С чего ты взял? — ухмылялся Зима, — Брелок с ней где-то год встречается. И всё равно её все ебут.
— Полтора года, — поправил его один из дружков.
— Видишь, как долго, братик… — подхватил Зима.
— Я имел в виду — полтора года встречаются, — уточнил дружок.
— Значит ебут ещё дольше!
— Что ещё за Брелок? — нервничая, спросил я.
Её откровения про «нотки приятного безумия», все её фотографии, все мои детективные зацепки журчали у меня в сознании одновременно, пытаясь дать хоть какое-то объяснение этой лавине фактов. Я был не готов знать, что у Юли есть парень.
— Макс Брелок — его так прозвали, — объяснил Зима, — он дарит ей цветы, водит в рестораны и дальше по списку. Не веришь — пойди спроси у любого, кто знаком с Максом — он же раньше учился в твоей школе. А Юля Гай — маленькая сучка, которая строит всем глазки за его спиной и, напившись, пропускает всех желающих. Она же на Вертеп этот твой одна пришла?
— Одна, — смирившись, уронил я.
— Видишь! А этот лох ей букет цветов снова подарит. Не ведись на это, Лунгин.
— Я и не ведусь, парни, я просто сказал, что случайно встретил её на Вертепе!
— Да я же вижу по глазам — ты тоже хочешь её вздёрнуть и думаешь, лишь бы Брелок не прознал…
— Я не хочу её!
Эта пытка длилась ещё несколько минут. Моё либидо было подорвано. Новые сплетни никак не укладывались в моей голове — если Юлю так легко заполучить, то почему я медлил, но куда важнее — почему в школе так прочно ощущалась её недоступность? Ни один мой сверстник не мог и помыслить о том, чтобы подойти к ней — при этом в коридорах, то и дело, говорили о её красоте. В доступной для всех вульгарной форме. Может дело действительно в возрасте? Ведь почти все девочки любят парней постарше — это факт. В общем, я решил сматывать удочки:
— Ребят, я, наверное, пойду, — сказал я, — ещё увидимся.
— Слушай, Лунгин, зови нас на свой выпускной. Вы где будете отмечать?
— Не знаю. Я может быть нигде не буду.
— Что такое? Обиделся, что ли? — борзо спросил Зима.
— Я довёл училку до нервного срыва и устроил в классе погром. Мне бы хоть дожить до выпускного.
— Да ничего не случится. Мы возьмём бухла тебе. На тачке ночью покатаемся. После такой истории из этой школы надо уходить красиво. Так, сказать, с песней.
— Хорошо, приходите.
— А ты куда?
— Мне пора.
Я направился к школе, пиная снег. Точнее то, что от него оставалось на моём пути. В моей голове всё перемешалось. Что ещё за Брелок? И какой коттедж? За всё время моей безумной слежки, моей одержимости этой девушкой, я не замечал за ней ни намёка на отношения с кем-то. Разве Юля пошла бы на такое? Её можно купить за подарки и цацки? Часть меня не могла верить в это. Но если и так — это не должно было помешать задуманному. Не сейчас. Я двигался дальше.
Возле школы ошивались кучки подростков. Они смотрели на меня и показывали пальцами. Плоские семиклассницы и тихие мальчики-дежурные, бугаи-старшаки и выскочившие покурить в спортивных костюмах потенциальные объекты их дефлорации — новость о Слякоть Евгеньевне не прошла мимо никого из них. Их лица кружились хороводом, а голоса звенели колокольчиками. «Смотри, это тот, который въебал Слякоть», «Вон Лунгин идёт, зараза», «Менделеев» — и прочие перешёптывания, прозвища и истории, которыми меня наградили здешние учащиеся. Я называл это Великое Стояние на Ушах.
На ступеньках я неожиданно встретил Купцова. Он смотрел на меня и грел ладони дыханием.
— Чего ты тут стоишь? — спросил я у будто бы караулившего меня Купцова.
— Да так… Жду кое-кого, — ответил он.
— Ты не находишь странным, что нам обоим разрешили не приходить в школу и мы снова встретились здесь? Может быть, это как в фильмах про зомби-апокалипсис? Когда мертвецов тянуло к супермаркетам и торговым центрам по старой памяти. Мы ничтожны.
— Я пришёл не за партой сидеть, — сказал Купцов.
— Это был подъёб в мою сторону? Зачем тогда?
— Не скажу.
— Да ты гонишь! После наших приключений у тебя секреты от меня?
— Не хочу говорить пока. Сделаю — скажу.
Купцов оглядывался по сторонам, высматривая снующих туда-сюда детей.
— Помнишь ты говорил, что надо представить, будто она смотрит? — взволнованно сказал Купцов, — Я решил не ждать у моря погоды и начать действовать.
— Вот как ты понял мои слова! И что ты хочешь сделать?
— Я решил всё ей сказать.
— Кому ей?
— Девушке, — очень стесняясь произнёс Купцов.
— Да погоди! У неё хоть имя есть? Она из нашей школы?
— Давай уже иди пиши своё сочинение! — кричал он, — Или куда ты там шёл?
Он боялся, что она может вот-вот пройти мимо, а я стою рядом и препятствую этому выпаду любви. Я хотел сказать ему, что признания в чувствах — это что-то из куртуазных романов и не очень заводят современных девушек, но боялся его расстроить и сбить настрой. Пускай, если всё это было признаком появления у Купцова уверенности в себе —я был не против. Его популярность теперь должна была сыграть ему на руку. Он остался стоять на холоде. Мы попрощались, и я вошёл внутрь.
До начала сочинения оставалось ещё долго. Переобувшись, я стоял и ждал под дверью запертого кабинета. Дети постоянно кричали. В ожидании Юли я начал вспоминать ночь, когда мы поехали на Вертеп —ночь, когда я впервые увидел в Купцове огонь. Я вспомнил Лиду и её безумный прикид, вспомнил их близость и всё, что окружало эту связь. Казалось, я придавал некоторым вещам слишком большое значение, видел страсть там, где на самом деле была лишь придурь. Словом, может я вложил в Купцова и Лиду больше надежд, чем они вкладывали в ту ночь друг в друга? Если хоть толика той искры, что я приметил, сидела в Купцове благодаря ей — почему он всё ещё не звонит Лиде, и они не запираются на неделю вдвоём на каком-нибудь чердаке? Может сейчас он сжимает своими потными ладонями телефон, решаясь ей позвонить? Я должен был знать. Если Купцов ещё стоял у входа, то я сгорал от желания его видеть.
Соседние окна выходили на ступеньки. С высоты третьего этажа мне было достаточно хорошо видно всё, что происходило внизу. Я быстро нашёл Купцова и начал за ним наблюдать — он продолжал неподвижно стоять там же, где и был. Значит, ещё не решился, думал я. Ждёт. От батареи у окна становилось жарко. Я оглянулся по сторонам — Юли всё ещё не было. Купцов смотрел куда-то и тоже ждал прихода своей любимой.
Во мне затаилось сомнение.
Что если он ждёт Юлю Гай?
Я начал думать об этом. Юлю никто не отстранял от занятий, а значит, скорее всего, она придёт сюда сразу с урока — ждать её нужно не с улицы. Во-вторых, кроме того случайного упоминания в интернете, нет ни одной ниточки, связывающей Гай и Купцова —я проводил массу времени в наблюдениях за обоими из них и знал, о чём говорю. «Купцов наверняка ждал кого-то другого» — переубеждал я себя. Или нет? Я прильнул к окну. Развязка была близка — либо я должен услышать её мяукающий голос в коридоре, либо к Купцову подойдёт какая-нибудь невзрачная одноклассница и я забуду эти мгновения как страшный сон. Мгновения, которые длились вечность. Я стёр до крови мозоли на руках и отгрыз все заусенцы. Я царапал ногтями стекло. Пошаркивал подошвой своих туфлей по скользкому школьному линолеуму, оставляя на нём столь ненавистные учителям мелкие чёрные полоски. Я представил, как они целуются. Как Купцов трогает её лицо своими руками, пальцами касаясь её ланит. Как она смотрит на него так же, как на меня. Я замер в ожидании. И тут всё кончилось.
Юля Гай, слегка приоткрыв рот и выпуская из него клубы горячего пара прошла мимо Купцова и поднялась по ступенькам. Он молча продолжил стоять, не удостоив её даже поворота головы. Я выдохнул с облегчением. Теперь я ждал Юлю. Через несколько минут она была здесь. Я должен был успокоиться и собраться с силами. Она улыбнулась, увидев меня:
— Вот мы и снова встретились, Лунгин.
— Мы видимся каждый день в школе, — ответил я.
— А тебе что, надоело?
Я был на высоте. Уголки её рта отдавали чем-то новым. Есть что-то магическое в улыбке впервые встреченных девушек — такое доисторическое, едва понятное «Да», такое «Да», которое сродни «Я готова пойти с тобой куда захочешь прямо сейчас». Любой мужчина мечтает нащупать этот предел. И это был он. Юля улыбалась мне так, словно мы виделись в первый раз, и любые мои сомнения были отброшены куда подальше. Скарлатина Ивановна впустила нас в кабинет. Мы начали писать сочинение.
Солнечный свет заполнил кабинет, и со всех стен на меня ползла его желтизна, похожая на зубной налёт. Скарлатина Ивановна рассадила нас подальше друг от друга. Я водил ручкой туда-сюда, марая бумагу. Мне кажется, я вообще так и остался сидеть с пустыми листами, ничего не написав. Юля аккуратно выводила слова, сплетая из них своё эссе. Я смотрел на её ноги, выглядывающие из-под чёрной юбки и ждал. Я был готов совершить рывок. И когда спустя полтора часа Скарлатина Ивановна вышла из класса, чтобы ответить на звонок, мы остались наедине:
— Как успехи? — указав на лист бумаги, спросил я у Юли.
— Только что дописала. Сейчас уйду.
— Ты постоянно от меня бежишь.
— Может, я хочу чувствовать за собой погоню, — шепнула Юля, собирая письменные принадлежности с парты.
Я подошёл ближе.
— Ты удивилась, когда встретила меня на Вертепе?
— Удивилась? По-твоему, я была должна?
Юля глядела на меня с прищуром. Медленно облизнув губы, она продолжила собирать вещи, как ни в чём не бывало.
— Ты была в растерянности, — сказал я, — даже пролила на меня свой напиток. Думала, что я не из тех, кто туда ходит.
— А ты и не ходишь туда. Тебя бы даже не пустили. Вы с Купцовым оказались на Вертепе случайно. Вас провела подружка Левана, да? — резко спросила она.
Юля улыбнулась, не поднимая на меня глаз, и говорила, постукивая пальцами по краям парты.
— Ты что, знаешь Левана? — удивился я.
— Да кто его не знает.
— Мы шли туда большой компанией… — начал я.
— Ах точно, там же ещё была эта сумасшедшая, которая липла к тебе как муха. Я, наверное, отвлекала тебя от её поцелуев, да? Зато твоему музыканту точно было скучно, — Юля жестами изображала нечто в воздухе, намекая на большую копну волос у Купцова на голове, — Пялился на меня как ненормальный каждый раз, когда я проходила мимо. Похоже, эта вечеринка понравилась только тебе.
Она начинала выводить меня из себя. Не совсем понимая, что происходит, я хотел сохранить тон флирта. Но ляпнул это:
— Слушай, может быть вместо старых и ветхих домов ты больше предпочитаешь комфортабельные коттеджи?
— Я оставлю тебя с твоей хуёвой шуткой наедине.
Юля продела сумку через плечо. Её сочинение лежало на учительском столе. Она направилась к выходу, поглядывая в экран телефона. Получалось, всё, что говорили мне пацаны было правдой. Я открыл рот, но она перебила меня:
— Твой поезд ушёл, Лунгин.
— О чём ты? — дрожащим голосом спросил я.
— Неважно. У тебя был шанс. Их было очень много, но теперь ты мне надоел. Думаешь, я не вижу, как ты пялишься на меня целыми днями? Следишь за мной? Бегаешь повсюду, как собачка. Ты слишком много смотрел и ничего не делал. Думаешь, я нахожусь в каком-то щенячьем восторге с тех пор, как ты решил стать местной знаменитостью? — теперь Юлин голос сорвался в истерику, — Что, приятно, когда вся школа говорит только о тебе, выскочка? И перестань слать мне в директ эти идиотские анонимные стихи —меня тошнит от них.
Я начал унизительно тараторить и дёргать её за рукав, пытаясь преградить путь к двери. Но Юля шла дальше.
— Уйди, меня ждут внизу, — сказала она, — посмотри на себя. Ты жалок.
— Я хочу тебя…
— Пока.
Юля Гай вышла из кабинета, оставив меня одного. Самое время обвести меня мелом, потому что мне наступил пиздец. Я терял равновесие и чуть ли не падал в обморок. Я не верил в то, что случилось. Кое-как доползши до миниатюрного умывальника в углу класса, я попытался привести себя в чувство. Когда Скарлатина Ивановна вернулась, я положил свои куцые сочинения ей на стол и пулей вылетел в коридор.
Мне хотелось кричать, но я лишился голоса. Я в истерике колотил по стене, призывая её к ответу. Некоторые проходящие мимо школьники останавливали свой взгляд на мне. Разве они понимали, что происходит? Кто был способен понять, что я чувствовал, когда никому не была известна моя тайна? «О, может быть мартовское небо — эта чавкающая дождями глыба, меня выслушает?» — думал я. Ведь среди вечно журчащих коридоров, шума детских смешков и отбивки порогов казённых помещений, только оно в ту минуту молчало.
Я подошёл к окну и открыл его. Возможно, я поддался на легкий приступ юношеского максимализма, но я встал на подоконник и стал фантазировать, как Юля будет страдать, если прямо сейчас я спрыгну вниз. Как я окончательно превращусь в школьную легенду и стану идолом среди маленьких девочек, а мой призрак будет ночами бродить туда-сюда по спортзалу от нехуй делать. Не надо думать, что мысли о том, насколько эта затея ебанутая приходят вам позже, когда становится за нее стыдно. Стыдно было уже тогда, а вместе с тем чудовищно, невыносимо больно. Сверстники бы тут же заплакали обо мне. «Он так её любил, он был таким крутым. Лунгин победил Слякоть, был королём Вертепа…а эта сука сказала, что её тошнит от его стихов!», — проносились в моей голове их вымышленные реплики. Всё это, конечно, было интересно… Но стойте. Какие ещё стихи?!
Я никогда не занимался подобной хуйней. Не отправлял Юле никаких стихов. Это была ложь. Значит это делал кто-то другой. Но кто? Да кто угодно — если Юля и была так доступна, как об этом рассказывал Зима, тоточно не для меня и не для таких, как я. А значит имя мне— Легион, и нас, этих дурачков, может быть сколько угодно.
Я смотрел в небо и остатки снега внизу напоминали мне его бархатную стружку. Я решил ухватиться руками за оконную раму, чтобы не упасть. Прыгать я передумал. Я начал смотреть вниз и пытался отвлечься, пытался всматриваться в ползающих по улицам детей и искать в этой снежной каше смысл продолжать жить. И вдруг увидел Купцова На том же самом месте, где мы простились с ним в прошлый раз —на ступеньках у входа. Больше всего меня удивило то, что Купцов до сих пор там стоял. Уже полтора часа.
Серёга ждал Юлю. Когда она вышла из школы, он направился прямо к ней. Пряча свой кашель в кулак, Купцов начал что-то ей говорить. В моей голове всё встало на свои места: это он слал Юле стихи, из-за неё не решался идти на Вертеп, про неё пел ту песню среди умывальников, и, также как я, он обезумел от этой любви. Когда мы шли войною на Слякоть, ему не нужно было представлять, что Гай смотрит, ведь она сидела в двух шагах от него.
Видимо, сбывался один из тысячи его ночных кошмаров и страхов, которые одолевали и меня — Юля брезговала, рвала его признания в клочья, смеялась над ним — но своим холодным, безучастным русским молчанием. Ледяной холод окутал королевну. Бродячий музыкант впопыхах и задаром отдал ей своё сердце, и всё, что он получил взамен —неподвижные уголки её рта, умерщвлённый взгляд и молчание. Как и я, он занимался колонизацией пустот Юлиной души. Безуспешно.
После нескольких секунд обоюдного неловкого молчания, Юля всё же что-то сказала ему и ушла. Купцов остался тихо стоять на месте, и по его щекам ползли горячие слёзы. Было почти не видно, как он плачет. Он был отвергнут. Она прострелила его насквозь.
Не оборачиваясь, Юля вышла за школьные ворота и встала на тротуаре. Почти сразу к ней подъехала внушительных размеров серебристая машина, из которой вышел молодой человек в расстёгнутой куртке с букетом цветов. Тот, с которым я подрался неделю назад.
Это был Брелок.
В моей памяти резко возникла фамилия — Муннибаев. Мы вместе учились в школе и как-то раз даже играли в футбол во дворе, когда мне было лет 12. Как мне уже потом объяснил Зима, погоняло «Брелок» Макс получил ещё в седьмом классе, когда выходил курить со старшеклассниками и те нарекли его так за маленький рост. Теперь я вспомнил.
Брелок крепко обнял Юлю за талию, и она подарила ему поцелуй. Прижав к груди охапку красных, вульгарных роз, Юля послушно залезла в автомобиль. Через пару минут машина скрылась за поворотом.
Я вспоминал нашу драку, и с каждым ударом в ебало от Макса из меня будто выдавливались любые сантименты. Вот он бьёт меня в челюсть — и Юля уже не кажется мне такой умной. Вот его кулак крошит мне почку — и из Юли исчезает таинственность. Вот он держит меня за шиворот, приговаривая: «У меня есть нож, я тебя зарежу нахуй», — и у меня не остаётся больше причин оправдывать её в собственных глазах. Отныне Юля не была для меня тем, чем раньше. Я стоял на подоконнике, выкорчёвывая из неё престиж.
Ведь там, возле магазина, на грязном снегу я дрался за Юлю. Я дрался, не желая признавать тот факт, что она была так близка ко мне, в какой-то степени могла быть моей, а мир по-прежнему отказывался признать это. Ему по-прежнему было мало моей крови на гимнастёрке и ворсинок от ковра на моих ладонях. И кто занял моё место? Место Купцова? Полное ничтожество. Какой-то мелкий залупоглазый чёрт со следом моего потушенного бычка на шее. Отныне я собирался заставить мир уважать себя.
Учитель алгебры и ещё пара добровольцев сняли меня с окна. Я был в оцепенении, но быстро нашёл себя сидящим за столом в рекреации и пьющим горячий чай. До этого момента я сходил по ней с ума. Я готов был убить любого ради неё, даже человека совершенно ни в чём не повинного, по одной лишь её дурной прихоти. Готов был глотки грызть, снег жрать, резать себя, пулю поймать — всё, что захочет. Никакие слова не могли поставить под сомнение это ощущение, так долго ютившееся во мне. Я был рабом её слова и взгляда. После чего я вытер лоб, встал из-за стола, и ее тирания закончилась.
VII
Лето выдалось жарким и сухим. Раскалённый асфальт на улице таял под подошвой моих кроссовок, а солнце било в глаза — казалось, город ковыряет меня как ваву. Ленточка «Выпускник» весело болталась на каждом втором встречном, словно петли на висельниках. Сдав все экзамены, я шатался по городу и искал, чем бы мне заняться, пока одноклассники не позвали меня бухать в школу.
Договориться об этом не было проблемой. Многие учителя сами решили устроить здесь банкет. Более мажорный «Б» класс смог раскошелить родительский комитет на путешествие в ресторан и прогулку на яхте. Нам таких излишеств не светило и каждый праздновал так, как у него это получалось.
Мы пили дешёвую водку и коньяк. На одноразовых пластиковых тарелках лежали всевозможные закуски — поляна была накрыта прямо в кабинете труда возле ржавых советских станков. Мне становилось скучно. Я был одинок, как воздушный шарик под куполом торгового центра. В итоге я позвонил Зиме. Сказал, пусть приходит и берет своих друзей — как я и обещал ещё в марте.
— А Купцов твой куда пропал? — спрашивал его голос по телефону, узнав, что мне скучно.
— Он с нами не празднует, — ответил я, — да и мы больше не общаемся. Он уезжает из города.
— Отлично! Мы скоро приедем. Возьмём ещё коньяка.
Я вышел встретить их у входа. Уже подвыпивший Толян, этот розовощекий держиморда, встречал моих гостей, будто я принимал их у себя дома. Выпив с ним по одной рюмке, я, Зима и его друг Влад отправились в кабинет труда.
Они спрашивали меня о том, как я сдал экзамены, и что собираюсь делать дальше. Я сильно изменился — огрубел в голосе, стал говорить меньше и короче. Иногда косноязычие —признак большого писателя. Или долбоёба. Им оставалось только гадать, какой из двух вариантов сидел перед ними.
— Так, стоп. Тут мне одна краля обещала приехать — твой Толян, если что, пропустит её сюда? —спросил у меня Влад.
— Думаю да, никаких проблем, — заверил я.
Толяну было достаточно пообещать бутылку спиртного, и он бы впустил сюда целый бордель. Влад ушёл встречать свою подружку и не возвращался ещё пару часов. Я изрядно выпил, однако чувствовал себя уверенно. Мы с Зимой вспоминали старое, в основном, конечно, в тысячный раз историю «с Африкой». Потихоньку в моих глазах мутнело.
Я не помню, как я оказался там. Помню, что меня пьяного вёл под руку Зима. Пустые школьные коридоры были неузнаваемы, впервые за год завоевав тишину. Никаких детей, ни единого их крика или даже шороха —только мы. Зима тащил меня за собой, приговаривая, что специально для меня у них какой-то сюрприз в классе литературы. Мы доползли до кабинета Скарлатины Ивановны.
Дверь открылась, и я увидел, как Влад трахает Юлю на её письменном столе. Сначала я не узнал её и мне пришлось подойти чуть ближе, чтобы убедиться в этом. Она стонала и сжимала своими маленькими кулачками закатанный шмат её платья. Солнечные зайчики скакали по помещению туда-сюда, будто на пыльном шифоньере в старой комнате у бабушки, и отдавали чем-то родным. Зима запер за нами дверь. Я облизывал губы и молча стоял.
— Ну что стоишь? — хлопнул меня по плечу Зима, — Будь мужиком, давай, погнали.
Вот они —Боги с телами мальчишек. Высокий и худой Влад был похож на липкую карамельную ловушку для мух, которая годами висит на люстрах в старых гостиных. От вытащил из Юли и отошёл в сторону, уступив место Зиме. Зима не стал раздеваться полностью, а снял только брюки. Влад подошёл ко мне, дотронулся до моего плеча своей большой липкой рукой и три раза похлопал, как бы намекая: «Ты следующий, готовься». Я разделся по пояс, словно ждал медосмотра, а затем снял обувь и брюки, оставшись стоять голым.
Ещё несколько минут я стоял и смотрел на Зиму, испытывая сложную гамму чувств. Я был чудовищно пьян и находил всё происходящее невероятно весёлым. С другой стороны, что-то внутри меня кипело, пищало и по старой памяти резало нутро, заставляя ненавидеть тот день, когда я спас Зиму от рук неприятеля. Я не понимал — вусмертьпьяна ли Юля, или не очень. Нравится ли ей всё, что сейчас происходит —или это изнасилование. В конце концов меня мучал вопрос: узнаёт ли она меня и… хорошо ли относится к моему присутствию здесь. После мартовских событий я старался её игнорировать и даже не смотреть в её сторону. Выходило как-то некрасиво.
Наступила моя очередь. Я подошёл к Юле, распластавшейся по всему столу. Возникли сложности — у меня не получалось, пока я знал, что Влад и Зима смотрят. Ещё несколько минут покопавшись вокруг да около, и, судя по всему, даже Юлю вогнав в краску, я сдался и сказал, что им нужно уйти. Или ничего не выйдет. Пьяные Влад и Зима выбросили несколько пошлых и предсказуемых шуток, после чего схватили свою одежду, вышли и закрыли за собой дверь.
Слегка пришедшая в себя Юля стояла нагая и смотрела на меня. Она встала со стола и сделала ко мне шаг. Разглядев её багряное лицо поближе, я услышал запах перегара и понял, что она мертвецки пьяна. Конечно, она узнавала меня.
— Ну что, Лунгин. Долго ещё будешь смотреть? — заплетая язык, спросила она.
Мир сужался, съёживался в точку. Казалось, всё могло перестать существовать, стоит нам неровно дыхнуть. Её горячие губы на вкус были как хлорка из бассейна. Я подошёл ближе и поцеловал её. И тут, она будто протрезвела.
Она села на меня и начала просить её выебать. Шипела, впиваясь в меня ногтями как в сырую землю и просила не останавливаться, просила входить в неё сильнее. Она так и говорила: «Пожалуйста, не останавливайся». Я и не думал, что так вообще говорят до этого момента. Её лицо, наконец, потеряло всякий признак издёвки, всякий прищур. Она стала абсолютно беззащитна, как в те редкие моменты, когда кивала мне головой в разговоре и на миг прекращала скалить свой кошачий рот, но на этот раз эта беззащитность охватила её всю и полностью. С каждым моим рывком в неё она пыталась как можно крепче обхватить руками мою шею и спину, будто боялась, что я скину её на пол. Я ощущал её дыхание на своём правом плече, в которое она то и дело упиралась лицом, склонив голову и вплотную приставив свои липкие губы к моей коже. Положив правую руку ей на ягодицы и теребя пальцами всё ещё надетые на неё трусики, понемногу превращающиеся в маленькую мокрую тряпочку, я решил поиграться и начал водить по её щеке свободной ладонью левой руки, надеясь, что она сама придумает что с этим делать. Она верно почувствовала моё желание и тут же проглотила мои влажные средний и указательный пальцы, начав посасывать их с закрытыми глазами. Сквозь расстёгнутую блузку на меня уставились её красивые живот и маленькая упругая грудь. Мы трахались на полу кабинета литературы где-то две минуты, прямо на глазах у Пушкина, Толстого и Тютчева, свисавших со стены черно-белыми портретами. Мы трахались на глазах у русской литературы. Трахались, будто она была парализована и не могла не смотреть. Сделав над собой чудовищное усилие, я отклеился от Юли, скинул ее с себя на пол, придерживая руками за талию и кончил. Подумав было привстать, чтобы прицелиться куда-нибудь я обнаружил себя совершенно лишённым сил и кончал, лёжа на спине, разбрызгиваясь по всему кабинету, попадая на стены, пол и Юлино лицо. Даже Максима Горького слегка задело.
Ещё минуту мы молча лежали параллельно друг другу, уставившись в потолок. Запустив руку мне в пах, Юля медленно перебирала пальцами вдоль моего пупка, оставляя едва заметные красные следы на коже. Я начал переживать, не зайдёт ли в эту минуту кто-нибудь в кабинет (как, наверное, и она). Ощупывая руками свои рёбра и лёжа на горячем полу в потных разводах чувствуешь себя рахитом с хорошим либидо. Я готов был задохнуться и умереть сейчас же, в эту же секунду. Больше мне ничего было не нужно. Единственное, в чём я был уверен, так это в том, что я хочу ещё дольше ебать это слегка детское, недоразвитое тело с маленькой грудью, хочу видеть её лицо без этих идиотских игр как можно чаще, хочу целовать её в губы, хочу проводить ладонью по её щекам и чувствовать, какие они горячие, хочу, чтобы она опять шептала какую-то чепуху вроде «Пожалуйста», после которой мне вообще хочется выебать её насмерть, то есть реально порвать её своим хуем как лживую вражескую листовку.
— Давай оденемся? — её голос потерял как былую игривость, так и статность, он вдруг резко стал очень детским, — вот, возьми салфетку.
Она протянула мне влажную салфетку, держа в другой руке такую же и вытирая мою сперму со своего подбородка. После нехитрой гигиенической процедуры я натянул на себя брюки, затянул ремнём и начал отряхивать пиджак от мелких кусочков прилипшей грязи, скопившихся на нём за время пребывания на полу. Юля очень быстро оделась, девочки делают это очень быстро, когда им это действительно нужно.
— Молчи, — глядя ей в глаза, сказал я.
На мне лежал её невинный взгляд. Неясно, чего в тот момент я хотел больше: чтобы всё случившееся навечно осталось в этом кабинете, или самому навечно остаться в нём. Знаю лишь, что потом мы никогда больше не виделись.
Обложка: Елизавета Щепина