Владимир Сорокин — один из ярчайших писателей-концептуалистов и представителей соц-арта в русской литературе, автор культовых романов «Норма», «Голубое сало» и «День опричника». В его текстах тщательное воспроизведение «советского» сюжета резко сменяется концентрированной жестокостью, заумью и гипертелесностью.
Ко дню рождения писателя рассказываем о ключевых приемах и эволюции его произведений: как и почему с годами трансформировался авторский стиль, каким образом Сорокин исследует грани насилия в пространствах советского мифа, для чего использует «буквализацию метафор» и «развоплощение телесного», зачем в «Dostoevsky-trip» и «Манараге» делает литературу объектом потребления и почему экспериментирует с темой Неосредневековья.
Владимир Сорокин — один из тех авторов, чей стиль, темы и проблематика текстов остаются неизменно узнаваемыми. Его тексты либо ценят, либо от них отворачиваются, объясняя такое отношение пресловутой и знакомой фразой «Не хочу читать эту мерзость». Конечно, несмотря на индивидуальные предпочтения читателей сложно спорить с двумя фактами: 1) «мерзость» и насилие сорокинской прозы не возникает на пустом месте и не существует ради самой себя (в отличие, скажем, от прозы Ильи Масодова), а несет определенное значение; 2) следует также признать, что Сорокин — едва ли не единственный пишущий современник, которого можно с некоторыми оговорками назвать живым классиком, и чьи тексты однозначно войдут в историю русской литературы как важная веха развития литературного процесса.
В данной статье я хочу в обзорном ключе обратить внимание читателя на ключевые акценты творчества Сорокина, которые менялись со временем, что и позволило исследователям его текстов говорить об этапах творчества (эволюции, если угодно) без единого мнения на этот счет.
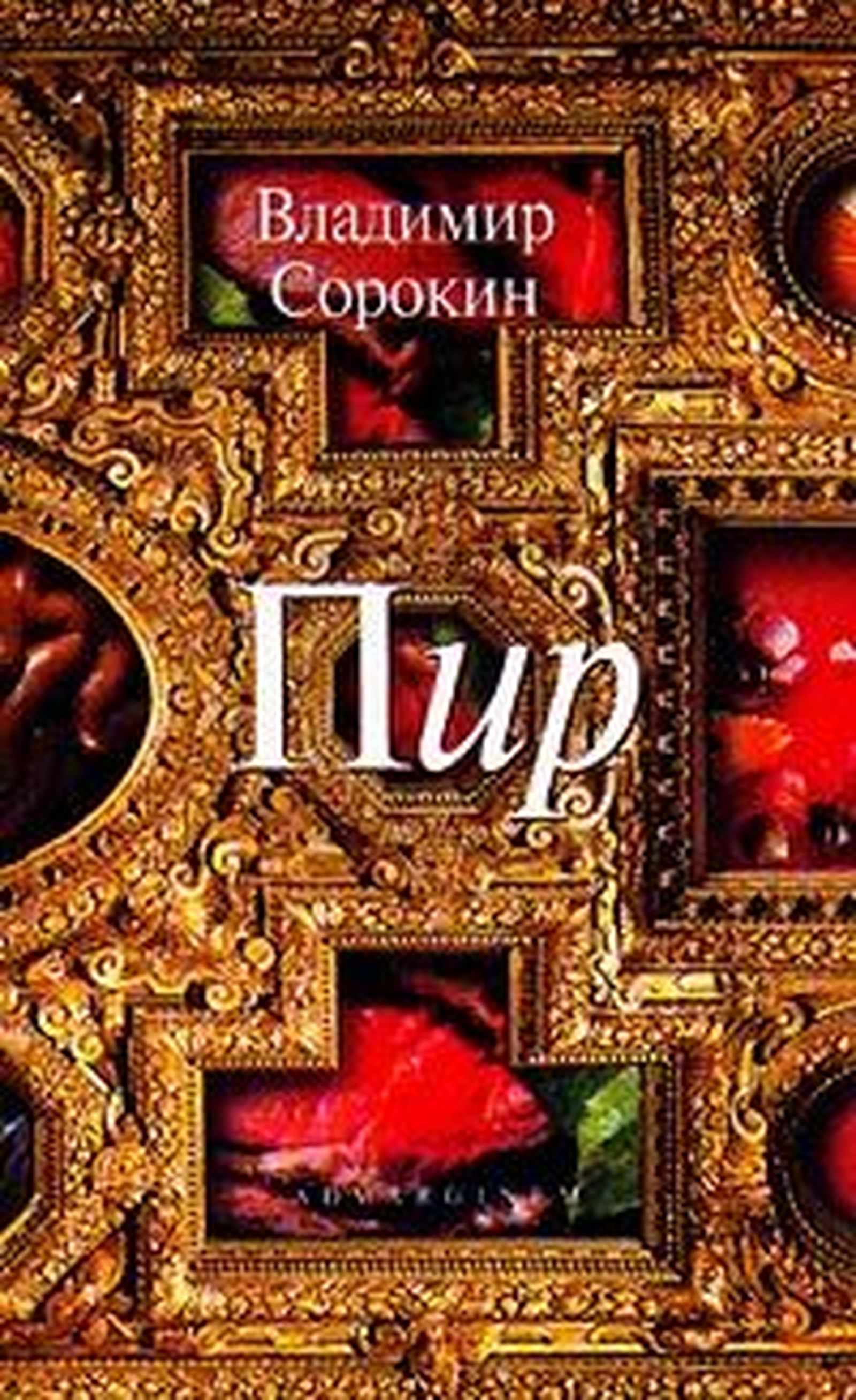
Можно сказать, что «ранняя» проза Сорокина начинается с самых первых литературных экспериментов и заканчивается в начале 2000-х на сборнике новелл «Пир» (2000). Следующая за ним «Ледяная трилогия» (2005) — своего рода переходный период от ранней прозы к поздней. Во время публикаций романов трилогии все больше начали прослеживаться трансформации авторского стиля, связанные с коммерческим уклоном. К этому склоняли определенные причины. Например тот факт, что с развалом СССР в творческом андеграунде не было нужды, и авторам стало понятно, что свой труд можно монетизировать активнее, чем это было на тот момент (а это в основном зарубежные публикации у писателей и поэтов и нечастые продажи картин близкому к художникам кругу). Так, если в подполье больше не было необходимости, то, само собой, стиль писателя склонен меняться, когда он пишет не «для своих» в самиздат, а в издательство по контракту. Скажем подробнее о характеристике этих двух непохожих друг на друга этапов.
Сорокин «андеграундный»
Ранняя проза Сорокина — во многом та самая «шокирующая» сторона писателя, благодаря которой у широкой аудитории сложилась репутация автора, пишущего «похабщину», «мерзость» и «порнографию». Проблемность широкой реакции заключается в том, что проза Сорокина на раннем этапе никогда не была прозой для широкого круга читателей. Следует помнить, что писатель сформировал свой стиль в кружке московских концептуалистов и учился у старшего поколения — в особенности у художников Ильи Кабакова и Эрика Булатова, которых он называл бесспорными авторитетами. Он развивался вместе с поэтами Дмитрием Александровичем Приговым и Львом Рубинштейном. Со слов самого Сорокина, «место прозаика было свободным», и молодому интеллектуалу удалось присоединиться к концептуалистам.

Сорокин определяет свою раннюю прозу в качестве соц-арта, в котором работали художники московского андеграунда. Этот термин был предложен арт-группой «Комар и Меламид» и формально означает соединение соцреализма и поп-арта, а в сущности постулируется некоторыми исследователями как отечественный вариант постмодернизма.
Каждый из авторов, будь то художник или писатель, подходил к решению творческих проблем в этом поле по-своему: знаменитые лозунги и перспективы в работах Булатова, перформансы арт-группы «Коллективные действия», библиотечные карточки Рубинштейна, бытовая поэзия и стихограммы Пригова и проч. Ранняя проза Сорокина характеризуется одной доминирующей чертой, которую можно наиболее четко проследить на примере сборника рассказов «Первый субботник» (1979–1984). Раз за разом читатель сталкивается с одним и тем же приемом: возникает средний соцреалистический нарратив с типичными для официальной советской литературы образами и хронотопом. Затем случается «первое вдруг», когда размеренное и привычное развитие «советского» сюжета резко сменяется чрезвычайно высокой концентрацией насилия, зауми, сексуальности и жестокости. Стилистическое мастерство Сорокина заключается в том, что он может сохранять видимость письма, под которое маскируется, бесконечно долго (об этом свидетельствует роман «Роман» (1985–1989), выдержанный в тургеневском стиле на несколько сотен страниц).
В одном из интервью Сорокин прокомментировал эту схему повествования так: «В 80-е годы я делал бинарные литературные бомбочки, состоящие из двух несоединимых частей: соцреалистической и части, построенной на реальной физиологии, а в результате происходил взрыв, и он наполнял меня как литератора некой вспышкой свободы».
Раннее творчество
Скажем теперь об основных темах и мотивах, которые присущи раннему творчеству писателя, и что их скрепляет. Во-первых, — и это самое очевидное — проблема насилия. Несмотря на то что практически ни один ранний текст Сорокина не обходится без насилия, сам писатель, будучи человеком образованным, уравновешенным и спокойным, конечно же, выступает против него. Его эксперименты в текстах — это эксперименты на письме. «Это просто буквы на бумаге», — говорил на этот счет Сорокин. Высокая концентрация насилия имеет под собой определенную суть. Для этого следует обратить внимание на формальные признаки.

Ранний нарратив Сорокина маскируется под соцреализм — ключевое отражение советского мифа в искусстве. То есть для Сорокина как явного антисоветчика (и он неоднократно называл себя в интервью именно так) поместить насилие в соцреалистическое пространство тоталитарного государства — это способ, которым он пытается решить для себя проблему жестокости. Существует расхожая от интервью к интервью история Сорокина о том, как однажды, будучи ребенком на отдыхе с родителями в Крыму, он услышал из соседнего двора удары и всхлипы. Оказалось, что зять бил своего тестя — немощного старика:
— Почему ты меня бьешь?
— А просто так.
К этой истории можно относиться с разной степенью достоверности. Нельзя сказать наверняка, наблюдал ли маленький Сорокин в действительности такую картину или это лишь его оправдание концентрированного насилия в художественных текстах. Одно можно сказать точно: Сорокина очень беспокоила проблема насилия в обществе, в котором он рос, и уже трудно усомниться в следующих словах писателя: «Я вырос в таком обществе, где все давило, начиная с родителей, детского сада, улицы… Везде шел прессинг. Это же лагерь был, понимаете, где каждый день кого-то пиздят, что считалось нормальным».
Поэтому Сорокин, взаимодействуя со своими героями и персонажами всего лишь как «с буквами на бумаге», ищет грани насилия, которые может позволить себе пространство Советского Союза, всюду старательно маскируя отсутствие безупречности в обществе.
И самое удивительное, что советский хронотоп позволяет вместить в себя то, что отворачивает массового читателя, привыкшего к «парадной литературе», от прозы Сорокина. Он органично вмещает в себя жестокость, без которой, конечно, не могло обойтись тоталитарное государство. Сорокин с присущим ему талантом всего лишь помещает соцреалистические типы персонажей в новые, деконструирующие условия. И, таким образом, героев в его текстах не жалко, — они не состоятельны как личности, в их «картонную» судьбу невозможно поверить.

Другая заметная тема, к которой обращается Сорокин, — еда и (ее) поглощение. Для него эта тема чрезвычайно важна, так писатель понимает в широком смысле этнос, его идентичность и вкладывает наблюдения в собственное понимание метафизики. Тема еды неоднократно поднималась Сорокиным и в (пост-)советский период творчества, и начиная с 2000-х. Достаточно вспомнить такие тексты, как «Розовый клубень» (1979), «Полярная звезда» (1978), «Норма» (1979–1983), «Голубое сало» (1999), сборник новелл «Пир», сборник рассказов «Сахарный Кремль» (2008), «Манарага» (2017), а также пьесы «Щи» (1995-1996) и «Пельмени» (1997). Еда и поглощение, таким образом, становятся узнаваемой чертой творчества автора. Сорокин экспериментирует с видами еды (и не только) и ее поглощением, и это вызывает разные чувства: от остраненного шока перед неизвестным, словно первобытным, как, например, «оправданный» ницшеанской философией каннибализм в «Насте», до страха перед тоталитарным давлением, возникающим, например, во внезапном психологическом и физическом насилии в пьесе «Пельмени» или страхе перед «большим братом» в «Розовом клубне».
А главное в этом — использование еды как метафизического узла, соединяющего в себе духовное и телесное начала.
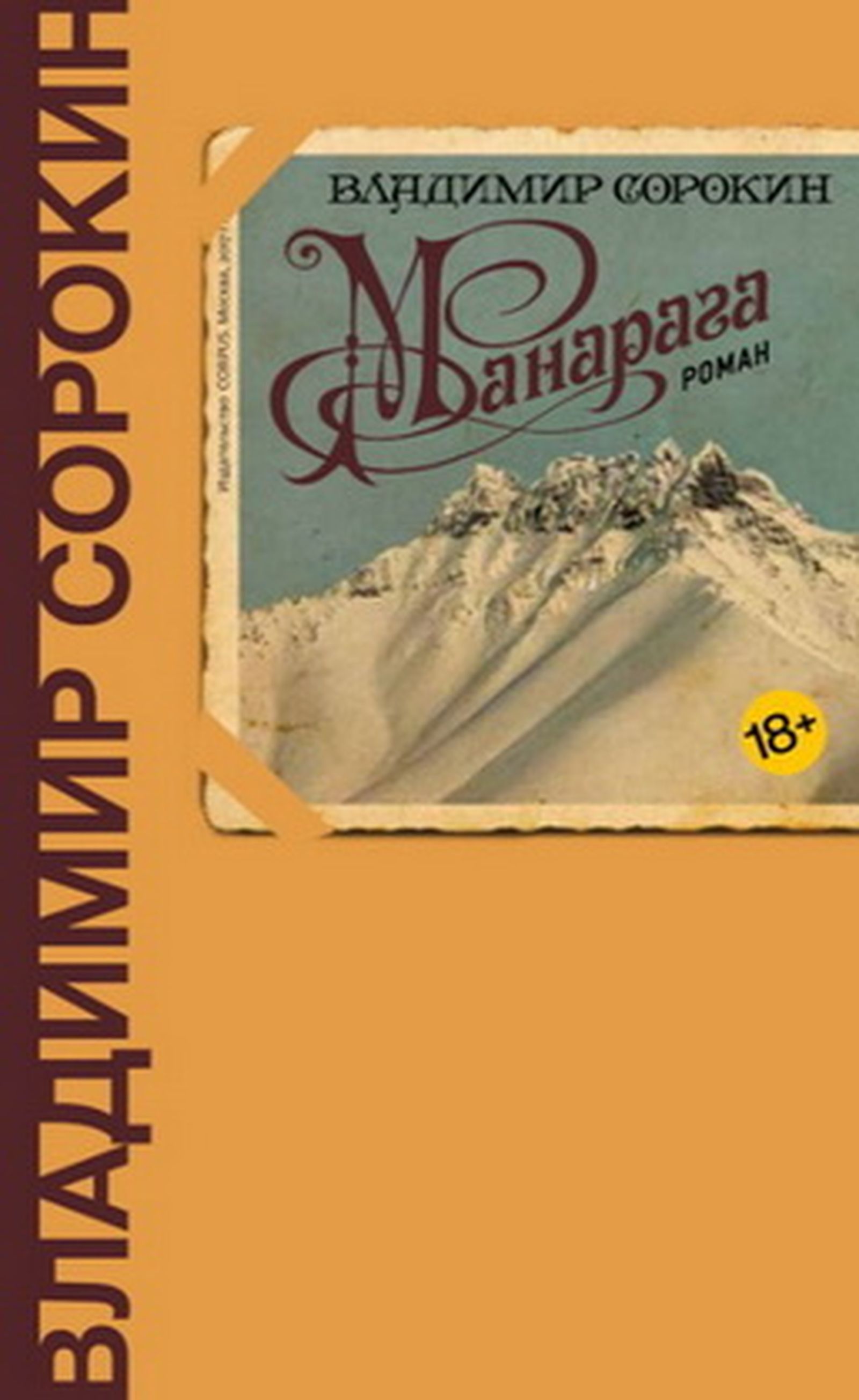
Третья глобальная тема, которая часто возникает у Сорокина — литература. Писатель, выражая собственное отношение к пантеону авторов, выстраивает свою иерархию, о которой читатель может догадаться по некоторым текстам Сорокина. Примечательно, что и тема литературы предстает в употребительном виде. Вспомним здесь два знаменитых текста: пьесу «Dostoevsky-trip» (1997) и роман «Манарага». И в пьесе, и в романе литература становится осязаемым объектом потребления: в случае с пьесой — материальность достигается через наркотик, а в романе — через приготовление пищи на редком издании бумажной книги в мире, где они запрещены. Здесь можно увидеть определенную иерархию, выстроенную самим Сорокиным. Так, Набоков в пьесе является дорогим, элитным наркотиком:
«М4. А ты не на Чехове случайно сидишь?
Ж1 (мучительно потягивается). Нет. На Набокове.
Все смотрят на нее.
Ж2. Но это же… дико дорого!
Ж1. Средства позволяют»
В «Манараге» иерархия проявляется в отношении героя к определенному автору, на котором приходится готовить: «И я не буду жарить стейк на писателе второго сорта, вроде Горького».
По этой же логике можно определить, какие авторы и тексты оцениваются наиболее высоко: Дж. Джойс «Поминки по Финнегану», Г. Мелвилл «Моби Дик», А. Чехов «Степь», А. Платонов «Чевенгур», Ф. Достоевский «Подросток» и др. Герой «Манараги» высоко оценивает также и позднего Толстого, раннего Чехова. Смысл этих метафор довольно прост: прочитать такую литературу сродни тому, чтобы съесть хороший стейк, который, по логике писателя, не приготовить на второсортной литературе в художественном мире «Манараги».
Трансгрессия духовного и телесного
Скажем теперь подробнее о приемах, благодаря которым можно говорить о трансгрессии духовного и телесного в творчестве писателя. Это достигается путем «буквализация метафоры», или, согласно термину М. Липовецкого, «карнализации» (от лат. carnalis — телесный). Приведем примеры. В рассказе «Настя» из сборника «Пир» буквализируется метафора «жрать своих детей», а также фраза «просить руки». В романе «Сердца четырех» (1991) буквализируется метафора «ебать мозги» и многие другие (например, само заглавие романа в финале обретает буквальный смысл), а в пьесе «Занос» (2009) буквально изображается занос взятки «наверх».
В уже упомянутой пьесе «Dostoevsky-trip» литература отелесивается до наркотика и имеет последствия, сопоставимые с трипом и ломкой, что тоже является воплощением метафоричного отелесивания. Приведем также пример из рассказа «Розовый клубень». В нем каждая семья некоего тоталитарного государства обязана выращивать корнеплод, «чудо селекции», похожий на Вождя, на своих подоконниках. Затем этот корнеплод срезают и консервируют. С одной стороны, здесь происходит снижение, десакрализация образа Вождя (напоминающего Сталина) и его изображение в виде продукта; с другой — обыгрывается трудноуловимая метафора: не то «консервация власти», не то «консерватор», и такая множественность интерпретаций характерна для текстов Сорокина.

Вместе с тем существует прием, обратный карнализации — развоплощение телесного в дискурс. Термин также был предложен Липовецким, и это позволило гораздо более полно описывать поэтику текстов Сорокина. Приведем пример того, как работает обратное действие карнализации. В новелле «День русского едока» из сборника «Пир» изображается концерт, который ведут два конферансье: Оболенский и Шноговняк. Главными элементами в номерах и декораций на сцене являются продукты, причем в избыточных количествах с целью подчеркнуть изобилие в бедной тоталитарной стране. Здесь Сорокин работает с расхожим советским мифом о том, что разных продуктов хватало всем и их было в более чем достаточном количестве. Обратим внимание на отрывок. На сцене звучит песня про мясокомбинат «Моран», производящий колбасные изделия в избыточном количестве. После номера между конферансье происходит следующий диалог:
«ШНОГОВНЯК (крестится, глядя на сияющие колбасы): Слава тебе, Господи! Похоже, наконец-то проблема колбасы решена в России-матушке! (Смех и аплодисменты.)
ОБОЛЕНСКИЙ: Ты сомневался?
ШНОГОВНЯК: Эдик, ну как не сомневаться, когда мой дед, отец, теща и жена всегда, сколько я помню, говорили о проблеме колбасы в России! А прабабушка, покойница, бывало утром на кухню выйдет, подойдет так тихонько и мне на ушко: «Ванечка, а я опять во сне копченую колбаску видала!»
(Смех.)
ОБОЛЕНСКИЙ: Жаль, что твоя прабабушка не дожила до сегодняшнего дня и не может видеть это изобилие»
Здесь колбаса перемещается автором из области телесного в область духовного, она становится знаком, песней, дискурсом изобилия и апеллирует к советскому времени и мифу, иронично обыгрывая болезненную для обывателя гастрономическую нехватку.
Все это необходимо писателю для того, чтобы снизить пафос, десакрализировать ключевые концепты советской и постсоветской эпох.
Сорокин «неосредневековый»
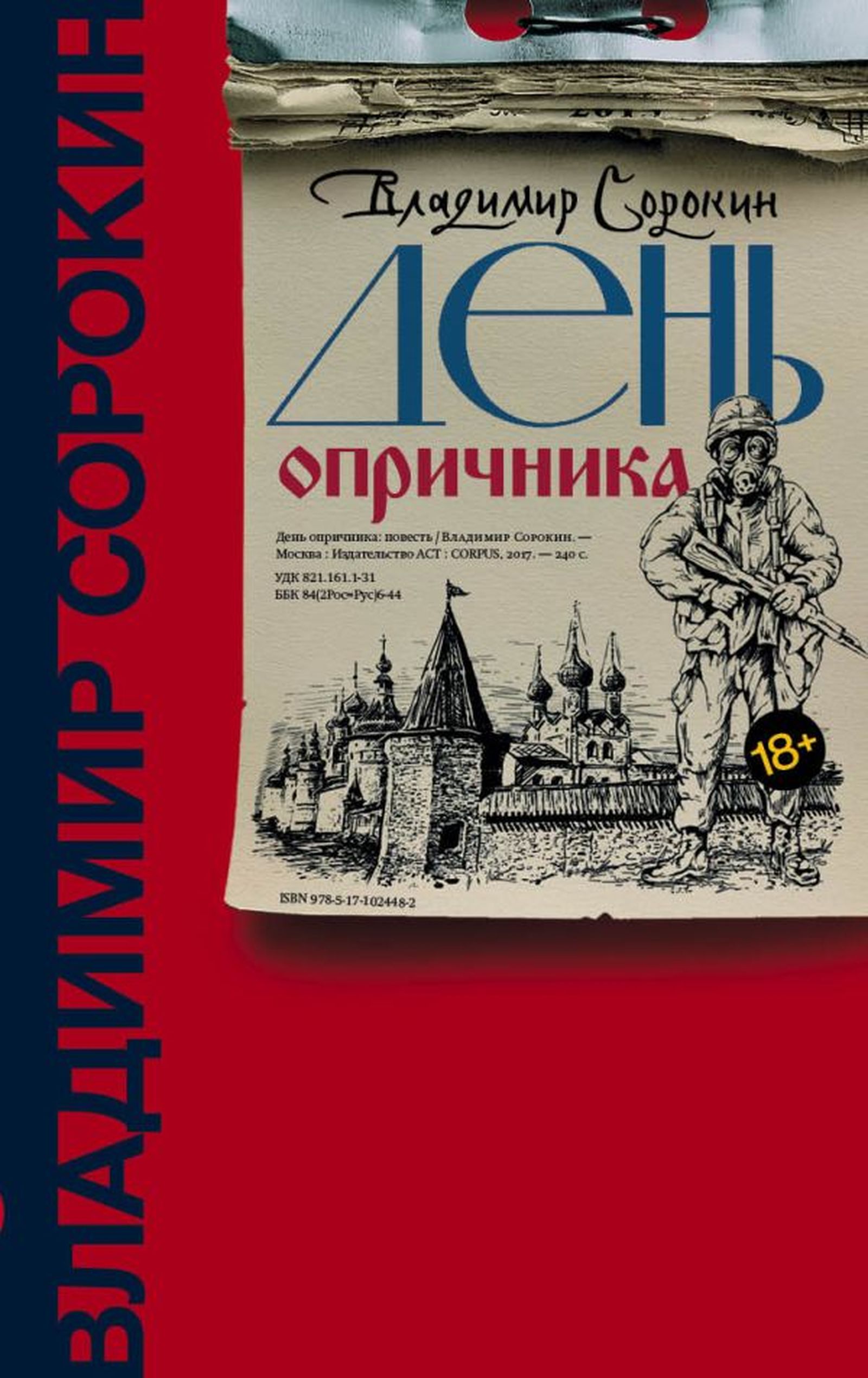
Наконец, дадим характеристику «поздней» прозы Сорокина, которую можно отсчитывать от повести «День опричника» (2006). Говорить об этом тексте как о начале нового этапа творчества позволяют три существенных обстоятельства. Во-первых, фокус внимания Сорокина смещается с СССР и 1990-х годов на Россию и актуальные для середины 2000-х события, имена и контексты. Во-вторых, такая смена внимания не заканчивается упомянутой повестью, а продолжает развиваться: Сорокин выстраивает новый художественный мир, имеющий свои видимые очертания и характерные маркеры. «День опричника» в этом смысле первый такой текст. Последующую цепочку (не всегда хронологическую) составляют «Сахарный Кремль» (2008), «Метель» (2010), «Теллурия» (2013), «Манарага» (2017), «Доктор Гарин» (2021).
На сегодняшний день эти 6 текстов — замкнутое художественное пространство со сквозными героями, мотивами, образами, хронотопами и др. Исключение составляют «проходные» тексты «Моноклон» (2010), «Белый квадрат» (2018), «Нормальная история» (2019), «Русские народные пословицы и поговорки» (2020) и «De feminis» (2022), не укладывающиеся в упомянутый список. Очевидно, что магистральная творческая линия идет от «Дня опричника» и далее по указанным произведениям. В-третьих, стилистика сорокинских произведений изменилась, автор в угоду коммерческого успеха стал гораздо более сдержанным, его проза оставалась элитарной, но уже перестала быть «для своих», автор все больше ориентировался на продажи, что в 2000-х годах отмечали многие критики.

Чем же характеризуется «поздняя» проза Сорокина? Самые заметные произведения, составляющие упомянутую выше цепочку, отражают одну глобальную тему творчества, которая ранее не поднималась писателем. Речь про Новое Средневековье. Однажды в интервью с Ю. Сапрыкиным Сорокин заметил, что «в принципе, „новое Средневековье“ — это идея, которая ломится сейчас в многие умы, мне хотелось пофантазировать на эту тему». Однако случилось так, что фантазия Сорокина обернулась не просто изолированным текстом или дилогией («День опричника» и «Сахарный Кремль»), а открытием большого поля для экспериментов позднего периода творчества.

Время действия в «Дне опричника» — 2027/2028 год (сам Сорокин называл оба варианта в разных интервью), в «Сахарном Кремле» — 1-2 года спустя. Один текст повествует о процветании опричнины в России будущего, второй — о скорректированных ориентирах и закате Тайного приказа опричников, смене режима. Повесть «Метель» вообще с трудом поддается хронологической дешифровке, и многие исследователи и критики склонны анализировать текст либо в оптике преемственности знаменитых «классических Метелей», либо сосредоточиваться на вещном мире повести, ее конкретных образах. По ощущениям, и «Метель», и примыкающий к ней роман «Доктор Гарин» по времени действия относятся к началу XXII в., но достаточных оснований говорить об этом нет, по крайней мере до возможного развития нового художественного мира Сорокина. В романах «Теллурия» и «Манарага» Неосредневековье приобретает и другие черты, отличные от предыдущих текстов. Если в «Дне опричника» и «Сахарном Кремле» время действия определяется довольно точно — 2028 год, — то в «Теллурии» и «Манараге» рассуждать об этом можно лишь приблизительно. Это примерно середина XXI века, но фокус внимания писателя уже смещается с чисто русского контекста в европейскую сторону.

Оба текста представляют собой романы, прямо коррелирующие между собой: тексты имеют общее художественное пространство, сквозных героев и практически одно и то же время действия. О «Манараге» было сказано в другом разделе, о «Теллурии» скажем здесь. Роман состоит из глав-осколков, отдельно взятых историй, которые происходят в рамках одного художественного пространства, заданного границами раздробленного российского государства. Сорокин однажды сказал про «День опричника»: «Прежде всего мне хотелось написать эдакую народно-лубочно-ярмарочную книжку», подразумевая, вероятно, карнавальную средневековую эклектику. Думается, что такая логика применима и для «Теллурии», которую можно уподобить лубку по принципу большого количества разнородных сюжетов. Именно из таких разносюжетных глав состоит роман, где хронотоп и дискурс оказываются важнее, чем герои и их судьба. Лубочные гравюры могли изображать различные сцены из жизни, исторические события, а также религиозные и мифологические сюжеты, и по этому принципу «Теллурию» можно отождествить и с лубочной гравюрой, и, с некоторыми оговорками, с «Днем опричника», который репрезентирует разные эпизоды из жизни вымышленной России будущего от лица одного её жителя (несмотря на то, что он высокопоставленное должностное лицо). «Теллурия», таким образом, превращается в каталог, летопись без начала и конца, «единый текст» и обладает «неосредневековым» контекстом, уже с другими источниками, в отличие от «Дня опричника», но все еще в рамках новой для Сорокина проблемы Нового Средневековья.
Исторический циклизм в прозе писателя
Причин, по которым Сорокин сфокусировался на новом литературном поле, достаточно много, но скажем об основных. Конечно, во многом сыграли роль два фактора: вхождение неофициальных авторов в литературный канон после развала СССР и их активное тиражирование в 2000-х; вследствие этого, если говорить о Сорокине, поменялась и сама проблематика, и подход к ней — читатель сталкивается с «новым Сорокиным», не таким шокирующим, но все еще глубоким, элитарным и очень точным (в связи с чем ему и стараются приписать «прогнозирование будущего»); проблемы, рассматриваемые «ранним» Сорокиным, никуда не делись, они лишь изменились в условиях нового государства и обросли другими акцентами. Лучше всего это объясняет следующая цитата писателя:
«В России же сейчас будущее остановилось, на него сзади, как ледник, наползает прошлое, а на границе их столкновения и возникает хрупкий, ломающийся, гниющий шов — настоящее».
В более усеченном и привычном виде эта фраза была произнесена писателем так: «В России такая ситуация, когда ее настоящее стало будущим, а будущее слилось с прошлым».
Обе цитаты свидетельствуют о том, что для Сорокина стало важным показать преемственность, исторический циклизм, сквозную связь с историческим Средневековьем (и не только) в художественном пространстве России будущего. Поэтому в его текстах возникают опричники; поэтому вместо памятника Дзержинского на Лубянке стоит памятник Малюте Скуратову; поэтому возникают новые репрессии, новый андеграунд, очереди, травля деятелей искусства и новые войны. Все это для Сорокина находится в одной плоскости и апеллирует к источникам прошлого: от Средневековой Руси и Российской Империи до сталинского СССР и более позднего времени. Поэтому поздние тексты Сорокина выглядят эклектичными, созданными по принципу бриколажа и часто кажутся карнавально-лубочными, особенно если обращать внимание на мелкие детали. Но именно такая эклектичность, кажущаяся беспорядочность и хаос с четко выведенной проблематикой (иногда более, иногда менее явно) создают интерес к прозе Сорокина, заставляют исследователей и читателей разбираться в источниках, усматривать связи эпох, учиться понимать авторскую позицию и стараться приблизиться к пониманию текстов одного из главных писателей современности.
Читайте также
«Сейчас начинается настоящий XXI век». Писатель Дмитрий Данилов о своих пьесах, отмене русской культуры и цензуре
«Хорошая эрекция была, и фильмы хорошие показывали». Большое интервью со Львом Рубинштейном
Засрак: жизнетворчество Дмитрия Александровича Пригова как опыт трансгрессии
Тридцать три пословицы и поговорки из новой книги Владимира Сорокина
«Путин сидит на вершине рушащейся Пирамиды Власти». Эссе писателя Владимира Сорокина о войне с Украиной












