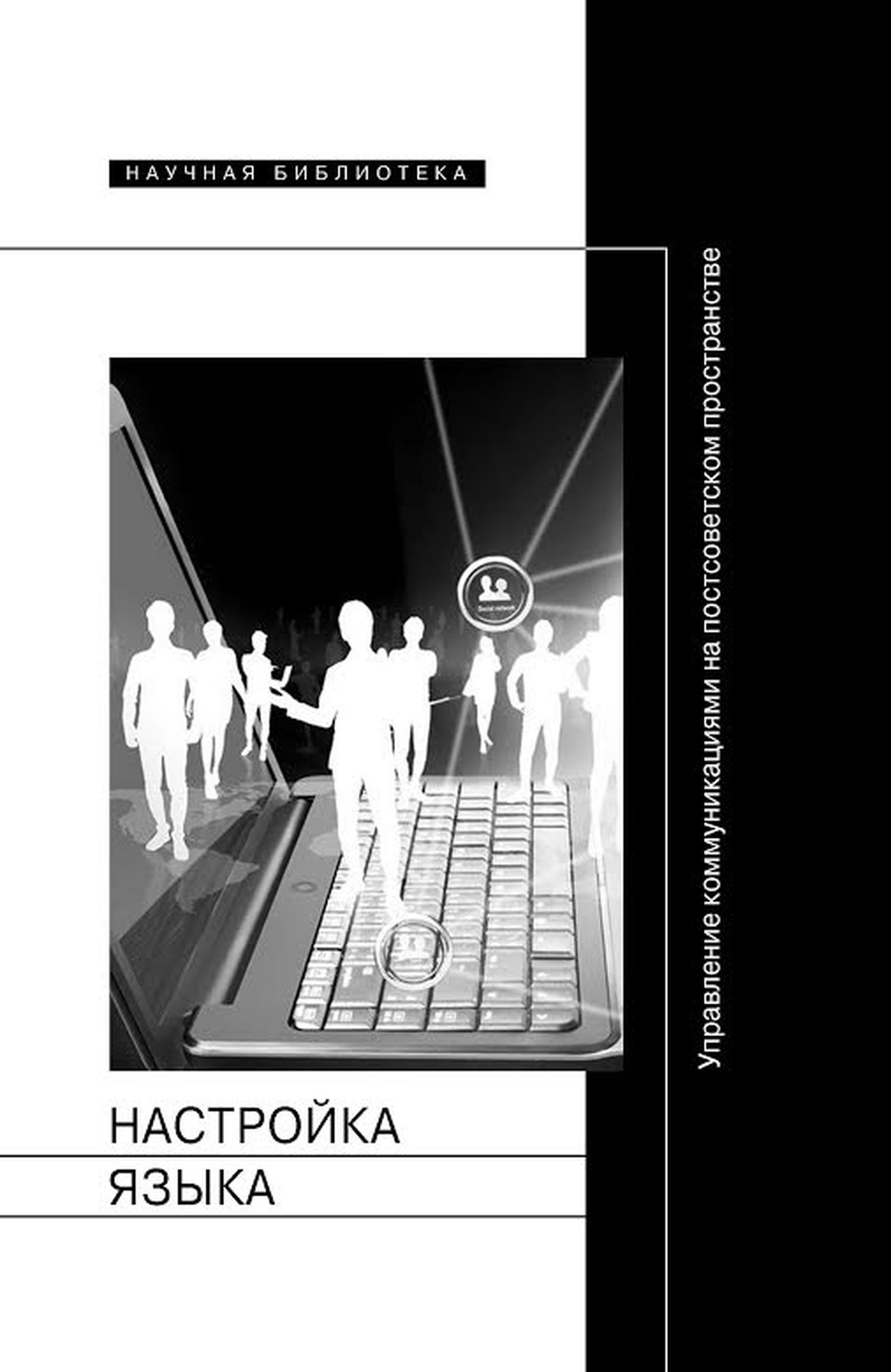В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла монография «Настройка языка: управление коммуникациями на постсоветском пространстве». Коллективный труд посвящен изменению языковых процессов и норм в современной России и близлежащих странах, где влияние русского языка остается значительным, – в сущности, изменению норм языковой политики за те два года, пока монография готовилась. «Дискурс» публикует первую главу монографии –
Итак, он перестал быть советским и глобальным орудием единственно верной научной идеологии. Но остался одним из пяти главных в Организации Объединенных Наций. Его перестали изучать в мире так, как испанский или французский, — для жизни и бизнеса. Но в мире все еще есть люди, которые понимают, что современный русский язык и сегодня невероятно интересен — пусть своей социокультурной несовременностью, в других местах скрываемой, в России — горделиво выпячиваемой. Пусть вот уже четверть века русский язык как государственный сопровождает чужие национально-государственные строительства, оплакивая — силами озабоченных носителей — собственный культурно-политический демонтаж: без обращения к его богатствам, отложившимся на этом пути, никому не удастся построить сколько-нибудь внятную описательную теорию политико-экономических и лингвокультурных процессов нашей эпохи.
Авторы лежащей перед читателем книги работают на такую будущую теорию. Вот почему общим знаменателем их коллективного усилия и является «настройка языка», или ответ на вопрос, кто, как и до какой степени управляет коммуникативными практиками в бывшей сфере ответственности советского русского языка.
Эта сфера привычно для последних нескольких лет называется в книге «постсоветским пространством». Применительно к языку «постсоветское пространство» обладает несколькими не совсем тривиальными свойствами, пусть и не всегда отрефлексированными авторами отдельных разделов. Так, в монографии соседствуют два пограничных с «постсоветским пространством» русского языка подпространства. Одно, о котором пишет норвежская исследовательница Ингунн Лунде, — это подпространство игры, или метаязыкового перформанса. Для Лунде остается открытым ясно сформулированный вопрос, как же новый русский язык сетевой коммуникации встроен в большое приключение мировых языков, столкнувшихся с Интернетом. В этом внешнем пограничье американский славист Майкл Горам обследует «виртуальные источники порчи языка», а Вера Зверева (Университет Эдинбурга) устанавливает организацию «дискурсивного конструирования (новой) социальной иерархии».
Есть, однако, у «постсоветского пространства» русского языка и пограничье внутреннее, или то особое подпространство, где русский советский язык был старшим братом-организатором языков других «народов СССР», или тех миноритарных языков, которые ныне стали «государственными языками России» и приступили к самостоятельному существованию уже без патроната «старшего брата» (статья Бориса Орехова и Кирилла Решетникова). Казалось бы, какое отношение к современному русскому языку имеют события, происходящие в Википедии с башкирским или татарским? Между тем, как показывают наши авторы, сама академическая рефлексия над статусом российских миноритарных языков в сравнительно-исторической перспективе протекает в русскоязычном пространстве. Добрая треть монографии обнаруживает интерес именно к происходящему в том культурно-политическом пограничье, где миноритарные языки дают, вероятно, последний отчет о своем существовании (Тамара Журавель «Языковая ситуация и языковая политика в приграничье — на примере Усинской котловины Красноярского края», и Ольга Богатова «Социальные факторы формирования и изменения языкового режима в полиэтническом регионе — на примере Республики Мордовия).
Там, где некогда царил лингвополитический дирижизм в отношении языков меньшинств «второй категории» (в советское время это были так называемые внутрироссийские автономии и т.п.), современный исследователь применяет к своему предмету все более тонкий аналитический инструментарий, использование которого показывает, как поверх тяжелого «советского наследия» наслаивается «новорусский» политический репрессивный дискурс: именно таков русско-татарский и татарско-татарский «культурный диалог» в работе Екатерины Ходжаевой «Постсоветская языковая политика в образовательной системе Республики Татарстан: дискурс неравенства».
Но от внешнего (с английским) и внутренних (с миноритарными языками) пограничий нам пора перейти к самому проблемному центру «постсоветского языкового пространства», который изучает коллективная монография. Этот центр тоже двоякий. Одно его измерение — историко-культурное, другое — военно-административное. Одна группа исследователей выявляет методы освоения советского прошлого, анализирует опыт «калибровки языка постсоветской рефлексии». Другая группа сосредоточена на оптико-политических ошибках постсоветских сообществ, воспроизводящих модели лингвокультурных репрессий и когнитивных деформаций, которые испытывают российское и сопредельные общества под влиянием СМИ.
Для исторической контекстуализации работ первой группы — прежде всего статей Евгения Савицкого «Между “геноцидом”, “оккупацией” и “братством народов”: языки описания имперского/колониального прошлого в постсоветскую эпоху» и Николая Поселягина «“Операция по нейтрализации”: травма и ее замещение в российском официальном и публичном дискурсе» — читателю необходимо вспомнить, из чего состоял русский сегмент советского мирового гипертекста. Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что этим сегментом была русская критическая литература и публицистика. К концу XIX в. олицетворением символического персонажа по имени «русский язык» были Толстой, Достоевский, Чехов, а чуть позже — политические деятели, прежде всего марксисты — Троцкий и Ленин. В своей глобальной функции русский язык был языком социальной революции и интернациональной, в определенном смысле даже а-национальной, коммунистической экспансии. При этом идеология интернационализма, деколонизации, социального равенства, которую можно считать идеологией «ранней глобализации», интегрировала и русский гипертекст прошлого столетия. Для изучавших русский язык по всему миру имена Пушкина как певца свободы, Толстого, Достоевского и Горького как аналитиков человеческой души и критиков социального устройства, Маяковского и Пастернака как певцов революционной эпохи и, наконец, Ленина, Троцкого и Сталина как строителей справедливого будущего для всего человечества — эти столь разные имена представляли язык — носитель права на глобальную функцию. Это была функция идейного объединителя человечества на почве самого справедливого и вместе с тем, как тогда говорили, «научно обоснованного» государственного устройства. Конечно, имена Ленина, Троцкого и Сталина сами по себе создают травматический эффект: то, что было менее известно при их жизни и стало прозрачно и доступно для всех желающих знать сегодня, — например, о методах насаждения «всеобщего счастья человечества» — мало кого сделает поклонником строителей Советского государства. Но русская пословица не зря гласит: из песни слова не выкинешь. Одно из важнейших социо(контр)культурных явлений эпохи — международный терроризм — тоже держалось во второй половине ХХ века на интересе к большевизму и сталинизму, к маоизму и иным «измам». Один из самых известных международных террористов — Ильич Рамирес Карлос — получил свое первое имя, Ильич, в честь Ленина (его брат получил в честь Ленина имя Владимир).
Конечно, были тысячи и тысячи людей, изучавших русский для того, чтобы прочитать Солженицына или Цветаеву. Но тренд определяли не они, а те сотни тысяч людей в мире, которые видели в Советском Союзе не просто символ обновления их жизни, но непосредственный пример осуществления мечты, не утопию, а реальность. Не их вина, что эта реальность в самой стране, излучавшей международные прогрессивные идеи, оказалась по большей части иллюзией.
Претензия идеологов и политиков языка опиралась на холистское представление, у которого открылось неожиданное внутригосударственное измерение. Несмотря на доктринерскую пропагандистскую цель и исходное лицемерие официальной идеологии, сами политики языка и языкового строительства, следуя букве своего учения, и в самом деле всемерно поощряли так называемую культуру речи, развивали переводческую деятельность в невиданных прежде объемах, обеспечивали русский язык статусом универсального языка научного знания. Вся международная номенклатура наук, за исключением разве что психоанализа, получала выражение на русском языке советской эпохи. При этом институты авторитетности языка номинально имели в обществе чрезвычайно высокий статус, хотя и были рассредоточены. Опыт этот до сих пор изучен крайне слабо. В нашей монографии анализируется по крайней мере одна из точек, в которой советский холистский дискурс иронически переосмысливается в постсоветскую эпоху: Оксана Мороз делает это в статье «Проект “фундаментального лексикона”» постсоветской культуры: экспертный язык русского литературного концептуализма».
Во внутренней культурной и социальной политике русский язык даже не нуждался в формальном статусе государственного — он всюду на территории бывшего СССР представлял собой общедоступный воздух коммуникации, познания, выражения и, главное, управления. И только исчезновение СССР раскрыло большинству людей, говоривших на русском языке, насколько противоречивым, сложным и проблематичным является в некоторых случаях тот факт, что русский для них — родной или второй родной язык. Одним из самых непривычных для людей в «постсоветской ситуации» стало явление вариативности. Его разновидности в книге рассматриваются от уровня «травы» до таких пограничных медийных комплексов, как мир современного русского языка в Украине в его особом новом качестве соорганизатора новой украинской государственности — от статьи Ольги Карповой и Александра Дмитриева «Русское правописание: унификация и вариативность» до работы Ксении Гусаровой «Украинская Википедия: стихийный агент языковой политики».
Как только Советский Союз распался, вскрылось несколько особенно болезненных противоречий. Оказалось, что чем лучше ты как носитель языка понимаешь деревянный язык Сталина или Брежнева, тем хуже ты понимаешь язык Толстого или Чехова.
А двуязычные носители других родных языков почти принудительно построили свою новую языковую стратегию на отторжении русского — как языка колонизаторов или языка коммунизма. Нечего и говорить, насколько болезненно такое восприятие русского языка для тех, у кого именно он — родной. Первый и единственный. Официальный русский язык нес идеи равенства народов; и неофициально,и фактически СССР был феодальным обществом, в котором процветали всевозможные предрассудки и суеверия — от расизма до культа потребления во внеправовом пространстве. Официальный русский язык обещал свободу — фактически в СССР свирепствовала цензура. Официальный русский язык обещал поддержку «трудящимся Запада и Востока» — фактически он поддерживал правящие репрессивные режимы или устанавливал таковые по своему усмотрению везде, где мог.
Центральное противоречие постсоветской эпохи по сравнению с большей частью XX, советского века остается в силе: независимо от того, насколько оправданными были эти амбиции, приманкой для многих стало отождествление русского и советского в остальном мире. Изучать русский часто означало выращивать в себе идеологию нового, справедливого и передового общества. Вот почему делегитимация языка как носителя коммунистической идеологии вынуждает некоторых прибегать к неожиданным изоляционистским проектам — попыткам представить русский язык как окно в закрытый «русский мир». Эта попытка осуществляется на многих уровнях. Так, язык может быть рекрутирован на роль проводника «политического православия» и тех традиций, разложение которых застали революции 1905–1917 гг. С другой стороны, в российских регионах распространения ислама общим языком этой религии парадоксальным образом оказывается язык межнационального общения, каковым, например, в Дагестане является русский. Впрочем, национализация языка или попытка на новом витке привязать бывший «язык межнационального общения» к его предполагаемому домашнему этносу наносит, возможно, наиболее опасный удар по русскому языку. Искушению взять правильный, традиционный, восходящий к предполагаемым культурным ориентирам XIX в. язык и с его помощью вытеснить деревянный русский советский язык — с его словарем и мыслительными конструкциями — поддаются многие писатели и мыслители. Пример наиболее авторитетного проекта такого рода — «Словарь языкового расширения», составленный Александром Солженицыным. Чтобы понять, почему этот проект провалился — без всякого треска, просто утонул в болоте, — нужно посмотреть вокруг. Другой пример изоляционистского толка — попытка клерикализации обыденного языка, которая тоже началась еще в позднесоветское время: такие проявления многообразия, как религиозное мракобесие, кликушество и пустосвятство, в какие бы конфессиональные одежды они ни рядились, вышли из позднего СССР. На дрожжах традиционных религий, попавших в питательную среду позднесоветского парарелигиозного синкретизма и идеологии нетерпимости к «чужому», поднялось небывалое еще в истории России тесто. Здесь неожиданно вновь выпекаются герои Достоевского, здесь церковь наделяет себя репрессивными функциями, говорит на новом языке, который паства понимает по-своему, иррелигиозное светское общество по-своему, а иностранцы — по-своему. Но все слышат в нем угрозу, словно ожил Великий Инквизитор из «Братьев Карамазовых». Только одни радуются, что теперь, в кои-то веки, угрожать могут они сами, а другие — печалуются, что угроза пришла с такой неожиданной стороны — от адептов религии любви, покаяния и прощения. Дискурс «печалования» анализируется в единственной статье книги, построенной на анализе языка поэзии, — «Травматография логоса: язык травмы и деформации языка в постсоветской поэзии». Ее автор — Татьяна Вайзер — предлагает опыт двойной рефлексии над оригинальным и переводческим поэтическим творчеством в эпоху почти насильственного массового отторжения дискурса «травмы», «покаяния» и «очищения» как индивидуальных логических актов.
В этом контексте становятся понятнее особые трудности, с которыми сталкиваются авторы коллективной монографии, разбирающие текущую русскую языковую политику, а также государственную публичную политику сопредельных стран, реализуемую, хотя бы отчасти, на русском языке. Егор Панченко в статье «Языковая политика России и новостной дискурс государственных интернет-СМИ» обнаруживает истоки провала или, скорее, «небытия» такой политики в неготовности акторов этой политики принять новый медиум как принципиально раскрепощающий социокультурный институт. С другой стороны, и встречная тактика противостояния официозу обнаруживает концептуальные слабости, на которые обращают внимание Александра Архипова, Антон Сомин и Александра Шевелева, составившие в статье «Язык власти в языковой игре оппозиции» каталог риторических приемов, целиком (точнее, как теперь говорят, «чуть более чем целиком») принадлежащих предшествующей эпохе, хотя и использующих актуальный медиум.
Вообще контрастность новой медийной среды и постсоветского дискурса как в значительной степени антимодерного рефлексируется в коллективной монографии на разных уровнях. Русскую сеть в мире поддерживает не просто многомиллионная диаспора. Говорят, что большая часть грамотных пользователей русскоязычного сегмента Интернета даже находится за пределами России. Не будь Паутины, русскоязычные анклавы, возможно, давно утонули бы в иноязычном окружении. А отдельные фрагменты образования на русском языке, доставшиеся еще от советского времени, продолжают быть образцами для родителей, дедушек и бабушек с нормативным школьным опытом, словно оберегаемым от вторжения неудобной современности. Один из таких парадоксальных анклавов — феннороссы, описываемые в статье Екатерины Протасовой «Языковая ситуация в современной Финляндии и русский язык», — своеобразные инопланетяне, избегающие любых актуальных дебатов.
Одна из гипотез, которая могла бы объяснить скорость вторичного «одеревенения» русского в «постсоветском пространстве» и, одновременно, утраты им некоторых глобальных функций, — та, что языковая политика на протяжении почти целого века была политикой унификации, нивелировки и обслуживания государственного интереса — всякий раз нового. В самом начале советской фазы русской истории из повседневности вытеснялся и изгонялся язык церкви. В «12 стульях» И. Ильфа и Евг. Петрова этот процесс показан в фельетонном ключе. Другие авторы видели источники снижения уровня культуры в изменении этнокультурного состава аппарата власти. Рельефнее других этот ужас перед новыми хазарами и печенегами вылепил М. Булгаков, составивший коллаж нового хозяина русского языка из «наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросюка, профессоров Персикова и Португалова... и товарища Рабиновича». Из малограмотного говора великорусского простонародья и языка марксизма изваять что-то новое, по возможности «очищенное» от «южнорусского говора», «еврейского» и прочих «азиатских» акцентов, создать язык нового человека можно было, только внедряя представление о норме, обозримом стандарте, никому не дающем увернуться — ни вниз, в матерную преисподнюю языка, ни вверх, ни в сторону — в направлении постепенно стираемых диалектов. Метафору «куриной чумы», напавшей на Россию в первое пореволюционное десятилетие, или торжество языка зощенковского Назара Ильича господина Синебрюхова, героев Платонова можно трактовать как правдоподобное объяснение новой политики языкового строительства. Вот что вынудило советские власти сопровождать это языковое строительство параллельным «повышением культурного уровня». Сведения о возникшей в результате такого повышения-понижения сложной форме полиглоссии прорывались в литературу (от популярного рассказа Александра Яшина «Рычаги» до поэмы Венедикта Ерофеева «Москва–Петушки»), они и составили постсоветский дискурс критики советского языка. Если сейчас этот дискурс «не работает», то, возможно, как раз потому, что на «постсоветском пространстве» собственно лингвистические теории существуют в известной изоляции от теории политической. Антропологические последствия постсоветского тридцатилетия осмысливались без применения как раз тех современных лингвистических теорий, которые так продвинули философию языка в США, где фундаментальная теория языка и сознания позволяет развивать политическую критику как в первую очередь критику политического языка. И у Н. Хомского, и у Дж. Серля — если говорить только о живущих и активно участвующих в создании социальной теории философов-лингвистов — в России берут обычно только «лингвистику», считая политику и социальную действительность вообще делом не вполне научным или даже глупой блажью ученого человека. Коллективная монография завершается скрытым приглашением к такой теории — уже упомянутыми статьями Ингунн Лунде и Майкла Горэма, которые сами прямо никакой теории не предлагают, но зато демонстрируют важность теоретического фундирования даже для наблюдений над узкоспецифическим, почти экзотическим русским материалом.
Минуя государственную регуляцию, на культурных руинах советских речевых навыков и языковой политики складывается новая коммуникация. Школы больших городов страны не справляются с культурными последствиями иммиграции людей, не говорящих, не читающих и не пишущих по-русски. Новое русское койне пока, может быть, не очень заметно и вызывает лишь отдельные всплески привычного алармизма в блогах и почти никем не читаемых газетах и журналах. В этих условиях исследователям смежных дисциплин становится все яснее, что для понимания России и ее языка (языков) нужно как можно лучше понимать устройство современных российских СМИ, а также массмедиа сопредельных стран и особенно этнолингвополитического дискурса, обслуживающего в последние годы межгосударственный и межкультурный конфликт в русско-украинском языковом пограничье. В статьях Сергея Давыдова и Ольги Логуновой «Репрезентация ближнего зарубежья в информационных передачах ведущих российских телеканалов» и Евгении Ним «Язык и медиа в постсоветском Казахстане: “казахизация” vs “русификация”» хорошо прочитывается несколько сценариев постпостсоветского развития, один из которых предполагает фактический отказ от русского языка как эффективного познавательного и медийного инструмента. Редакционная работа над книгой подошла к концу, когда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул новую программу «трилингвальности» казахстанцев, во исполнение которой языком высшего образования, а тем самым — и фактического управления в стране мыслится сегодня не казахский и не русский, а английский язык: именно на этом языке предполагается вести преподавание всех предметов в 10–12 классах школ. Контраст с таким уходом из двух неродственных языков (казахского и русского) в один международный (английский) образует теоретическая модель в уже упомянутой статье Ксении Гусаровой, в которой показано взаимодействие русского языка познания и управления, с одной стороны, и украинской теории и практики построения нового постсоветского государства — с другой. Пока еще ни в самой России, ни за ее пределами нет общего понимания того, как же строить современное государство, которое, не являясь ни частью современной Российской Федерации, ни ее ассоциированным партнером, могло бы, тем не менее, оперировать русским языком как одним из ключевых инструментов государственного строительства. Однако предпосылки для такой новой функции русского языка — едва ли не впервые — обсуждаются в нашей монографии.
Незадолго до Первой мировой войны и до начала финальной стадии распада многонациональных империй — Оттоманской, Австро-Венгерской, Британской и Российской — в 1900 г. в Вене вышла книга австрийского дипломата графа Генриха Куденхове под названием «Изучая политику Австро-Венгрии» . Рассуждая о главном тогдашнем источнике беспокойства для своей страны, Куденхове, сын которого Рихард станет четверть века спустя идеологом панъевропейского движения, высказал предложение сделать русский язык... одним из государственных языков Австро-Венгерской империи. Так Вена, по мысли экстравагантного полиглота, одним ударом убила бы двух зайцев: подорвала влияние России и уничтожила на корню панславянское движение, раскачивавшее лодку «Какании». Так издевательски называла свою империю — K.u.K. — критически настроенная австро-венгерская интеллигенция. Спасаемая лодка развалилась, однако же, в 1918 г. На ее месте образовалось несколько государств, в том числе вполне славянских, но бесконечно далеких от панславянской солидарности. Русскому языку предстояло сначала спаять их силой танков Т-34 и автоматов Калашникова. А потом, когда наступила свобода и выводили из славянских стран уже и танки более новых моделей, и даже ракетные установки — все эти материальные инструменты, по Куденхове, мирового языка, — потом оказалось, что русский все-таки сохраняет некоторые важные признаки языка-посредника, по крайней мере — все еще желанного «языка цивилизации», или Cultursprache, как пишет Генрих Куденхове в своей книге.
По статистике 1900 г., английский язык был глобальным языком гигантской Британской империи. 100 миллионов говорили на нем как на родном, 300 миллионов владели им в мире свободно. В Европе немецкий язык был на втором месте: на нем говорили 80 миллионов — всего на 20 миллионов меньше, чем сейчас, через 60 лет после Второй мировой войны! Предлагая австрийцам равняться на британцев, Куденхове сравнивал тогда русский язык с урду в британских заморских владениях. Русский, язык, на котором говорят 120 миллионов между Карпатами и Тихим океаном, Ледовитым океаном и Афганистаном, нужно было насаждать, считал он, еще и потому, что владение им как вторым родным совершенно «безопасно» для немцев, а вот остальных славян он заставил бы отказаться и от идеи общеславянской культурной самобытности, и от мечты о политическом суверенитете «смехотворных карликовых наций».
Читая Куденхове, физически ощущаешь, что свой родной язык он воспринимает как коллективную политическую личность, некое лицо. Главный враг этого лица — британцы с их всепроникающим английским. А вот русский можно, думал Куденхове в 1900 г., попробовать развернуть и против его собственной метрополии — Петербурга, и против младших славянских братьев, превратить в «мировой» язык. Только не скрепляющий политически огромную Россию, а обслуживающий малые враждующие народы, которые стали бы неспособны сопротивляться германскому гению.
Можно сказать, что такие химеры сознания поражают реалистичностью многих оценок, но только если брать эти оценки по отдельности. Да, балтийские немцы свободно говорили на русском как на родном. Но из этой среды мог появиться и какой-нибудь Розенберг, автор «Мифа двадцатого столетия». И наоборот: русский министр иностранных дел Нессельроде мог так до конца дней и не выучиться по-русски, но сорок лет оставаться самым настоящим русским министром, проводником, как недавно у нас писали, махровой русской самодержавной шовинистической политики. Язык не является коллективной политической личностью, и злоупотребление им как инструментом политического или административного влияния сулит огромные неприятности в первую очередь тем, чьи интересы хочет защитить политтехнолог в духе старшего Куденхове или британских колониальных администраторов, оставивших на Индостане и вокруг него целый букет этноязыковых и религиозных конфликтов. Наша книга — для тех, кто не боится думать о языке.
И сейчас, в фазе выхода из «постсоветского пространства», или последнего отрезка имперского пути, тонкая материя переживания соседства с неродственными миноритарными языками России и родственно-неродственными государственными языками бывших колоний, переживание утраты прежних функций и обретения не всегда желанных новых, — вся эта (пере)настройка режима политики и коммуникации остается захватывающим предметом для исследования.