Детские рисунки
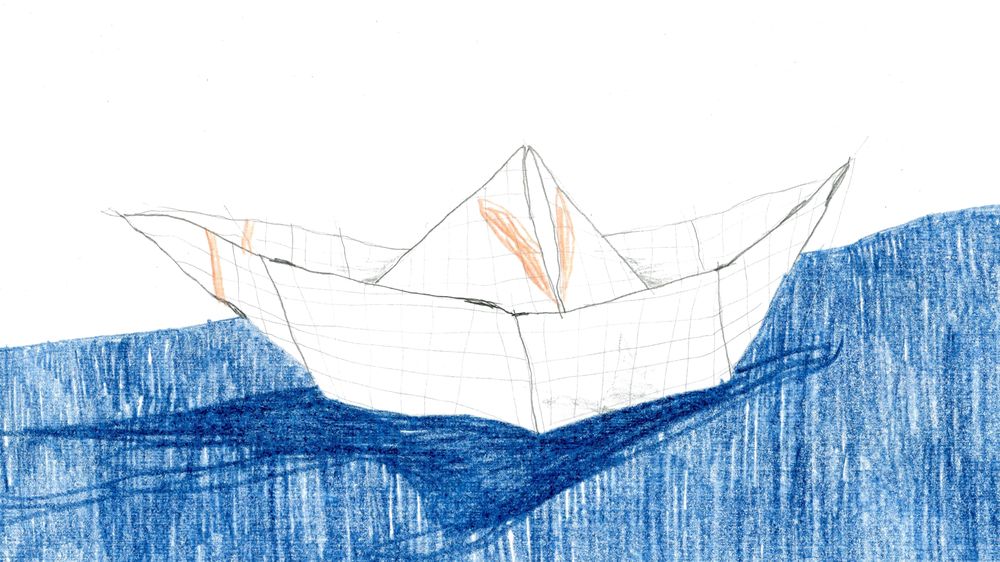
Обрывки воспоминаний не дают Юно жить спокойно: вот кудрявая девочка в детском саду дарит ему открытку; вот он ищет её в школе, но не находит; вот уже повзрослевшая Эльза не узнаёт влюблённого в неё героя, отказывает ему и вступает в отношения с его лучшим другом. Возмужавший Юно досконально анализирует свои детские чувства, безуспешно пытаясь заглушить их, пока вновь не встречает её.
В поэтической прозе Вячеслава Волженко, полной искусных аллитераций и ассонансов, всё не так, как может показаться на первый взгляд. Интерактивная новелла «Детские рисунки» — навеки застывшая многогранная картина, части которой, как у Пруста, пульсируют эмоциями, а подсказки о том, как взаимодействовать с произведением, прячутся между её строк. Ирреальные, сновидческие события смешиваются в повести с реальностью, а сюжет замыкается, образуя кольцо детской, базисной мысли новеллы: «Кого любил однажды, того будешь любить всегда».
Рисунок первый
— Ну ты чего…
Малютка фактически врос в материнскую ножку.
— Юно, ты присоединишься к нам?
— Мы сейчас.
Шапочка мелированных волос цвета мокрого камня отдыхала на голове пестуньи, которая, в свой черед, осклабившись, созерцала зарисовку, воплощаемую крошкой и мамочкой. Высунувшись из-за корпуса воспитательницы, пьеску подсматривал десяток безбилетников. Массовка миниатюрных шкафчиков притаилась по обе стороны арьерсцены. Один из статистов лакомился сапфировыми колготками. На краю авансцены прилунилась с булавочную иголку туфелька, бликами лака посылающая сигналы бедствия.
Стан мамочки склонился в сторону малыша, заставив велюровую кофточку еле заметно оголить поясницу. Облепила ладонями щечки мальчика. Большой палец подцепил слезку, настраивавшуюся на прыжок с ресничной вышки.
— Я же не навсегда ухожу, Ю.
На лобик мальчика осел мокрый поцелуй.
— Ну иди, тебя все ждут.
Малютка исполнил пол пируэта на двух ногах, поддавшись нажиму мамочкиных пальцев. Финальный толчок — малыш поплелся в сторону пестуньи.
— А вот и он. Давай-ка, иди сюда.
Нянюшка добилась своего. Меланжевый пуловер улыбается складками живота.
Секундный оборот крошки фиксирует в памяти утренний облик матери. Антрацитовые джинсы-клеш, наша знакомка из малинового велюра, выступы изящных ботильонов. Заспанные янтарные глаза, кукольный ромбик лица со скошенным низким лбом, осторожная черточка рта, обрамленная по обе стороны медовыми припухлостями. Этот расплывающийся образ мальчик будет лелеять до самого вечера.
Малыш переступил порог детской арестантской. Декорации сменились: палас, напоминающий деревянный срез, сибаритствует на полу; радужные пуфики небрежно рассыпаны, будто только что брошенные кости; на стене принт ожившего солнца. Кружок маленьких людей сидит за пончиком стола. В дырке пончика циркулярный спектр ножек. Потолочная люстра воззрилась на оружейный барабан, сформированный вытянутыми черепушками и пышкой.
Малютка обращает взор на последний вакантный стульчик. Девочка, оккупировавшая смежную камору, чуть сдала назад. Кудряшка вырвалась из-под гнета резинки. Мальчик еще ничего не понимает.
Ожившее солнце триумфально улыбается.
***
— И-и-и…
Пальцы воспитательницы грузно опустились на клавиши.
Светит солнышко для всех,
Чтоб звенел веселый смех,
Детвора не плакала.
Два махоньких тельца контактируют в трех местах. Плечико мальчика стукнулось раз-другой о плечико девочки, деликатно отрикошетив, точно муха, порывающаяся вылететь в закрытое оконце. Локотки почасту встречаются, робко соприкасаясь, подобно неискушенным любовникам. Мизинчик девочки едва дрогнул по вине вспышки легкого удара тока, отправленной наэлектризованным мизинцем мальчика.
Светит солнышко для всех,
Чтоб звенел веселый смех,
Светит одинаково.
***
Несколько слов о характеристиках трассы, которая с 19… года принимает этапы Игрушечной Формулы 1. В гонке пилотам предстоит проехать десять метров вдоль карликового заборчика, покрытого растрескавшейся нефритовой краской. Двенадцать зон торможения, износ тормозов — средний. Солнце клонится к закату, температура воздуха — -8°C, температура чугуна — -10°C. Одинокий гонщик уже на стартовой решетке… Загораются стартовые огни светофора… Старт!

Мальчик резво пустился вдоль заборчика, сопровождая свой кросс характерными звуками заезда. Игрушечный алый болид звонко лязгает, испытывая на себе всю ухабистость покрытия.
Мама все не приходила.
— Юно.
Болид вылетел за пределы трассы, врезался в защитный барьер ботинка, запутавшись в паутине шнурка. Владелец самостоятельно вернул болид в боксы, сунув машинку в карман.
— На.
Девочка вложила в руку гонщика сложенный вдвое листик.
Внутри сердечко, смахивающее скорее на перо копья, неоднородно заштрихованное, с сосудиками фломастерных нажимов. Сердечко взяла в кольцо виньетка из невнятных каракуль. Неумышленно оставленный грифельный отпечаток маячит в уголке открытки.
— Эльзочка, ты идешь?
Двум маленьким людям померещилось размытое пятно пестуньи.
— Сейчас, ба.
Неподвластный взору мотылек порхнул с губ девочки и спарашютировал на щеку мальчика.
— Иду.
Потрусила в сторону пятна.
Гонщик, оцепенев, поглаживает мотылька.
— Ба, а у тебя есть конфеты?
Кашлянула.
— Есть, но сначала вот это.
В руке сверкнула серебристая плитка пилюль от кашля.
— Ну ба-а-а…
Солнце окончательно простилось с землею.
Мама все не приходила.
***
— Дорогой, капюшон.
Мальчик послушно покрыл голову.
Полусонный создатель опять капризничает: разворотил постель и хнычет. Еще и солнечный светильник зашвырнул черт знает куда. Одеяло туманом улеглось на небесную твердь. Редкие слезки создателя низвергаются наземь в виде дождя.
Мальчик языком словил одну из слезок, вскинул глаза на мать. Точь-в-точь кошечка. Копна карамельных волос облегает лицо, в глазах из солнечного камня пылает небосвод. Букетик молочных ирисов припал к груди.
— Первые классы, пожалуйста, заходим, не толкаемся.
Ну вот, растормошили муравейник.
Услышав клич, поток больших и маленьких людей хлынул по направлению ко входу.
Значительного размера рюкзаки трутся друг о друга, осколки букетиков под ногами образуют цветочное месиво. Большие люди пренебрежительно брыкаются, пытаясь продвинуть своих отпрысков. Праздник — это когда всем некомфортно, ведь так?
Мальчик и мамочка тоже двинулись в путь.
У самого входа группка здешних стреляных воробьев. Старшеклассники. Болтают, риторически вглядываясь в пустоту. На лицах следы ненормальной, преждевременной, постыдной и заслуженной старости.
— Первые классы, все зашли?
Мальчик и мамочка замыкали процессию вошедших.
— Малыш, мне дальше нельзя.
Мальчик все понимает.
— Вон твой класс.
Горбатая старуха-надзирательница держит табличку с номером и первой буквой страны происхождения заключенных. На шее цепочка с двумя лупами очков в роговой оправе. Вязаный жилет болтается на плоском теле. В ногах роятся цуганги.
— Ю… Юно, здесь Юно?
— Ну давай, беги.
Мать всучила мальчику ирисы, чмокнула. Тот, прижав к себе букетик, засеменил к надзирательнице.
— Так, вроде все в сборе. Ладно, детки, пойдемте.
Гусеница заключенных взяла курс на общую камеру.
Свидания с новоприбывшими ожидает начальница тюрьмы, дежурящая у комнаты заключения. Светотень обличает в ней крысу, обмазанную слоем штукатурки. Маленькие узники гуськом заходят в камеру, расставаясь со своими букетиками. Начальница устало принимает подношения.
— Следующий.
Наконец последний букетик унесся к цветочной свалке.
Все маленькие цуганги заняли свои койко-места.
Теперича можно и торжественную речь.
— Детки, труд освобождает.
Укрывшись экзоскелетом невнимания от пафоса напутственных слов, мальчик думал о девочке. Её нет. Он не видел её сегодня. Её нет.
Сосед мальчика также занимался мысленным дайвингом. Выглядел он довольно курьезно. Будто Давида пытались втиснуть в воздушный шарик. Ежик каштановых волос, зародыш будущего орлиного носа.
Он внезапно вынырнул.
— Привет, я Вик.
***
Мечтатели до самой могилы будут как в темном лесу.
Вечерняя вуаль обнаруживает оконных светлячков.
Юноша наматывает круги вокруг дома девушки.
Пошел на третий.
Жаждет встретить её.
Хоть раз.
Был же на другом конце города.
Уже слишком поздно: пройдена точка невозврата, ущерб нанесен.
Опять свернул не туда.
Это происходит независимо от меня, независимо от тебя.
Финишировал, занял скамейку.
Сквозь окно сочится солнце.
Звезда, что связывает юношескую систему.
Моргнул.
Свет.
Еще раз моргнул.
Все равно свет.
Мы так счастливы служить
тебе.
***
— Я недавно думал о своей любви к матери.
Яркий летний день. Юноша по имени Юно и юноша по имени Вик совершают променад. Вокруг юношей словесный ореол: девушки, любовь, посвящение в юношеский сан, отец, мать, конец близок, летние деньки.
— Иногда мне кажется, что я её не люблю.
Прошли мимо художника, располагавшегося на портативном складном стульчике. Играет в гляделки с мольбертом. На мольберте деревья, излишне пластиковые, газон, чрезмерно полипропиленовый, небо, преувеличенно джинсовое. Две фигуры — монохромная женщина в кружевном чепчике и девочка-малютка с ажурным летним зонтиком в руках — дожидаются, затаив дыхание, дальнейших действий художника.
— Люблю, но не так, как в детстве. Я как бы должен любить.
Юноша по имени Юно перебирал в памяти все обличия матери. Велюр. Карамель. Кошечка. Да, кошечка.
— Все еще думаешь о ней?
Неожиданно глазные радары юноши по имени Юно засекли неопознанный шагающий объект. Она. Как с неба свалилась. Спешит куда-то.
Ежели бы тот живописец, которого миновали юноши, имел возможность написать её портрет, он изобразил бы море. Руки стали бы волнами, а пальцы — прибоем. Водораздел пробора разлучал бы кудрявые бассейны, направляя сток прядей по двум противоположным склонам. Молода и прекрасна.
— Забудь, вы были детьми. Это не…
Последние слова юноши по имени Вик были адресованы пучку воздуха, ибо его товарищ уже крутился около неопознанного объекта женского пола.
— Привет, это ты?
Юноша по имени Юно был готов позволить девушке поглотить себя. Его любовь перелилась через край и выстрелила из груди огненным шаром. Но девушка абсорбировала удар юношеской страсти. Потухший огарок сферы умчался восвояси.
— Слушай, мне сейчас некогда говорить. Еще увидимся.
И была такова.
Её слова горчат.
А может и не было ничего между ними? Не было того стульчика, той песенки, той открытки. Ах, они же были детьми, ну-ну. Время всегда пытается оправдаться.
Юноша по имени Вик подошел к сызнова овдовевшему товарищу.
— Это кто был?
Она.
Я знаю, солнце, покидая сад, должно еще раз оглянуться из-за охваченных зарей оград.
Но она не оглянулась.
***
Старики выстроились в два ряда на аппельплаце. У каждого в руке шарик с солнечной мордочкой. Из синхронно распахивающихся уст струится реквием. Анвайзерка и лагерьэльтестер покачиваются в такт.
Юноша по имени Юно поддакивает в унисон. На юноше рябчик чернильного галстука и жемчужной сорочки. Глазные радары удят женские взоры.
Она.
Почему она здесь.
Траектории взглядов юноши и девушки волею судеб находят точку соприкосновения. Пальцы юноши на мгновение теряют бдительность — шарик с солнечной мордочкой улетает в небо.
Почему она здесь.
***
Парень в легкой вельветовой куртке и черной водолазке с несоразмерно высоким воротом-горловиной поддерживает беспризорный светильник посреди многолюдного проспекта. Гоняет взад-вперед табачный дым. Нижняя челюсть дрожит, как в лихорадке. Снежные лохмотья отмечают пшеничный вельвет темными маркировками.
Вибрация входящего звонка в правом кармане куртки. Порывистое фрикционное движение. Большой палец касается экрана. Голос старого друга.
— Ю… Ю… Слышишь меня? Ты там как?
Парень разглядывает сайдинг левой ладони. Холод оставил на натянутой карте кожи малюсенькие пленочки.
— Может, увидимся на выходных?
Клочок снега обуздал пыл сигареты, приземлившись на устье оной. Другой клочок склонил к покраснению острие носа сигаретного собственника.
— Кстати, ты же не против, если с нами будет Эльза?
Какая Эльза.
— Да-а-а… Я тебе не говорил… Мы…
Всепокорнейший раб был казнен. Голубь перенесся на чужой подоконник. Мисс Машина не вышла на контакт.
Парень научится жить без девушки.
Она сделается одеждой, дряхлеющей в удаленном закутке шкафа. Она станет пылью, брезгливо стертой с плоскости полки. Она окажется скованной льдом водной артерией.
Парень подпалил безучастный недокурок.
В бюро «Жизнь» работают одни идиоты.
Девочка уходит, мальчик остается жить.
Рисунок второй
— Сигаретки не будет?
Пузатый голиаф с красным лицом явно не рассчитывал на отказ.
— А огоньку?
Черт, ты кусаешь кормящую руку.
Гигант расплылся в сальной улыбке и растворился в воздухе.
Ритмично стрекоча, ко мне приближался замызганный снегоуборщик. Удерживавший машину чухан был похож одновременно и на пожилого семьянина, спокойно подстригающего газон перед своим домиком, и на римского императора, авантажно въезжающего на колеснице в свои владения. Снегоуборщик, абсолютно не церемонясь, плевался в меня снегом. Октавиан Август будто и не замечал этого, вперив свой тупой взор в никуда. Детина, заполучивший мои огонь и сигарету, похихикивал в сторонке. Оказалось, он растворился недостаточно хорошо. Спустя несколько минут я был уже полностью покрыт снежной шубой. Закадровый смех.
Стоп. Нет. Все было совсем не так.
Стоял ноябрь-декабрь-январь такого-то года. Действие разворачивалось отнюдь не в одном из всеми любимых сентиментальных романов и не в одном из произведений Бориса Виана. Все было гораздо прозаичнее. Я сидел на скамейке и ждал Вика. На тот момент все мое мировоззрение состояло в том, что многие люди просто не способны красиво курить. Многие сейчас закатили глаза. А что? Курение, как бы его не приземляли, не обесценивали, является, все-таки, вещью эстетической. Следовало бы запретить некрасиво курить на законодательном уровне. Мне отчетливо представился быт некоего полицейского государства. Вот государственный персонал забивает дубинками несчастного замухрышку, отчаянно вопящего и отплевывающегося от собственного безжизненного бычка, о котором добросовестные служители закона то и дело напоминают его физиономии. А вот и я, безумный диктатор, властно вышагивающий на трибуну. В пальто. В длинном кожаном пальто с воротником. Ну и, конечно, найдется какой-нибудь альтруистишка, который будет прятать нарушителей у себя на чердаке.
Я углубился в недра своего капюшона. Вик опаздывал. Я внимательно смотрел на большую дыру, вставленную в землю, выход из подземного перехода, чтобы не пропустить прибытие моего друга. Друга. Вик был наделен чертами одной из скульптур Микеланджело, за исключением предательски вылетающего вперед орлиного носа. Он никак не был связан со временем: для него всегда был первый год, первый год от его рождения. Он стабильно не задерживался ни на одной работе больше одного дня. Возможно, он был просто слабаком. Как-то раз я зашел к нему, а он, потонув в собственных слезах, признался мне, что принял с утра снотворное, не знает сколько, много, и все еще ожидает своей смерти. Я ударил его так сильно, как только мог, а потом позвонил в скорую. Вик выкарабкался. Таким, как он, всегда везет. Вик не был робким, но и не был активным любовником. Он называл девочек женщинами, а женщин — девочками, тем самым угождая и тем и другим. Мне нравилась его преданность. Мне нравился ход его мыслей. Мне нравилось наблюдать за ним, когда он был пьян. Он превращался в неуправляемую машину всеобъемлющей любви. В общем, он был моим другом.
Дыра продолжала выплевывать людей, среди которых я не находил того самого, нужного мне. Почему, в принципе, судьбе так сложно свести двух человек? В момент прогулки, наиболее подходящего действа для упоения собственным одиночеством, мы никогда не встретим того, кого по-настоящему желаем видеть. В бюро «Жизнь» работают одни идиоты.
Вик появился из входа в пустоту. Он шел, щеголяя этими ужасными напомаженными ботинками, как я их ненавидел; его клюв нещадно кромсал воздух, а руки были чуть за спиной.
За ним из портала вылезла особа, каждый сантиметр которой я знал настолько досконально, что мое собственное тело нервно курило в стороне, с завистью покусывая губы. И что она в нем нашла. Эльза. Её имя. Имя. Будто верная наседка, я взрастил, выкормил Имя, укачивая его в колыбели моего сердца. Я будил его по утрам и убаюкивал по вечерам. Каждый день я отпускал его, но Имя, разумеется, всегда возвращалось. Представьте себе испуг матери, как бы она в один день не обнаружила своего младенца в люльке. И я был обречен на это. Всем птенцам свойственно выпорхнуть из гнезд. И вот я уже мчал-плыл в мареве чужих имен, но все тщетно: я просто не мог их различить. Каждый раз, замечая знакомые И, М или Я, я кидался на абсолютно незнакомое мне имя, сверля его бешеным, умоляющим взглядом. Их соглядатаи отгоняли меня, а я все упирался, словно малыш, пытающийся сдвинуть с места собственного отца. Тысячелетия потратил я на поиски, бегая как белка в колесе сансары, снова и снова проживая один и тот же день. Я потерял его.
Это было много лет назад.
Разве мог я помыслить о том, что спустя столь долгий срок обнаружу Имя. Уже смутно мне помнится момент нашей встречи, но новый облик моего Имени из памяти способен вырвать теперь разве что сам создатель. Имя тогда звали Эльзой.
Эльза не узнала меня. Как впоследствии выяснилось, ей не суждено было вспомнить меня уже никогда.
Девушка моих снов, девушка моих кошмаров.
Кудрявые волосы Эльзы были плотно заперты в сером кашне. Бесформенное пальто было полностью отдано на растерзание ненасытному ветру. Стройные ножки были равномерно надкусаны внушительными берцами. Мои глаза вдруг поскользнулись и упали прямиком в объятия её томных очей. Зачем, зачем… Кто-то щелкнул пальцами, и я моментально очутился в стайерском коридоре. Двери, прилепленные на стенки коридора, выстроились в шеренгу, будто ожидая моей команды. Я приоткрыл одну из них. Передо мной предстал мой собственный силуэт, отдыхающий на полу таинственной комнаты, а затем, собственно, и его владелец. Перед Вторым-мной в воздухе висело облако, отдаленно напоминающее человека, девушку. Второй-я завороженно уставился на него, утонув в гипнозе человеческого облака. До моего уха доносился легкий шепот, изрыгаемый девушкой. Я отлично знал, что сейчас произойдет. Второй-я бросился на облако. Человек и человеческое облако сплелись в едином порыве, на мгновение став одним целым, на миг познав плоть друг друга. В один момент все закончилось: голоса умолкли, облачная девушка падала на пол. Раз. Второй-я стоял на коленях и изучал тектоническую структуру паркета. Два. Столкновения уже было не избежать. Локоть облачной девушки встретился с паркетом, издав первый звоночек зарождающегося взрыва. Три. Хлопок.
Я закрыл дверь.
Осев на пол, я жадно пытался вобрать в себя весь коридорный воздух. Последнее свидание. Хоть и пребывая в роли невинного свидетеля, я снова сделал это, я во второй раз умертвил свою любовь. С кончиков моих пальцев стекали невидимые капельки облачной крови. Героическим порывом заставив себя подняться, я плелся по чертовому коридору, аритмично пошатываясь. Меня трясло. Коридор вибрировал, казалось, потешаясь надо мной, трясясь в беззвучном хохоте. Я ввалился в первую попавшуюся дверь.
Хоронили облачную девушку. Второй-я, в легкой вельветовой курточке, укутывающей черную водолазку с несоразмерно высоким воротом-горловиной, стоял, вкопанный в землю, склонившись над пустым гробом. Обесдушенный, полый, я уже более ничего не чувствовал, это я помню отчетливо. Экзотического вида певчий-арлекин подошел ко Второму-мне и сообщил о скором начале гражданской панихиды. Второй-я ни одним мускулом не обнаружил свое присутствие или свое понимание. Я только сейчас заметил, что кроме моего двойника перед гробом никого не было. Арлекин затянул свою траурную песню.
Эти здания угнетают меня,
Я чувствую касание их холодных рук…
Незримый чревовещатель убаюкивал меня, разнимая мою голову и способность к самообладанию. По моим глазам постукивали десятки крошечных клювиков. Второй-я вдруг упал набок. Арлекин продолжал.
А затем медленно исчезнем...
По глазам уже явно прохаживались ножом. Меня бросало из стороны в сторону от града неразличимых ударов. Второй-я сменил позу, оказавшись теперь на спине. Арлекин оторвался от земли.
Треснувшие яйца, полумертвые птенцы
Кричат, цепляясь за жизнь.
Я чувствую смерть, я вижу её глаза-бусинки…
Певчий уже парил в метре над землей. Второй-я что-то горланил, лежа на спине, вкладываясь всеми членами в каждый свой выкрик. В правый глаз упала ядерная боеголовка. Ядерный гриб в теле слезы поднялся к одному из уголков моего рта.
Окунись душой в любовь.
Все исчезло.
Я выпал из двери.
Мое тело, истерзанное и разбитое, прислонилось к коридорной стенке. Запрокинув голову, я открыл рот, чтобы дать выйти ненужным отложениям моей памяти. Всему приходит конец. Время разрушает все.
Кто-то теребил мою левую ногу. Черт, Вик. Я выбрался из коридора, я снова здесь. Эльза вопросительно смотрела на меня. Как же она хороша. Эльза. Призрак её имени будет преследовать меня еще очень долго. Словно крошечная пчелка, я буду перелетать с цветка на цветок, но, по какой-то причине, буду постоянно оказываться на одном и том же. Я буду знать еще многих Эльз. Океан жизни будет подсылать мне их, этих бездушных фантомов, так похожих на оригинал. Но ничего от моего Имени в этих Эльзах не будет.
Вик дал мне легкий подзатыльник и обозвал меня моей фамилией. Закадровый смех. Эльза смеялась. Ей так не шел смех. Я дал им понять, что со мной все в порядке. Мы, наконец, обнялись.
— Так куда мы идем?
Рисунок третий
Бескровный, опалый лик, оснащенный двумя мешками утраченного времени под глазами, следил за мной из лужи зеркала.
Да отвяжись ты.
Сердце, словно барабанщик-юнец, выколачивало неопытный ритм, то и дело сбиваясь, абсолютно игнорируя метроном. Мне вдруг стало смешно до чертиков. Мой рацион в последнее время был преступно правилен. На завтрак я ел невесомый овощной салат с растительным маслом, заедая его паровым омлетом. Обед мой состоял из вегетарианского супа, зачастую с последующим поглощением тушеного мяса и картофеля. Последние пару дней овощные голубцы являлись моим ужином. К каждой трапезе приплюсовывался слабый чай или вода. На ночь мне был уготован стакан кефира. Ежедневное потребление сигарет сократилось до половины пачки. Пил я только тогда, когда от меня настойчиво требовали исполнения данной бесславной процедуры.
Всегда болен, но никогда не умирает. Так ведь говорят.
У человека есть имманентное свойство — позыв к рационализации иррационального. Выбери из строя лекарей любого, и даже зеленый аспирантик объявит, зардевшись, что я обречен нести крест ипохондрии. Они не способны взять в толк, что каждый сегмент моего тела запряжен в волнообразный рельефный экипаж. Стоило одной из секций хоть сколько-нибудь потерять бдительность, предавшись блаженной неге, держатель экипажа обрушивал на нее электрические импульсы невидимого кнута.
Эльза и Вик, должно быть, совсем заждались. Зачем он её привел.
Стенки уборной пульсировали, однако я не мог сказать, что зал крошечной забегаловки в центре города хоть чуточку басил. Место моего уединения было почти полностью покрыто манускриптами бесфамильных авторов, непризнанных при их жизни в данном заведении. Теперь же, благодаря этим бесценным рукописям, я мог совершенно определенно заявить, что некий В. лишил девственности унитаз за второй дверцей.
Очернить, одерьмить. Легион пал, легат не принимал более никаких решений по удалению варварских нечистот со стен ватерклозета. Да и что он мог сделать. Неотесанные дикари, голодные до порока, будут и дальше украшать светилами небесный свод. Круговорот скверны в природе. Дерьмо к дерьму, грязь к грязи. Ты взят от дерьма и должен снова стать им.
Интересно, сколько должно пройти времени, прежде чем Эльза и Вик заподозрят неладное.
Из-за третьей дверцы рассеяно высунулся один из моих случайный соседей. Его глазки, обежав уборную, споткнулись о незнакомца, обозрев его, и побежали дальше. Наконец владелец глазок вышел из кабинки, располагавшейся визави с моей спиной. Увидев, как он выжидательно смотрит на умывальник, я поспешно ретировался, предоставив ему право изучать местную летопись в полном уединении.
В скромной зале преобладал туман цвета темного индиго. Занятые столики являли собой незатейливую шахматную задачку. Капельку не дотянув до центра доски, столкнулись лицом к лицу две пешки различного окраса. Она была в кремовом полушубке, он — в смоляном пуховике. Недвижимая парочка плавно потягивала коктейли. На парочку, облокотившись на стойку бара, взирал ферзь цвета воронова крыла. Внимание ферзя вынуждено было покидать чету из-за науськиваний гарсона, частенько подбегавшего к кафедре. Местный шериф, брат визиря, подпирая стену, властно восседал на ободранном табурете на другом конце доски. Почти подле нас расположились три шахматные единицы: близняшки, каждая из которых заигрывала с гарсоном, пока другая отвернется, и нелепого вида паренек, вынужденный за их играми наблюдать. Конгломерат же нашего столика включал в себя двух королей и одного пиона. Кто из нас был королем, кто был главным на доске, а кто был гвардейцем, не считавшимся и за фигуру, бросившимся на амбразуру в надежде записать свое имя на гранках истории? Я не знаю.
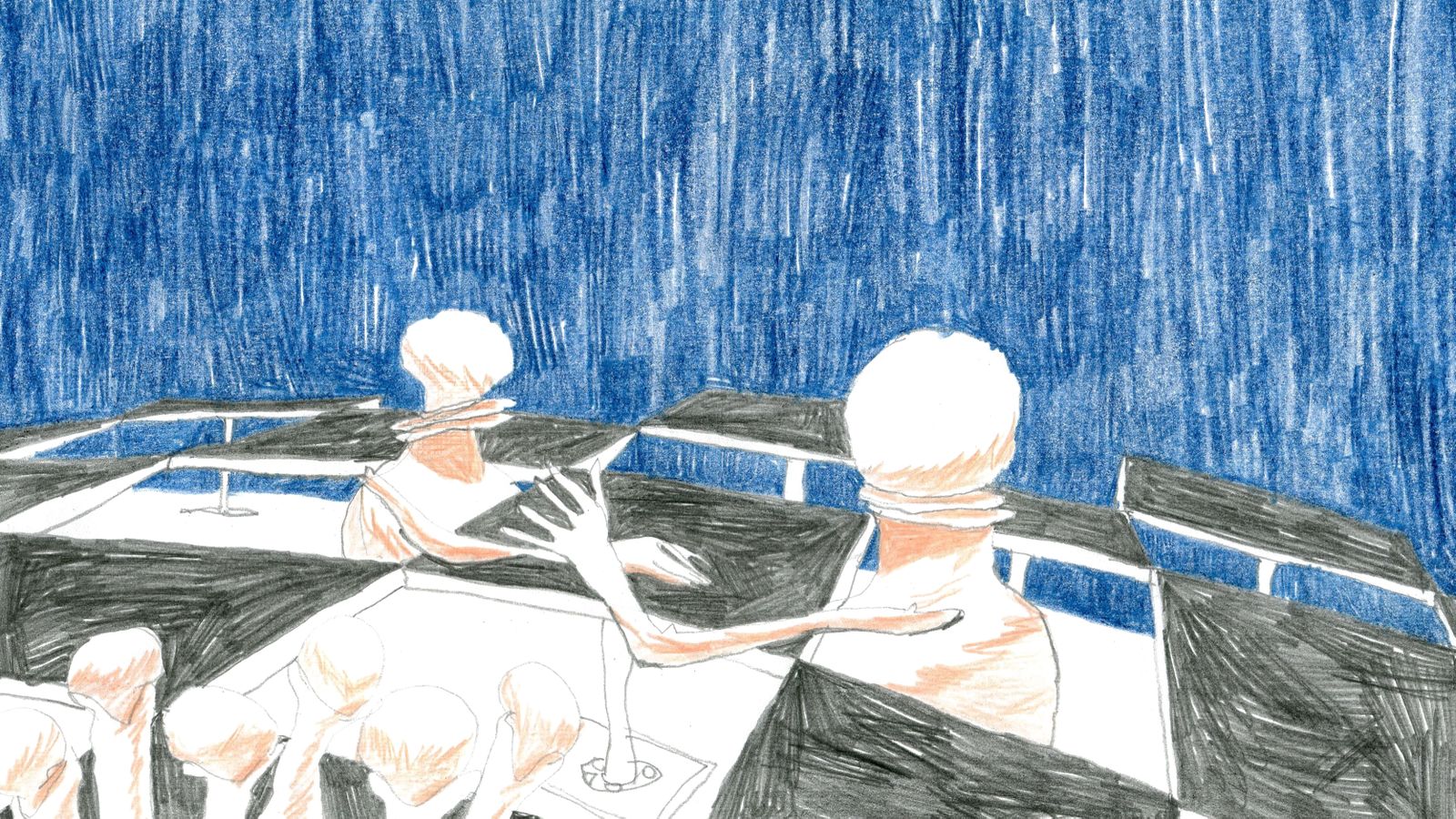
Я обрел свой стул.
Из уст Эльзы сочился рассказ. Что-то из Кафки. Однажды утром, проснувшись после беспокойного сна, человек по имени В. (Не наш ли знакомый?) внезапно обнаружил, что превратился в бога… Розовый луч не соприкасался с его оком, что однако не препятствовало его претензии на истинное знание. Будучи отщепенцем, он обнаруживал за собой повадки особ аристократического происхождения, предавался раздумьям о будущем становлении и вводе войск собственного разума в некоторое абстрактное царство тьмы. Бедный Вертер, он и не подозревал, что единственное царство, которое его ожидает — полтора метра вглубь да метр вширь. Он был одним из конкурсантов тендера, лотом которого являлась Эльза.
— Как-то подошел ко мне и…
Прекрати, я не хочу слушать.
Телевизор, ухватившись за стену, показывал приторное кино о сверхлюдях.
«Мне твоя свадьба всегда представлялась на вершине холма.»
Ферзь за стойкой поставил мат в один ход члену нашего столика.
— Никогда не встречал, мол, такую…
Взял салфетку. Начал мять под столом.
Ферзь, потеряв интерес к партии, отодвинулся на клетку назад. Визирь на другом конце зала засопел.
«А кто жених?»
Вик нечаянно двинул стол. Хабарик выпрыгнул из пепельницы. Я посадил его обратно. Не шали.
«Ты еще не решила.»
— И все такое, в общем…
Брат ферзя за стойкой удалился на перекур. Несуразный паренек, что при двойняшках, почесал к обители одиночества, обнаружив недюжинный интерес к туземной хронике.
— Ну я выслушала его, нельзя же сразу…
Салфетка в пыль. Твою ж. Скрыть, а то заметят. В карман.
«Я уже не пустое место.»
— А он стоит и смотрит…
«Я изменился. Рань меня, и кровь потечет.»
— Ушла, а он так и…
Бедный Вертер. Теперь он обрел власть над своим телом и умолк.
Эльза кончила свою исповедь. Все вздохнули. Заговорили о кино.
— Я не люблю альманахи, но РоГоПаГ…
РоГоПаГ. ЭльЮВи.
Рука перемешала мощи салфетки, покоящиеся на дне кармана. Бокал, бездействующий около уголка локтя, осаждал меня просьбами прильнуть к одной из граней. Я был не против. Периферийное щебетание диалога Эльзы и Вика не проникало сквозь барьер задурманенной выпивкой головы.
— …, — подала Эльза.
— …, — принял Вик.
Эльза распасовывала превосходно. Вик же скорее вторил, чем конфронтировал. Партия продолжалась безбожно долго. Ни слова о политике. Спарринг-партнер Вика систематически отпивала из картонного стаканчика, аппетитно покачивая ножкой. Паренек вернулся за столик. Парочка уходит. Я бы тоже. Ферзь привстал. А брат где?
— А после ужина можно секс.
— Ну Вик!
Я представил, как он берет её, как одеяния пленницы спадают под натиском его взора, как вулканчики его поцелуев извергаются на её теле.
Никакая сила более не могла удержать меня в этой беседе.
Эльза подглядывала сквозь решетку пальцев. Меня обдало вихрем, посланным ею. Укутался, чтобы не продуло. Только не снова. Ладошки медленно отлипают, открывая личико. Часы с кукушкой, а язычок — маятник.
«Не пора ли кому-нибудь спасти твою жизнь?»
Я отвел Вика в сторону. Нас обогнула парочка, державшая курс на выход из забегаловки. Я поведал ему о своем закулисном желании удалиться.
— Подожди, мы тоже пойдем.
Я не хочу.
Распахнул бородатый платяной шкаф, стянул с вешалки пыльную отговорку, вложил Вику в голову. Благо, он не продолжил допрос и пустился в обратный путь.
Я бросил прощальный взгляд на Эльзу. Царапает зубочисткой по столу. Вик открывает рот, дабы уведомить её о моем побеге. Я выскользнул. В патио, покусывая копеечную электронную сигарету, сидит брат визиря. Чета здесь же, свили себе гнездышко на скамье, ласкаются.
Предохранившись капельками наушников от проникновения внешнего мира, я побрел к ближайшей станции метро.
Рисунок четвертый
«Следующая станция — …»
Выводок моего судна утек в подземный коридор. Стою, игнорирую превентивное уведомление на двери вагона. Недосчитался рассудка, заплутавшего средь отрешенных мыслей. Как привлекателен этот упоительный бред. Хотя через хмельной комарник все чаще проникают мошки здравомыслия. Вылезть из своего ничтожного картонного мирка и вновь укорять действительность. Да пошла она к черту.
Погруженное в сон метро. Логово ночных животных. Контактный зоопарк. В хвосте вагона две самки гиены в вульгарнейших пятнистых пуховиках с кожаными вставками разбирают по косточкам какого-то безымянного беднягу. Близ меня, взаимно обвившись, милуются два ленивца. Насупротив ленивцев, застыв в позе роденовского героя, старается слиться с антуражем престарелый геккон.
На общем фоне я, пожалуй, слегка бью в глаза своим безразличием.
Многоопытный муж, который долго скитался с тех пор, как разрушил священную Трою.
Подземка избавляет от бесплодных раздумий. От раздумий в принципе. Сотрудники разума распущены, остались лишь чувственные призраки. Никаких попыток примириться с социальной материей. Просто созерцание зверушек.
«…»
Самка ночной обезьяны плавной поступью поднялась на борт.
«Следующая станция — …»
Население зверинца неодобрительно осматривает новоприбывший экспонат. Сам образец притулился в противоположном от меня углу. Заприметила. Батиковый платочек, обернутый вокруг головы, несколько округляет личико. Сладкая парочка пепельных завитков обосновалась на лобике. В косах прекрасных — богиня ужасная с речью людскою. Вытянула из сумочки книжонку. Э.М. Маркер, как ты будоражишь неокрепшие женские сердца.
Я отвернулся.
Так мне противен этот снисходительный взгляд поверх декоративных очков-авиаторов. Не зафиксировать в этих глазах крика о помощи землянина, познавшего отчаяние. Несчастная простушка. Только приотвори ларец, а та, устрашенная, уже предлагает ложе разделить с ней.
Почтенного возраста геккон подполз к дверному проему. Старец слепой, провидец, которого ум сохранился. Извлек из аспидной дубленки сигаретную бумагу и сверточек с вишневым табаком, начал скручивать. Пальцы паучком носятся по рисовому обрывку, косматая платиновая борода чуть колыхается.
Тут он стремительно поворотил голову, раскрыв мое невольное шпионство. Протянул мне папиросу.
Мне бы не самокрутку, а вопросить геккона фивского душу.
Гиены загоготали. Веко одного из ленивцев машинально дрогнуло.
Главное — рассматривать экземпляры с безопасного расстояния.
Чем они живут? Удалось ли им вытянуть счастливый номер во вселенском лото? Подошла ли им перчатка любви? Как скоро к ним постучится смерть?
Одна из гиен ощутила на себе бур моих очей. Надо полагать, что именно она возглавляет стаю. Самец её находится в подчиненном положении. Последний раз она питала к нему нежные чувства еще до потопа, предпочтя соблазном посланный одр своего начальника пылающей страсти мужа. Уйдет из жизни она, скорее всего, до неприличия покойно.
«…»
Геккон, прорицания не дав, удалился в обитель Аида. Гиены юркнули за ним. Обезьянка силится сладить самое меньшее с одной страничкой, непрестанно изменяя положение своих зениц.
Что это.
В вагон вскочила ангельской красоты белая пантера. Незамедлительно плюхнулась на одно из сидений. Начала бойко распутывать рулон шарфика цвета розовой гвоздики. Одним движением смахнула кашемировую шапку. Вместе с тем импульсивность её манипуляций отличалась поразительной плавностью.
Обратила внимание на меня. Искусительница.
В который раз я был насильно брошен на арену для боя с хищником. Несчастный бестиарий. Руку мою не снабдили копьем, сердце мое обнажено.
О, соблазнительница, принеси мне в дар свою половину, чтобы я был полон. Позволь мне смеяться, дабы я мог плакать. Дай мне жить, чтобы я мог умереть. О какой автаркии может идти речь? До скончания веков я буду глядеть из твоих рук. Я бы всем пожертвовал, чтобы приручить это животное.
Но моя любовь не придет за тобой. Кто, по незнанью приблизившись к тебе, твой голос услышит, тот не вернется домой никогда. Звонкою песнью своею очаруешь, сидя на мягком лугу. Вокруг же огромные тлеют груды костей человечьих, обтянутых сморщенной кожей.
«Следующая станция — …»
Отцепившись от своего мужчины, самка ленивца принялась верещать. Голос у нее был препротивный, переслащенный. Самец же обладал бархатным баритоном.
Являясь бесстрастным свидетелем их разговора, я ловил его нотки.
— Тево?
— Жвачка есть у тебя?
— Сейтяс.
Порыскала в портмоне.
— На.
— Сэнк ю.
Рука, качающая колыбель, правит миром. Чушь. Миром правят жевательная резинка и табак.
Обезьянка окончательно отказалась от идеи испробовать литературные прелести. Раздраженно скинула очки-авиаторы, хлопнула книгой, побросала все в яму сумочки. Норовя схоронить свой конфуз, она приняла бесконечно сосредоточенный вид. Уголок моего рта непроизвольно пополз вверх.
— Краснеют на холоде.
— Они у тебя и сейчас красные.
Самец ласково ухватил самку за щечку.
Последний жилец опьянения, уже собиравшийся выселиться, споткнулся, выходя, о порог моей слезной железы. Я интенсивно заморгал, один-два раза шмыгнув носом. Неизведанный вкус счастья. Жизнь пролетает впустую. Настанет ли тот день, когда завершатся мои поиски подходящей перчатки?
«…»
Пантера воспрянула. В момент настоящей вспышки я углядел, что шейку её заключал в объятия серебряный кулончик. Если б только этой ночью я мог попасть под действие нетленных чар, я с охотой бы простился с человеческим обличием. Мое Я оделось бы в серебро и украсило бы шею пантеры-чаровницы.
Нет, она не пантера. Наличествуют в её порывистости зернышки робости, что не уловить простым глазом. Поместить бы на предметный столик данную особь и в темпе ларго постигать её суть. Куколка-балеринка. Покрутилась вокруг поручня. Пружинка своенравно брыкнулась — куколка пропала. Финал арабеска.
Идиот.
За борт. Скорее.
«Следующая станция — …»
Идиот.
Фантом куколки рассеялся, как дым, в мираже станции. Мне оставалось лишь поклевывать носом резиновую дверную прослойку.
Заместо примы метро презентовало мне двух ветхих мегер. Милая старушка, высушенные пальцы которой окаменели на чешской авоське, приютилась на спинах моих стоп. Как у щенка молодого, звучит её голос. Сама же — злобное чудище. Нет никого, кто б, её увидавши, радость почувствовал в сердце, — хоть если бы бог с ней столкнулся. Её спутница, натурально божий одуванчик, взгромоздилась на мои плечи.
Мне ныне все едино.
Дотерпеть. Одно лишь спасение в бегстве.
«…»
Берега родной Итаки. Стряхнул с себя мегер, высадился, покинул ублиет.
А ночь столь враждебна, ни на крошечку не нежна. И никак не уберечься от влияний сего мутного суррогатного мирка из надежд и неона. Тучи, замазанные заводным смрадом, рискнут выдать себя за кудри некогда любимой девушки. Окна, поблескивающие сквозь шнуровку деревьев, будут бередить старые раны, злонамеренно подмигивая Её глазами. Инкрустированный редкими лужами асфальт окажется зеркальным лабиринтом.
В каждой подворотне подкарауливает одиночество. Потребно мне приобрести кастет. Или выпить. Водка, ЛСД, капелька неосознанной влюбленности, если есть, — все в один бокал. Взболтать, но не смешивать. Хотя смешать сам бог велел.
Почитай, я уже под своей смоковницей: знакомец-фасад ощерился макулезными зубами. Забежал в гастроном неподалеку. Прошелся вдоль полок, остановил свой выбор на грушевидном сосуде. Теперь на кассу.
— Молодой человек, вы видели время?
Дьяволица, ты обрекаешь меня на обделенную сном ночь. Безропотно снести приговор, пропасть из виду. Домой, домой. Подъезд, лифт, дверь квартиры. Возможно ли отыскать ключи. Пожертвовав остатком сил, надавил на пуговку звонка. Спустя век во входной рамке обозначился приятельский контур.
— Тебе хорошо?
Потешается.
Я вторгся в квартиру, гневно оттолкнув соседушку.
— Дурацкое занятие твой Вик.
Как и все остальное… Как и все остальное…
Рисунок пятый
— Ю-ю-ю…
Сей пряный шепоток. Даже боязно открывать глаза.
— Ты не спишь, я же вижу.
Неведомый палящий организм навис надо мною. Прядью щекочет губной желобок. Волосок-отшельник с любопытством заглянул в слезное озеро, распечатав конверт века правого глаза.
Как парадоксально: Эльза колоризованная, а все прочее как детская раскраска по номерам. Дюжина исполинских вишенок-близнецов цвета 6 и 7 придают красоту поплиновому пододеяльнику цвета 1. Вырез пододеяльника демонстрирует кассетное одеяло в сатине цвета 2. На каркас самой кровати долженствует нанести 4-ю и 5-ю краски.
А окромя спасательной шлюпки постели и нет ничего.
— Проснулся наконец, соня.
Выше моих сил было дифференцировать возраст Эльзы. То предо мной сидело прелестное пятилетнее дитя, миловидно наматывающее кудряшку на указательный пальчик, то юная дева нарочито статно восседала прямо под моей рукой.
Почему она навещает меня исключительно в этой многострадальной ромашковой тунике? Навещает. Несомненен тот факт, что я болен, болен безнадежно.
Почему ты здесь.
— Ты знаешь.
Ты уйдешь.
— Я должна.
Сняла с туники ромашку, возложила на мою грудь. Последний гостинец, принесенный ею в госпиталь.
Нечего и думать о том, чтобы подвязать крылья духу разлагающегося сна. Зачем тешить лежащего на смертном одре напрасными надеждами на выздоровление? Дать уйти, даровать свободу ускользающему сновидению. В забытьи лишь лекарство.
Но как предать забвению чувство, что снедало изнутри столь длительное время?
В ухо вонзился нож SMS-уведомления, без зазрения совести сломав остов моей дремоты. Вик, ну какого черта? Яростно забросил телефон в изножье кровати. А в голове, наложив оковы на здравомыслие, обживается лезвие электронного письма.
У Иисуса было два отца. Почему у Эльзы не может быть двух молодых людей?
Идиот.
Меня мутило от сочленения запаха тамбура плацкартного вагона и ножа в моей голове. Уселся, свесил ноги. Соната ночи едва только приступила к переходу от разработки к репризе. Дотошные воздушные потоки, облизав все поверхности, избавляют меня от тончайшего потного плена.
Моя комнатка. Именно с нее Ван Гог писал свою «Спальню в Арле». Правда, в моей каморке отсутствовал столик с умывальными принадлежностями, но это дозволено списать на умопомешательство автора. У ножки кровати извивается уж зарядки от телефона, нашедший пристанище в пятачке розетки. На васильковой «стене плача» устроилась чета фоторамок: моя мать, неслучайно оказавшаяся главной героиней уистлеровской «Аранжировки в сером и черном №1», навеки заспиртовалась в одном из обрамлений; к стеклу другой рамки прижался засушенный лепесток кончающейся сердечной склонности — открытка Эльзы.
Вытянувшись в струнку, я отодрал от бетона открытку, ослепив на секунду червяка-гвоздика; зашвырнул её под кровать. Легче не стало. Выудил мобильный из хитросплетений пододеяльника. Оказывается, Вика волновало мое эмоциональное состояние. По-прежнему способен пустить слезу во время кинопросмотра, спасибо.
Расправив непомерную вишенку подле руки, я отправил фрегат телефона обратно в поплиновый бассейн, поднялся, пошаркал к окну. Большой брат луны не спускает матового глаза с мирка-вассала. Я застрял в бесконечном цикле года тринадцати лун.
На кухне металлически грохнуло. Только поднеси шприц испуга к продезинфицированной коже, а в голову уже лезет вздор всевозможных мастей. Леви. Не спит. Что ж, будет на кого переложить терновый венец инсомнии. Не припомню, чтобы Леви вообще когда-нибудь спал. По всему вероятию, под покровом ночи он трансформировался в бездушный, проклятый автомат, чья жизнь не обусловлена чувствами.
Я потащился на камбуз.
Забавно иногда посудачить с такими людьми, как Леви. Комплекция его напоминала телосложение лягушки, вставшей на дыбы. Лицо его регулярно изменяло собственное агрегатное состояние. Осока волос же, напротив, сохраняла из года в год первозданный вид. Леви являлся моим бывшим коллегой. Именно он дал мне приют, когда я был изгнан из общины работников ресторана быстрого питания. Однако присутствовали и в его голове паразиты, претившие мне. Наглухо затворена была дверь его герметичного микромира из догм и произведений писателей бит-поколения. Не найти ростку эволюции путь в данном закрытом космосе. Из-за этого утопия нашей дружбы ограничивалась весьма лаконичными вечерними разговорчиками.
Малогабаритная кухня освещалась сугубо лунным сиянием, сулящим каждому вошедшему роль в нуаре. Леви, катастрофически накренившись, водил пальцем по планшетному компьютеру. Венский столик кофейного оттенка заслонял шедевр Спаланцани.
Учуяв присутствие инородного тела, он поднял голову, оценил меня опытным взглядом физиолога, вынес вердикт.
— Принимали гостей, да?
Где Гибарян?
Увертюра диалога заставила меня хмыкнуть.
— И кто у тебя был?
Она.
— А-а-а… Конфетка!
Перенуарил.
— Сколько можно думать о ней, а?
Счастье в рабстве, дорогуша.
Я ни капли не желал придавать окрас естественности нашему балаканью.
— Мазохист.
Он вторично отдался во власть планшета. Я тем временем нашел применение эмалированному чайнику, усадив его на плиту.
Чего ты там печатаешь?
— Да мне табель надо закончить.
Что есть идеал мужчины? Пчелка, прислуживающая матке социума? Продуктивный, практичный, полезный. Не пьющий чересчур много, соблюдающий режим, принимающий здоровую пищу. Прагматичная шестеренка фиктивного механизма. Он отдает предпочтение, а не страстно любит. Каждый будний день он участвуют в сражении за некий мифический эквивалент. Он счастлив присутствовать на маскараде подопытных обезьянок. Это идеальный мужчина?
Чайник принялся ушераздирающе свистеть. Я прихваткой освободил его от перцового пластыря газовой плиты, заполнил бушующей жидкостью термокружку с воздушным змеем чайного пакетика внутри.
— Дина передает тебе привет.
И ей привет. Кстати, что у вас там?
— Да-а-а… Ничего. Встречались сегодня.
Леви не был тронут рукой любви, что не мешало ему считать себя теоретиком оной. Боже, как мне было жаль Дину, безрезультатно барабанящую по гермозатвору сего информированного относительно амурных дел мужа. Дина была из тех безупречных девушек, с которыми вы бы никогда не стали встречаться. Создатель изрядно пересыпал маскулинности, когда вылепливал её, что, однако, не служило помехой изящности, имманентной женскому началу. Досадно, что она попала в капкан по имени Леви.
Я вынул балласт чайного пакетика из кружки, отпил. Лик Леви перешел в недовольное агрегатное состояние.
Ты чего?
— Слушай, я так устал от всего этого.
Хоть раз подумай не только о себе.
— Тебе ли мне советы давать, однолюб-одиночка?
Может, я и один, но уж никак не одинок. Подумал я. А на деле послал его.
Рисунок шестой
Дина. Леви, мне плохо.
Леви. (ядовито улыбаясь). В этом мире жить невозможно, но больше негде.
Дина. Но я люблю тебя. Что мне прикажешь с этим делать?
Леви. Откуда я знаю? Я ученый. Чистый ученый. Убери свою любовь отсюда, и дело с концом. Не собираюсь я больше об нее зрение мозолить, и точка.
Их разговоры должно быть выглядят именно так Чертов битник Ублюдок Бедная Дина Диночка И почему меня это должно заботить Я же однолюб-одиночка Эту мразь и не разубедишь ни в жизни Белоснежная улыбка вот его главный аргумент Ублюдок Однажды я сорвусь Однажды Не вспомню что он дал мне крышу над головой И не подумаю вспоминать
Я с сердцем дернул дверь, вышибив из нее дух. Обрушился ничком на кровать. Та, будто бы высеченная из желе, податливо прогнулась.
Дина.
Я бы хотел любить её.
Есть женщина. Она живет лишь для того, чтобы быть отвергнутой. Неведомая гравитация тянет её дух вниз. Это как лекарство для всех этих ублюдков вокруг.
Для ублюдка.
Дина искала страданий и находила их.
Мое плечо вдруг обнаружило в слоях постели ископаемое мобильного.
3:39.
Набрать ей? Что может быть проще. Всего лишь одиннадцать кратких туше. И еще одно касание вдогонку. Поначалу ей будет белый свет не мил. Но со временем мы научились бы терпеть друг друга, может даже вошли бы во вкус. И завершилось бы мое долгое прощание с Эльзой. Бесконечный конец.
Первый гудок. Второй гудок.
Сбросил.
Нет. Я не должен. Не-е-е дол… Да и что бы я ей сказал.
— Ю? Привет. Что ты хотел?
Да, привет. Мы можем поговорить немного?
— Ну-у-у… Да. О чем?
Почему он.
— Я…
Скажи правду, прошу.
— Ты не понимаешь. Со мной он другой…
Ты права, я не понимаю.
Не понимаю, почему ты выбрала не меня.
Все мы любим не тех. На первых порах.
Дина, ты великолепна, ты знаешь?
— Ты так считаешь?
Я так считаю.
— Только немного одержимая, да?
Немного безумная.
— Ох, Ю, я больше не могу. Я не выдержу.
Стоп. Пора заканчивать этот воображаемый флирт.
Интересно, а каким был бы интимный разговор с Эльзой? Не умею представить. Совершенно не умею.
Это все потому что она из других Иногда думаешь что к каждому можно подобрать ключик Просто стоит ли А к ней нет В её случае эволюция пошла по другому пути И теперь мы так различны В ней нет этой обезьяны не способной расстаться с менталитетом далеких предков Она Мисс Машина Она другая Контакт невозможен Половой тем более А я Я и не искал свое отражение Своего двойника Я с ума сходил по ней Просто растерял все шпильки Она и глазом не повела когда я умирал Не в моей власти было сойти с креста Иисус и тот не смог а уж я Даже создатель облачился в траур тогда А она Она из других И даже когда я был ребенком Имел ли я хоть малейшее представление о любви А она все знала Уже в те годы Она никогда не подмигивала мне Она другая
Раздается звонок.
Эльза. Ты спишь?
Юно. Зачем ты звонишь?
Эльза. Ой, ладно. Забудь.
Юно. Стой. Скажи.
Пауза.
Затем разъединение.
Юно. Дерьмо.
Даже её тульпа мне неподвластна. Она из других.
К черту её.
Прочь.
Рисунок седьмой
4:01.
Я ожидаю.
Изможденная осень. Нет, молоденькая весна.
Опять ждать тебя. Ангела Божия.
Я шел сюда и курил. Смертный феникс сигареты. Одет не по погоде. Сплотил лацканы пальто. Один. Под куполом мрачного неба. Дородность дня или сумрак вечера? Нет времени додумывать окружающий пейзаж. Пусть все будет так, как было сегодня. И еще пару хрестоматийных мазков здесь и тут. Детишки кружатся вокруг собаки. Девочка и мальчик. Брат и сестра. Любоваться. И ожидать. Ни единый отзвук не долетит до моего уха. Мое ухо далеко от всего этого.
Вот сейчас ты появишься. Из дырки в асфальте. Неопрятный джинсовый макинтош, потертые черные штаны, напомаженные ботинки. Весь ты. Ты схватишь мою пясть и потянешь к себе, вымогая объятие. Ты будешь молчать. Ни одной глупой шутки. Я так хочу.
Вик, теперь ты тоже под моим пятым океаном. Иди со мной.
И мы будем говорить, будем много говорить. Я начну.
Где сегодня работал?
— Не спрашивай.
Потом ты что-то промямлишь про свою новую подружку. Эльзу, кажется.
Следует ли мне быть au courant? Никогда не слышал ни о какой Эльзе.
Мы обязательно углубимся в безвозвратное. Хотя стоит ли так грубо обзывать её? Сей феномен. Эталон. Единственная вещь, в которой все еще можно быть уверенным. Память, не говори. Хоть однажды промолчи.
— Ты помнишь Любовь?
Способен ли я забывать.
Стать и власть. Налет угасающей красоты на бледном лице. Будто умственно неполноценный водил по нему карандашом времени. Эти морщины, способные выбить из колеи неподготовленного зрителя. Но лишь неловко брошенный взгляд. И пазл складывается. Такова была Любовь.
Затем я вдруг различу твой силуэт в одном из закоулков. Как бы по нечаянности. Будто и не мыслил о тебе. Не ведал, что ты будешь именно там, именно в тот момент времени. Сколько дней мы прожили бок о бок, я и ты. Две параллельные. Два гроба. Два океана.
Параллельных прямых не существует. Мы пересекались ранее, разве ты не помнишь? Как мы любили тогда. Ты сопровождала меня в моих прогулках, ела за моим столом, спала в моей постели.
Нет, переиграть.
Мы уже встречались, вы знаете? В предыдущих сериях моей жизни.
— Да?
Это было в январе, декабре, две недели назад, вчера, всю жизнь.
Вы совсем не помните.
Переиграть, переиграть.
Меня зовут Юно.
— Коллин.
В миру Коллин. Для меня она будет Коко. Кокетка. Колокольчик. Рококо.
Она улыбается мне. Только мне. Хрупкая, оделась в кольца прошлого фатума. Размытые черты, ни одного острого уголка.
Забери, прошу, забери все трофеи моей суетной, пустой жизни!
Я никогда не говорил с тобой. Тебя нет.
Ты будешь такой, какой я захочу.
Рисунок восьмой
4:23.
Сигаретный ожог. Необходимо заменить катушку.
Квартирка, пропитанная дамским амбре. Здесь сколько ни трави легкие, одежда будет пахнуть исключительно туалетной водой.
Свеча моего тела проникает во внутренности ароматической лампы.
Её фигурка помещается на крохотном половичке. Обнаженная. Сидит у телефона с дисковым номеронабирателем. Ножки сведены бабочкой. Играет в настольную игру с голосом из трубки.
Ты прикоснешься ко мне? Отвори свое сердце. Я вернулся домой.
Бесшумно прокрадусь на кухню.
— Эй, Ю.
От тебя ничего не утаить.
Ты выйдешь ко мне. Уже одетая. Моя футболка достает тебе до колен.
— Эй, you.
Прижму к себе мягкое тельце, продержав чуть дольше положенного.
— Hey you.
Пьяненькая моя. Пальчики поглаживают роман М.Пруста. Гений Пруста — это произведения Пруста. Пуст ли Пруст вне своих произведений?
— Ну привет.
Ты так доступна. Я презираю и обожаю все в тебе. Твои пепельные завитки. Округлое личико. Деспотичный огонь в глазках.
— Долго еще твои сигареты будут у меня?
Найти забвение на твоих губах.
Коллин, ты станешь моим солнцем?
Смеешься.
— Ты читал когда-нибудь Маркера?
***
4:42.
Сигнал окончания части. Включается второй проектор.
Ювелирный магазинчик. Хранилище сорванных звезд.
Я захожу медленно. Я знаю твой отдел. Рожден из пламени, алого, как кровь, тайком крадусь в твою спальню. Ты все ближе ко мне, отбрасываешь тень на небеса.
Коко.
Стоит спиной ко мне. Факир, приручивший рулон шарфика цвета розовой гвоздики.
— Что ты здесь делаешь?
Я должен сказать тебе кое-что. Я хочу изучить твои сны. Я хочу извлечь из тебя эту робость и вылить её на себя. Я хочу наблюдать за твоим превращением.
А вдруг кто-то другой усадит тебя на предметное стекло и оборвет твои крылышки? Как бы я тогда собрал обломки твоей ускользающей красоты? Я ведь не смог бы больше дотронуться до твоего великолепия, обратившегося в пыль.
Я буду защищать тебя.
— Видишь вон ту женщину?
Ну.
— Если я не буду говорить с потенциальными клиентами…
Ну хорошо, расскажи мне о здешней продукции.
Она опьяняюще улыбнулась. Она улыбалась только мне.
— Посмотрите на этот великолепный серебряный кулон с кубическими циркониями…
***
4:50.
Еще одна черная точка в правом верхнем углу.
— Куда это ты смотришь?
Она ничуть не злится. Так, забавляется.
Дорогая, сидящий на диете имеет право изучить меню.
Мы выходили из зала. Французское fin намертво вросло в наши спины.
Она совсем не изменилась. Та же вольная кудряшка, те же поигрывающие сладостным блеском глаза, тот же внезапный смех, что ей так не идет.
— Слушай, у меня есть кое-что для тебя.
И за что ты мне.
— Держи.
Открытка. Сердечко, смахивающее на перо копья. Виньетка из невнятных каракуль. Грифельный отпечаток.
Я — узник своего разума. Я знаю, ты пыталась спасти меня. Но теперь, пожалуйста, беги далеко, как можно дальше от меня.
Ты навеки будешь всем в моем ничто.
— Ю?
Коллин, ты помнишь день, когда мы познакомились?
Рисунок девятый
Sol. Соль. Кажется, кто-то взаправду добавил лавандовую соль в мою импровизированную ванночку колоссальных размеров. Bath salts. Нет, ванночка определенно не имела ничего общего с синтетикой. Её создатель явно корпел над ней не один век, изо дня в день оттачивая каждую грань этого огромного бассейна. Рябящая маджентовая пелена осела над воображаемым океаном. Мои члены со всех сторон, кроме головы, облегали кудрявые волосы. И где он нашел столько.
Кудряво-волосяная масса размеренно дышала, раскачивая меня на своих волнах.
Вдруг взошло солнце. Два солнца. Огромные гипертрофированные солнца, словно шары для боулинга, выкатились из глазниц. Вращаясь по своим, известным только им двоим, причудливым орбитам, солнца вдруг замедлили свой ход, установив взор на горизонте бескрайнего резервуара. Я увидел её. Она шла, такая грациозная, в этом несчастном платьишке с миниатюрными ромашками, шагала, казалось, всему миру на зло. Содержимое ванночки трепетно сковывалось, покорно стелясь под её ногами. Её тень делала дымку фиолетовой, даже пурпурной. Её волосы, кудрявые, будто бы она окунула голову в начинку резервуара и забыла смыть, мирно колыхались на несуществующем ветру. Платьице рассеивало на её пути крошечные цветочные дары.
Пытаясь подплыть к ней, следуя по ромашковому следу, я вдруг получил смачную затрещину от собственного либидо. Интригующая ложбинка на её спине указывала на складку, врезавшуюся аккурат между двух, так волнующих мужчин, округлостей. Неровности платья только придавали шарм её изгибам.
Я был уже около неё. Так близко. Ступив на твердую почву, я одернул её. Мне в руки упал безжизненный манекен. Отпрянув, не без толики отвращения, я отбросил манекен. Разверзнувшись, океан принял в себя тело, о котором я грезил еще пару минут назад. Почти полностью опустившись в бездну, манекен подмигнул мне. Я ошарашенно стоял, наблюдая за этим фантастическим актом. Тем временем содержимое ванночки будто бы боролось с внутренним недугом: волосяная масса стала уменьшаться, а на поверхность всплывали сотни, тысячи одинаковых манекенов. Затем океан вздыбился, образуя огромную воронку. Из воронки высунулась голова грандиозных размеров. Это была настоящая Она. Я все еще пытался собрать себя воедино. Потом мы смотрели друг на друга. Перед нашими глазами проплывала вечность, проплывали незначительные люди и их незначительные жизни, проплывали разрушенные города, разваленные империи, проплывал бог. Она вдруг начала смеяться. Пурпурный дым, скользнув змеей по её шее, начал нежно обволакивать её черты, которым так не шел смех. Оловянный солдатик, случайно упавший в лужу и забытый навсегда. Может и я смогу забыть её. Прощайте глаза, когда-то поигрывающие сладостным блеском. Прощайте губы, некогда дрожащие, а ныне брошенные, потрескавшиеся. Прощай и ты, резной носик. Прощай, моя богиня. Мое солнце. Sol моей жизни. Прощай.
Рисунок десятый
Удав пурпурной дымки уже полностью заключил Её в объятия кокона из равномерной световой вуали. Она более не смеялась, а избыточно длительная реверберация обратила миновавшие раскаты в неприятный гул.
Я сделал неловкий шажок в сторону кладезя знаний по имени Эльза. Кудряво-волосяной океан, углядев мое побуждение, мгновенно обмяк, принудив меня вновь облачиться в купальный костюм. И вот опять я раскачивался на волнах размеренно дышащей массы.
Тут кто-то безо всяких предисловий выкрутил ручку громкости на абсолютный ноль.
Словно в предвкушении чего-то, я продолжал бдительно курировать голову грандиозных размеров, стараясь не пропустить ни малейшей модификации оной. От моего внимания не могло ускользнуть то, что маджентовый змей окончательно затормозил. Более того, чешуйки его тлеющей кожи пошли мельчайшими сколами.
Неожиданно, обессмертив свое сияние в моих глазах, прогремел афонический взрыв.
Сквозь пленку ослепления, то и дело спотыкаясь о кочки век, мой взор пытался добраться до Её головы. Оказалось, во рту Эльзы взошли сотни тысяч солнц. Её плач, воззвав к перепачканным тушью небесам, породил фантастический дождь из реликвий. На океан, исполняя в воздухе изощренный реверанс, осыпались вещи той, молодым человеком которой мне так хотелось стать. Десятки бесформенных пальто вигоневым одеялом накрывали начинку резервуара. Внушительные берцы, некогда надкусывавшие стройные ножки, грузно обрушивались в бездну, с глухим отзвуком ударяясь о дно из неизвестного материала. Вещи эти сохранили в собственных складках прикосновение Её рук, Её соскальзывающие вздохи, букет Её парфюма. Легион имя того числа, в котором заключено количество частичек Её тела, увиденных ими. Ведь они видели все. Всю Её. С завистью и содроганием я дотрагиваюсь до них. Они одни были осведомлены о Её естестве. Все же остальные являлись только жалкими, неказистыми, мертворожденными инкубами, разбуженными от хронического сна вездесущей похотью.

Очередная реликвия совершила посадку на вертолетной площадке моей головы. Открытка, ожидаемо. А ведь данный клочок бумаги ведал об Эльзе еще менее моего, но, целиком и полностью противореча мирским законам, он заключал в себе, быть может, Её фактическую эссенцию. Эльза жила своей жизнью, но жила и открытка, которая была, вероятно, единственной вещью на свете, что могла бы оспорить подлинность действительности. Именно этот целлюлозный обрывок сделал Эльзу моей мечтою.
Я осмелился развернуть открытку. В ту же секунду, точно по мановению чудотворного жезла, все исчезло. Грандиозных размеров голова испарилась с лица импровизированной ванночки. Фиолетовая пелена бесследно растаяла. Все реликвии были стерты незримым ластиком. Сохранился лишь немой океан, продолжавший смиренно обеспечивать функционирование собственных поршней.
Потратив считанные секунды на изучение окрестностей, я усмотрел на другой стороне горизонта контуры нетривиального многоярусного торта. Любопытство, естественно, ухватив мое горло, потащило меня в сторону десерта.
Как выяснилось, это вовсе был не торт. Это был восхитительный, циклопического размера дворец, настоящий архитектурный шедевр Ренессанса. Одному создателю известно, каков был фундамент сего дворца, ибо стоял он на кудрявой почве, не выдавая себя ни даже самым незначительным движением. Оборонительные укрепления отсутствовали. Элегантная лестница-подкова свернулась калачиком у входа. Единственный купол венчало позолоченное сердце.
Покинув курчавую пучину, я ступил на территорию домена таинственного монарха. Взошел по ступеням каменной подковы, обделив поручни даже мимолетным поглаживанием, проник в покои. Как оказалось, дворец включал в себя лишь одну полую залу. На потолок была натянута зеркальная простыня, из единственной портретной рамки на меня смотрела Эльза. На девизной ленте поверх обрамления было высечено изречение:
«Кого любил однажды, того будешь любить всегда».
Рисунок одиннадцатый
— А-а-а… Как себя чувствуете, сэр?
Опять он потешается.
Ты вообще спишь когда-нибудь?
— На том свете отосплюсь.
Разумеется.
Кто-то определенно надругался над моим телом этой ночью. С величайшим трудом я перешагнул порог ванной комнаты, подставил голову под хромированный смеситель, безропотно принял оплеуху от потока холодной воды. Раз. Два. Рука нащупала вентиль. Три. Теперь на кухню.
— Ты будешь омлет? Я тебе оставил.
Да. То есть. Да.
— Тогда милости прошу…
Прекрати это. Мы не в театре.
— Ух какой. Ну ладно.
Автомат следует своей программе, отклониться он не может.
Но каков омлет.
— Кстати… Кстати.
Указующий перст Леви на короткий срок припарковался на воздушной стоянке.
— Дина скоро подойдет сюда, так что…
Указующий перст, покинув паркинг, уткнулся в мое колено.
Ага, понял.
Боже, как меня все-таки занимал этот омлет. А еще любовь. Но любви под рукой не было, потому приходилось довольствоваться только омлетом.
— Не беспокойся за нее.
Что?
— Не беспокойся. За. Нее.
Ты про Дину сейчас?
— В яблочко.
Мог ли я дать какой-то ответ или, быть может, отпор? Имел ли я на это право?
Я мысленно махнул рукой. Все одно всех рассудят бюрократы из «Жизни». Вновь сосредоточил внимание на тарелке.
— Поверь, я даю ей все, что она хочет.
Разумеется.
Вилка выдавила из себя еще пару поскрипываний, а затем пробил час высвобождения из щупалец этой дискомфортной беседы, ибо прием пищи был завершен. Я встал из-за стола.
Да, ты не знаешь, тут нельзя где-нибудь распечатать фотографию?
— Какой сейчас год, говоришь?
Вас понял, спасибо за омлет.
— Все для тебя.
***
— Давай только быстро, а то мне на работу пора.
Да, я… Кстати, где сегодня работаешь?
— Не спрашивай.
Забавно, ты сейчас…
— Ю-ю-ю.
А, да. Вик, знаешь, я был… Я был таким дураком.
— Так, это надолго. Ю, послушай меня, я тебе перезвоню после работы. Обязательно перезвоню. Или можем встретиться, если хочешь. А сейчас…
Вик, я понял.
— Ю, я надеюсь, ты не…
Вик. Вик.
— А?
Ты мой друг.
— Ю, слышишь, мы с тобой обязательно…
Вик. Пока.
— Давай, Ю.
Я проводил мобильный обратно во фланелевое жилище.
Суета.
Какой-то отполированный предмет добродушно вонзился в мою пятку. Рамка. Учтиво подал ей руку, бережно укрепил на червяке-гвоздике, сызнова сделав того слепцом.
Недурно было бы сегодня нанести визит Её дому.
— Эй, ты там скоро?
Иду.
Покидая владения бездушного автомата, я налетел на Дину, рука которой уже была на носу у пуговки звонка.
— Ох… Юно. Ты уходишь?
Коснулся её плеч на миг, дабы смягчить столкновение.
Да, Дина, я должен.
Улыбнулся. Сегодня я мог себе это позволить.
***
Мне искренне жаль тех несчастных, что отрицают существование любви. Вот же она, оставила след на свежем снегу, отпечаталась на сигаретном фильтре, мятой купюрой легла в ваш кошелек. Как, разве не видите? Присмотритесь. Носовой платок притаился на рассохшейся скамейке. Картонный стаканчик выставил всем напоказ следы от губной помады. Морщинистая салфетка старается скрыть недоеденные остатки ужина. Нет? Совсем ничего? Да ну вас.
Оседлав одного из покачивающихся зверушек, располагавшихся на детской площадке насупротив Её дома, я впился взглядом в то самое, вошедшее в мою историю окно. День расторопно вечерел, зажигая свечки окон, и Её иллюминатор не был исключением. Сквозь него сочилось солнце.
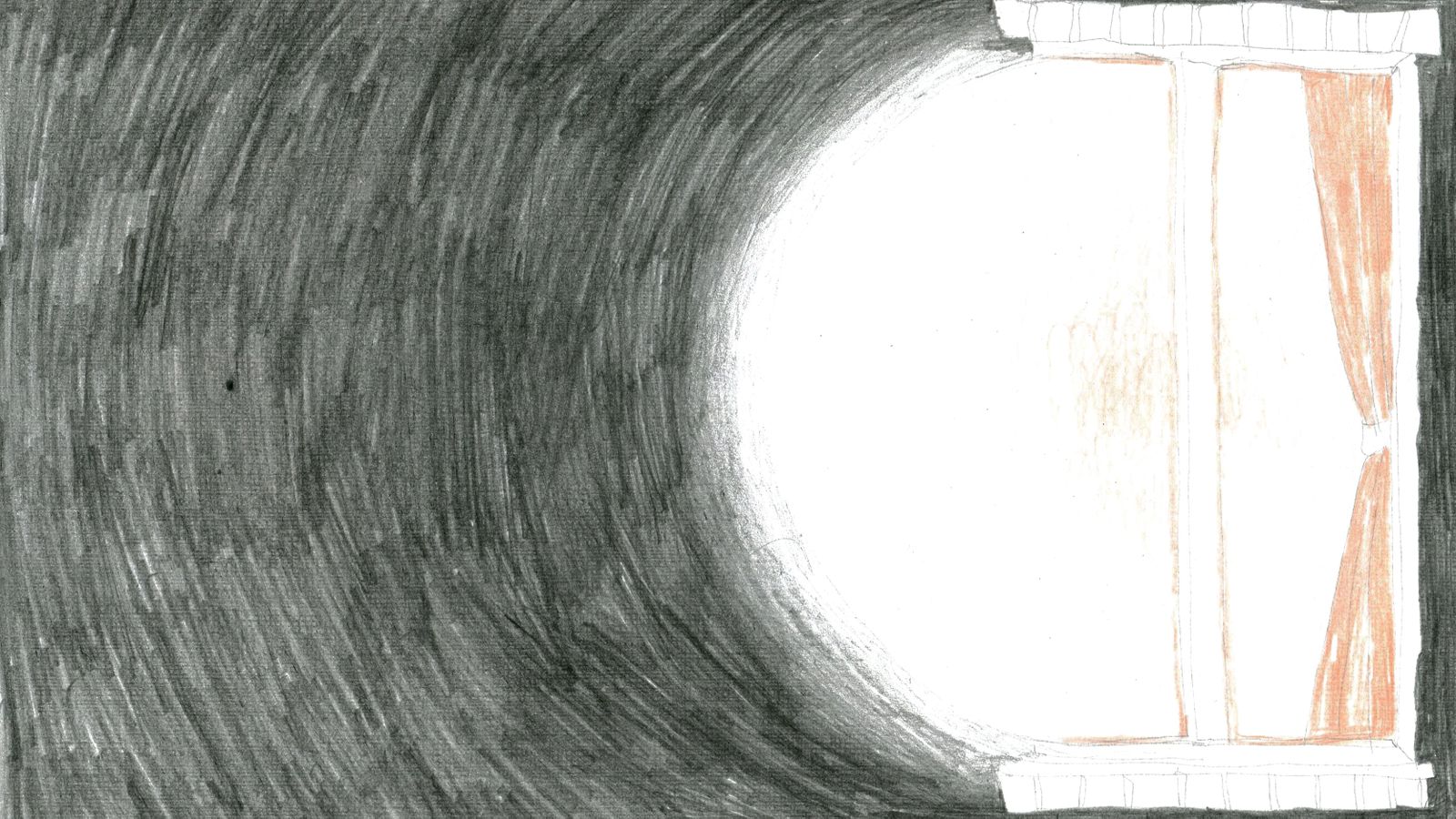
Я медленно, совсем как сонная муха, утолял собственную жажду созерцания данного зрелища. Спустя какие-то минуты черты окна оборотились для меня в мазок желтой гуаши, плавающий в нестабильном, акварельном узоре калейдоскопа. Я упивался дрейфом этого нечеловеческого ока, хранящего за своими створками, казалось, другую, совсем иную действительность. Но эта действительность была пробуждена к жизни не для меня, и, как ни странно, настоящий факт уже совсем не печалил. Я отвел глаза. Все было кончено. Соскользнув с моего верного скакуна, я удалился во тьму.
Око на мгновение обрело зрачок.
Рисунок двенадцатый
— Ну он не хочет, посмотри на него.
Круговое движение разом ликвидирует остатки пыли с засаленной фотографии. Этот раскрашенный клочок бумаги навеки неизменен. Секундный тычок в экран вырвал кусочек времени из сердца вечности.
Далекий голос застывшей жизни долетает до уха.
— Ну Вик.
На переднем плане частокол моей ладони. Два овала позади начисто лишены желания перемахнуть палисад. Ими всецело овладело чувство момента. Она улыбается. Губки отдыхают, опутав продолговатую сигарету. Вечер придает исходу самокрутки оттенок светлой глицинии. Курчавый локон заботливо утирает носик. Грудь едва взлетела, застигнутая врасплох морганием вспышки, осужденная хранить в себе нетленный выдох. Он слегка сконфужен, но тоже улыбается. Глядит сквозь фотокарточку, а голова будто бы изолировалась от тела. Одна рука небрежно повисла, ухватив окурок. Другая предается бренности бытия на Её плече. Остаток тела образует вилку о двух зубцах. Алчные сумерки, основательно поживившиеся небесной лазурью, отхлынули, как застенчивый мальчик, ощутивший все существо отказа, узрев светоч, посылаемый рогами уличных фонарей и иллюминаторами фасадов. Десятки цоколей выдували, словно пузырь из жевательной резинки, десятки колб.
— Ну один разочек, на память.
Мнемозина легонько дотрагивается до снимка. Кукольник берется за нити — куклы оживают. Локон улетает обратно в волосяной дом. Грудь пикирует, катапультируя теплый поток выдоха. Сумерки продолжают свое застолье. Проплывающие мимо силуэты оборачиваются, усматривая в троице представителей декаденства. Он целует Её в неопределенную точку лица.
— Эль…
На обратной стороне покоится размашисто выведенный эпиграф: «Мои часы с кукушкой и мой Вик». В нижнем правом углу из-за каемки выглядывает крошка-приписка — набор чисел, напоминающий, в какой отдел картотеки следует заглянуть.
— Ви…
Иллюстрации: Виктория Цой













