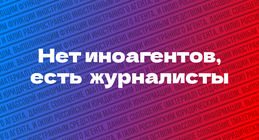Политический и социальный философ Мюррей Букчин посвятил жизнь разработке «левой политики нового типа», исследуя идеи прямой демократии. Он был убежден, что лучшая площадка для политического действия — это города, поселки и деревни, где высказываются сами граждане, а не избранный ими представитель.
Собрание исследований Букчина «Будущая революция: Народные ассамблеи и перспектива прямой демократии» о проблемах современного государства и ошибках революционеров прошлого выпустило издательство «Радикальная теория и практика». Публикуем эссе из книги, в котором автор объясняет, что такое «либертарный муниципализм», почему прямая демократия лучше привычной для многих стран представительной, а переход к ней — логичный этап развития человечества, и можно ли управлять всей планетой через общины, создав «конфедерацию коммун».
Возможно, самый большой недостаток движений за социальное преобразование (в частности я имею в виду левых, радикальные экологические группы и организации, заявляющие, что они выступают от имени угнетённых) — это отсутствие у них политики, которая вывела бы людей за пределы, установленные текущим положением вещей.
Политика сегодня — это прежде всего борьба между иерархическими бюрократическими партиями за выборные должности, предлагающие бессодержательные программы «социальной справедливости», чтобы привлечь невзрачный «электорат». Когда они приходят к власти, их программы обычно превращаются в букет «компромиссов».
В этом отношении многие партии зелёных в Европе лишь незначительно отличаются от обычных парламентских партий. Социалистические партии со всеми их разнообразными ярлыками также не демонстрируют каких-либо принципиальных отличий от своих капиталистических коллег.
Безусловно, безразличие евро-американской общественности, её «аполитичность» по понятным причинам расстраивает. Когда люди всё же голосуют, они с учётом их низких ожиданий обычно отдают предпочтение устоявшимся партиям хотя бы потому, что, будучи центрами власти, те могут достичь хоть каких-то результатов в практических вопросах.
Большинство людей рассуждают так: если уж я иду голосовать, то зачем тратить голос на новую маргинальную организацию, которая обладает всеми характеристиками основных партий и, если преуспеет, в итоге станет коррумпированной?
Посмотрите на немецких зелёных, чья внутренняя и общественная жизнь всё больше напоминает жизнь традиционных партий.
То, что этот «политический процесс» затянулся на несколько десятилетий, во многом объясняется инерцией самого процесса. Время изнашивает ожидания, и надежды часто сводятся к привычке, когда одно разочарование сменяется другим. Разговоры о «новой политике», о ниспровержении традиций, которые так же стары, как и сама политика, становятся неубедительными. Как минимум в течение десятилетий изменения, которые происходили в радикальной политике — это в основном изменения в риторике, а не в структуре.
Немецкие зелёные — это лишь недавняя из череды «непартийных партий» (так они изначально описывали свою организацию), кто превратился в типичную парламентскую партию после попытки осуществлять низовую политику — по иронии судьбы, в Бундестаге, как ни странно! Социал-демократическая партия в Германии, Лейбористская партия в Великобритании, Новая демократическая партия в Канаде, Социалистическая партия во Франции и другие, несмотря на свои первоначальные эмансипаторские взгляды, сегодня едва ли могут считаться даже либеральными партиями, где бы себя уютно чувствовали Франклин Д. Рузвельт или Гарри Трумэн.
Каких бы социальных идеалов ни придерживались эти партии несколько поколений назад, их покорило желание завоевать, удержать и расширить власть в соответствующих парламентских и министерских органах. Именно такие парламентские и министерские цели мы сегодня называем «политикой».
В современном политическом воображении «политика» — это набор приёмов для удержания власти в представительных органах, прежде всего в законодательной и исполнительной сферах, а не моральное призвание, основанное на рациональности, общности и свободе.
Либертарный муниципализм представляет собой серьёзный, поистине исторически фундаментальный проект, призванный сделать политику моральной по характеру и низовой по организации. Он отличается от других низовых инициатив структурой и этикой, а не только риторикой. Он стремится вернуть себе публичную сферу для осуществления подлинного гражданства и вырваться из замкнутого круга парламентаризма, который мистифицирует «партийный» механизм как средство общественного представительства. В этом смысле либертарный муниципализм — это не просто «политическая стратегия».
Это попытка двигаться от латентных, зарождающихся демократических перспектив к радикально новой конфигурации самого общества — обществу коммун, которое стремится удовлетворять человеческие потребности, реагировать на экологические императивы и развивать новую этику, основанную на распределении и сотрудничестве. То, что он предполагает последовательно независимую форму политики, является трюизмом. Более того, он предполагает переопределение политики, возврат к первоначальному греческому значению этого слова как управлению обществом, или полисом, через прямые народные собрания при выработке государственной политики и на основе этики взаимодополняемости и солидарности.
В этом смысле либертарный муниципализм не является одним из многих плюралистических методов, предназначенных для достижения туманной и неопределённой социальной цели. Демократический по своей сути и неиерархический по своей структуре, он является своего рода участью человечества, а не просто одним из множества политических инструментов или стратегий, которые можно принять и отбросить для достижения власти. Либертарный муниципализм, по сути, стремится определить институциональные контуры нового общества, одновременно продвигая практическое послание о радикально новой политике современности.
Здесь средства и цели встречаются в рациональном единстве. Слово «политика» теперь выражает прямой народный контроль над обществом со стороны его граждан путём достижения и поддержания подлинной демократии в муниципальных собраниях. Это отличается от республиканских систем представительства, которые ущемляют право гражданина разрабатывать общественную и региональную политику.
Такая политика радикально отличается от государственного управления и государства как профессионального органа, состоящего из бюрократов, полиции, военных, законодателей и т. п., который существует как аппарат принуждения, явно отличный от народа и стоящий над ним. Либертарный муниципалистский подход различает государственное управление, которое мы сегодня обычно называем «политикой», и политику в том виде, в каком она когда-то существовала в докапиталистических демократических обществах.
Более того, либертарный муниципализм предполагает строгое разграничение социальной и политической сферы: под «социальной» в строгом смысле этого слова понимается сфера, где каждый живёт своей частной жизнью и занимается производством. Как таковую социальную сферу следует отличать от политической и государственной. Взаимозаменяемое использование этих терминов — социальное, политическое, государственное — принесло огромный вред. Действительно, в нашем мышлении и в повседневной жизни существовала тенденция отождествлять их друг с другом.
Но государство — это совершенно чуждое образование, заноза в боку человеческого развития, экзогенное образование, которое постоянно вторгается в социальную и политическую сферы. На самом деле, государство часто было самоцелью, о чём свидетельствуют подъём азиатских империй, Древнего императорского Рима и тоталитарных государств современности. Более того, оно неуклонно вторгалось в политическую сферу, которая, несмотря на все свои прошлые недостатки, наделяла властью сообщества, социальные группы и отдельных индивидов.
Такие вторжения не прошли бесследно. Действительно, конфликт между государством с одной стороны и политической и социальной сферами с другой был длительной подпольной гражданской войной на протяжении столетий. Он часто вырывался наружу: в современную эпоху — в конфликте кастильских городов (комунерос, исп. Comuñeros) против испанской монархии в 1520-х гг., в борьбе парижских секций против централистского Якобинского Конвента 1793 г. и в бесконечных других конфликтах как до, так и после этих столкновений.

Сегодня в условиях растущей централизации и сосредоточения власти в национальном государстве «новая политика» — действительно новая — должна быть институционально структурирована вокруг восстановления власти муниципалитетами. Это не только необходимо, но и возможно даже в таких гигантских городских образованиях, как Нью-Йорк, Монреаль, Лондон и Париж. Такие городские агломерации, строго говоря, не являются городами или муниципалитетами в традиционном смысле этих слов, несмотря на то что социологи называют их таковыми.
Как только мы думаем, что это города, нас озадачивают вопросы размера и логистики. Даже до того, как мы столкнёмся с экологическим императивом физической децентрализации (необходимость которой предвидели и Фридрих Энгельс, и Пётр Кропоткин), нам не нужно переживать о проблеме их институциональной децентрализации. Когда несколько лет назад Франсуа Миттеран попытался децен-трализовать Париж и местные городские власти, его мотивы были сугубо тактическими: он хотел ослабить власть консервативного мэра столицы. Тем не менее он потерпел неудачу не потому, что реструктуризация крупного мегаполиса была невозможна, а потому, что большинство состоятельных парижан поддержали мэра.
Очевидно, что институциональные изменения не происходят в социальном вакууме. Они также не гарантируют, что децентрализованный муниципалитет, даже если он демократичен по своей структуре, обязательно будет гуманным, рациональным и экологичным в решении общественных дел. Либертарный муниципализм основывается на борьбе за создание рационального и экологического общества, борьбе, которая зависит от образования и организации.
С самого начала он предполагает подлинно демократическое желание людей бло-кировать всё расширяющиеся полномочия национального государства и вернуть их своей общине и региону. До тех пор, пока не возникнет движение (надеюсь, эффективное движение левых и зелёных), которое будет способствовать достижению этих целей, децентрализация может привести к местечковости так же легко, как и к экологическим, гуманистическим сообществам.
Но когда основные социальные изменения не сопровождались риском? Утверждение о том, что марксистская приверженность централизованному государству и плановой экономике неизбежно приведёт к бюрократическому тоталитаризму, можно было бы аргументировать лучше, чем утверждение о том, что децентрализованные либертарные муниципалитеты неизбежно станут авторитарными и приобретут черты исключительности и местечковости.
Экономическая взаимозависимость — это факт сегодняшней жизни, и сам капитализм превратил местечковые автаркии в химеру. Хотя муниципалитеты и регионы могут стремиться к достижению значительной автономии, мы уже давно вышли из той эпохи, когда автономные сообщества ещё могли предаваться своим предрассудкам.
Не менее важной является необходимость в конфедерации — сети сообществ, объединённых посредством сменяемых депутатов, уполномоченных муниципальными собраниями граждан, чья единственная функция — это координация и администрирование. Конфедерация имеет долгую историю, восходящую к античности, которая возникла как основная альтернатива национальному государству. Начиная с Американской, Французской и Испанской революций, конфедерализм бросал вызов государственной централизации. Не исчез он и в наше время, когда в результате распада существующих империй ХХ века встал вопрос о принудительной государственной централизации или относительно автономной нации.
Либертарный муниципализм добавляет радикально демократический аспект современным дискуссиям о конфедерации (как, например, в бывшей Югославии и Чехословакии), призывая к созданию не конфедераций национальных государств, а конфедераций муниципалитетов и кварталов гигантских мегаполисов, а также городов и деревень.
В случае либертарного муниципализма местечковость можно проверить не только очевидными реалиями экономической взаимозависимости, но и приверженностью муниципальных меньшинств подчиняться желаниям большинства участвующих сообществ. Гарантируют ли взаимозависимость и подчинение большинству, что решение большинства будет правильным? Конечно, нет, но наши шансы на создание рационального и экологического общества при таком подходе гораздо выше, чем при опоре на централизованные структуры и бюрократический аппарат.
Я не перестаю удивляться тому, что среди немецких зелёных не возникло муниципальной сети, ведь у них есть сотни представителей в городских советах по всей Германии, однако они проводят местную политику, которая в значительной степени заурядна и замыкается на отдельных городах и посёлках.
Многие аргументы против либертарного муниципализма (даже с его сильным акцентом на конфедерации) проистекают из непонимания различий между принятием политических решений и управлением. Это фундаментальное различие для либертарного муниципализма, о котором необходимо помнить. Политика осуществляется общиной или районным собранием свободных граждан; управление осуществляется конфедеративными советами, состоящими из уполномоченных, сменяемых депутатов округов, городов и деревень.
Если отдельные общины или районы (или их небольшие группы) решат идти своим путём, который приведёт к нарушению прав человека или экологической катастрофе, большинство в местной или региональной конфедерации имеет полное право предотвратить такие нарушения на конфедеративном совете. Это не отрицание демократии, а утверждение всеобщего согласия признать гражданские права и сохранить экологическую целостность региона.
Эти права и потребности утверждаются не столько конфедеративным советом, сколько большинством на народном собрании, задуманном как одно большое сообщество, которое выражает свои пожелания через конфедеративных депутатов. Таким образом, принятие политических решений по-прежнему остаётся на местном уровне, но управление им возложено на конфедеративную сеть в целом. По сути, конфедерация представляет собой коммуну коммун, основанную на определённых правах человека и экологических императивах.
Если мы хотим, чтобы либертарный муниципализм не был полностью лишён формы и смысла — это то желаемое, за которое нужно бороться. Он указывает на время (которое, надеюсь, наступит), когда лишённые власти люди будут активно добиваться расширения своих прав и возможностей. Находящийся в растущем конфликте с национальным государством, это процесс, это борьба, которую нужно осуществить, а не завещание, оставленное руководителями государства. Это двоевластие, оспаривающее легитимность существующей государственной власти.
Такое движение может начаться медленно, возможно, спорадически, в сообществах, которые вначале могут требовать лишь морального права на изменение структуры общества, прежде чем появится достаточное число взаимосвязанных конфедераций, которые потребуют, чтобы прямая институциональная власть заменила государство.
Растущее напряжение, вызванное появлением муниципальных конфедераций, представляет собой конфронтацию между государством и политической сферой. Эта конфронтация может быть разрешена только после того, как либертарный муниципализм сформирует новую политику народного движения и в конечном счёте завладеет воображением миллионов.

Однако некоторые моменты должны быть очевидны. Люди, которые первыми вступят в поединок между конфедерализмом и этатизмом, — это не те же люди, которые в конечном итоге добьются либертарного муниципализма. Движение, которое пытается их просветить, и борьба, которая воплощает либертарно-муниципалистские принципы в жизнь, превратит их в активных граждан, а не в пассивных «избирателей». Никто из тех, кто участвует в борьбе за социальное преобразование, не выходит из неё с теми предрассудками, привычками и чувствами, с которыми он в неё вступил. Хочется надеяться, что такие предрассудки, как местечковость, будут всё чаще заменяться благородным чувством сотрудничества и заботливым чувством взаимосвязи.
Остаётся подчеркнуть, что либертарный муниципализм — это не просто воплощение традиционных антигосударственных представлений о политике. Он переопределяет политику, которая предполагает прямую муниципальную демократию, перешедшую на уровень конфедераций, а также включает муниципалистский и конфедеративный подход к экономике. Как минимум либертарная муниципалистская экономика призывает к муниципализации экономики, а не к её централизации в государственные «национализированные» предприятия с одной стороны или её сведению к формам коллективистского капитализма, которые «контролируются рабочими» с другой. Управляемые профсоюзами предприятия, находящиеся «под контролем рабочих», т. е. синдикализм, отжили свой век. Для каждого изучающего бюрократию должно быть очевидно, что даже революционные профсоюзы размножились во время гражданской войны в Испании в 1936 г.
Сегодня корпоративный капитализм всё больше стремится вовлечь рабочих в соучастие в собственной эксплуатации с помощью «демократии на рабочем месте». Революция в Испании и других странах не избежала существования конкуренции между предприятиями, которые контролируются рабочими, за сырьё, рынки и прибыль. Ещё совсем недавно многие израильские кибуцы потерпели крах как примеры неэксплуататорских предприятий, ориентированных на учёт потребностей, несмотря на высокие идеалы, на которых они были изначально основаны.
Либертарный муниципализм предлагает радикально иную форму экономики, которая не является ни национализированной, ни коллективизированной в соответствии с синдикалистскими принципами. Он предлагает, чтобы земля и предприятия постепенно переходили под опеку общины, точнее, под опеку граждан, состоящих в свободных собраниях, и их депутатов в конфедеративных советах. Планирование работы, использование технологий, распределение товаров — эти вопросы можно решить только на практике.
Принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям» может показаться краеугольным камнем экономически рационального общества при условии качественности и долговечности товаров, определения потребностей рациональными и экологическими стан-дартами, замены буржуазного рыночного императива «расти или умри» древними понятиями предела и баланса.
В такой муниципальной экономике — конфедеративной, взаимозависимой и рациональной по экологическим, а не просто технологическим стандартам, — можно ожидать, что частные интересы, которые сегодня делят людей на рабочих, профессионалов, менеджеров и т.д., сольются в один общий интерес, в котором люди увидят себя гражданами, руководствующимися исключительно потребностями своей общины и региона, а не личными склонностями и профессиональными интересами. Тогда гражданство вступит в свои права, а рациональные и экологические интерпретации общественного блага вытеснят классовые и иерархические интересы.
Такова моральная основа моральной экономики для моральных сообществ. Но важнейшее значение имеет общий социальный интерес, который потенциально лежит в основе всех моральных сообществ — интерес, который в конечном итоге должен преодолеть классовые, гендерные, этнические и статусные границы, если человечество хочет продолжать существовать как жизнеспособный вид. В наше время этот общий интерес порождён экологической катастрофой.
Капиталистический императив «расти или умри» радикально расходится с экологическим императивом взаимозависимости и ограничений. Эти два императива больше не могут сосуществовать друг с другом; ни одно общество, основанное на мифе о том, что их можно сочетать, не выживет. Либо мы создадим экологическое общество, либо общество распадётся для каждого, независимо от их статуса.
Будет ли это экологическое общество авторитарным или, возможно, даже тоталитарным, иерархическим устроением, которое заложено в образе планеты как «космического корабля»? Или оно будет демократическим? Если верить истории, то развитие демократического экологического общества, в отличие от командного экологического общества, должно следовать своей собственной логике. Нельзя разрешить эту историческую дилемму, не добравшись до её корней.
Без тщательного анализа экологических проблем и их социальных источников современные разрушительные институты приведут к усилению централизации и дальнейшей экологической катастрофе. В демократическом экологическом обществе эти источники буквально являются «низовыми», и либертарный муниципализм стремится их взращивать.
Может ли новое общество быть чем-то меньшим, чем коммуна коммун, основанная на конфедерации, а не на этатизме, для тех, кто справедливо призывает к новым технологиям, новым источникам энергии, новым средствам транспорта и новому экологическому образу жизни?
Мы уже живём в мире, где экономика чрезмерно глобализована, сверхцентрализована и сверхбюрократизована. Многое из того, что можно сделать на местном и на региональном уровне, сейчас делается в глобальном масштабе в основном ради прибыли, военных нужд и имперских аппетитов, к тому же с кажущейся сложностью, которую на самом деле можно легко снизить.
Если это кажется слишком «утопичным» для нашего времени, то таким же должен казаться и нынешний поток литературы, призывающей к радикальным изменениям в энергетической политике, серьёзным сокращениям загрязнения воздуха и воды, а также к разработке масштабных планов по борьбе с глобальным потеплением и разрушением озонового слоя. Разве мы требуем слишком многого, идя ещё дальше и призывая к не менее радикальным институциональным и экономическим переменам, которые, по сути, глубоко укоренены в благороднейших традициях политической демократии?
Мы также не должны ожидать, что эти изменения произойдут сразу. Левые долгое время работали с программой-минимум и программой-максимум, нацеленными на перемены, в которых безотлагательные меры, которые можно принять сейчас, были связаны с промежуточными достижениями и промежуточными сферами, которые в итоге приведут к конечным целям. Минимальные меры, которые можно принять сейчас, включают в себя запуск левых зелёных муниципалистских движений, организующих народные районные и городские собрания, даже если поначалу у них будут только моральные функции, и избрание в городские советы депутатов, которые продвигают цели этих собраний и других народных институтов.
Эти минимальные шаги могут постепенно привести к формированию конфедеративных органов и усилению легитимации подлинно демократических органов. Гражданские банки для финансирования муниципальных предприятий и покупки земли, содействие созданию новых экологически ориентированных предприятий, принадлежащих общине, и создание низовых сетей во многих сферах деятельности и общественного блага — всё это может развиваться темпами, соответствующими изменениям, которые происходят в политической жизни.
То, что капитал, вероятно, «мигрирует» из сообществ и конфедераций, которые движутся к либертарному муниципализму, — это проблема, с которой сталкивается каждое сообщество, каждая нация, чья политическая жизнь радикализовалась.
По факту, капитал обычно «мигрирует» туда, где он может получить высокую прибыль, независимо от политических соображений. Под страхом бегства капитала можно привести веские аргументы в пользу того, чтобы не раскачивать политическую лодку. Конкретнее, фермы и предприятия, находящиеся в муниципальной собственности, могут поставлять новые экологически ценные и полезные для здоровья продукты населению, которое всё больше осознаёт, что ему навязывают некачественные изделия и товары.
Либертарный муниципализм — это политика, способная возбудить общественное воображение, подходящая для движения, остро нуждающегося в направлении и цели.
Либертарный муниципализм предлагает идеи, пути и средства не только для того, чтобы отменить существующий социальный порядок, но и для того, чтобы кардинально его переделать, расширив остатки демократических традиций до рационального и экологического общества.
Таким образом, либертарный муниципализм — это не просто попытка захватить городские советы, чтобы создать более экологически дружелюбное городское правительство. Такой подход рассматривает существующие гражданские структуры и, игнорируя критику, принимает их такими, какие они есть. Либертарный муниципализм, напротив, является попыткой преобразовать и демократизировать городские органы власти, укоренить их в народных собраниях, связать их вместе в конфедерации, присвоить региональную экономику по конфедеративным и муниципальным принципам.

В действительности либертарный муниципализм обретает своё существование и целостность именно благодаря диалектическому противоречию, которое он видит между национальным государством и муниципальной конфедерацией. Его «закон жизни», если использовать старый марксистский термин, состоит именно в его борьбе с государством.
Противоречие между муниципальными конфедерациями и государством должно быть ясным и бескомпромиссным. Поскольку эти конфедерации будут существовать преимущественно в оппозиции к государству, они не могут быть скомпрометированы выборами на уровне штата, провинции или страны, а тем более не могут быть достигнуты таким способом. Либертарный муниципализм формируется в борьбе с государством, укрепляется этой борьбой, более того, определяется этой борьбой. Лишённый этого диалектического противоречия с государством, либертарный муниципализм становится не более чем «канализационным социализмом».
Многие товарищи, готовые однажды вступить в битву со всемирными силами капитализма, считают, что путь либертарного муниципализма слишком тернистый, неактуальный или неясный, и вместо него выбирают политический партикуляризм. Такие радикалы могут отмахнуться от либертарного муниципализма как от «смехотворной тактики», но меня не перестаёт удивлять то, что революционеры, которые стремятся «свергнуть» капитализм, находят слишком сложным действовать путём политики и выборов в своих собственных районах ради новой политики, основанной на подлинной демократии. Если они не могут осуществлять преобразовательную политику для своего собственного района (относительно скромная задача) или усердно работать над этим с постоянством, которым отличались левые движения прошлого, мне очень трудно поверить, что они когда-либо смогут пошатнуть существующий общественный строй.
Создавая культурные центры, парки и хорошее жильё, они, вполне возможно, улучшают систему, придавая капитализму человеческое лицо, при этом не уменьшая лежащей в его основе «несвободы» в виде иерархического и классового общества.
Начиная с движения «Студенты за демократическое общество» (СДО, англ. SDS — Students for a Democratic Society) в 1960-х гг., борьба за «идентичность» породила различные радикальные движения, от иностранного до бытового национализма. Поскольку эта борьба за идентичность так популярна сегодня, некоторые критики либертарного муниципализма призывают против него «общественное мнение». Однако разве когда-либо перед революционерами стояла задача подчиняться общественному мнению — даже не общественному мнению угнетённых, чьи взгляды часто бывают весьма реакционными?
У истины своя собственная жизнь, независимо от того, видят ли её, согласны ли с ней угнетённые. Ссылаться на истину — это не чванство, в отличие от опоры на радикальное общественное мнение, когда это мнение, по сути, стремится вернуться в политику партикуляризма и даже расизма. Мы должны бросить вызов существующему обществу от имени наших общих человеческих качеств, а не по признаку гендера, расы, возраста и т. д.
Критики либертарного муниципализма оспаривают даже саму возможность существования «общих интересов». Если прямая демократия и необходимость расширить сферу демократии за пределы простой справедливости до полной свободы, за которые выступает либертарный муниципализм, недостаточны в качестве общего интереса, то, на мой взгляд, необходимость восстановить отношения с миром природы — была и остаётся нашим общим интересом, который выдвигает социальная экология.
Возможно, в нынешнем обществе можно кооптировать многие недовольные слои, но природа не поддаётся кооптации. Единственная оставшаяся политика для левых — это политика, основанная на предпосылке, что существует «общий интерес» в демократизации общества и сохранении планеты. Теперь, когда традиционные силы вроде рабочего движения исчезли со сцены истории, можно практически с полной уверенностью сказать, что без политики, подобной либертарному муниципализму, у левых не останется никакой политики.
Диалектический подход к связи конфедерализма и национального государства; понимание узости, замкнутости на себе и местечковости движений за идентичность; признание того, что рабочее движение, по сути, мертво — всё это доказывает, что берясь сегодня за развитие новой политики, необходимо делать её исключительно публичной, а не сходной с альтернативной «политикой» сотрясания воздуха в барах, которая никак не трансформируется в реальные действия и которую сегодня продвигают многие радикалы. Она должна быть выборной на муниципальной основе, конфедеративной по концепции и революционной по своему характеру.
Действительно, конфедеративный либертарный муниципализм — это именно та коммуна коммун, за которую боролись анархисты на протяжении последних двух столетий. Сегодня это «красная кнопка», которую необходимо нажать, если радикальное движение хочет войти в публичную сферу. Оставить эту кнопку нетронутой и вернуться к худшим привычкам «новых левых» после 1968 г., когда понятие «власть» избавилось от утопических или воображаемых свойств, — значит свести радикализм к ещё одной субкультуре, которая, вероятно, будет жить скорее героическими воспоминаниями, чем надеждами на рациональное будущее.
Читайте также
Как децентрализация власти сохраняет мир: сдерживание лидерских амбиций, гражданский контроль и независимая бюрократия
Построение анархо-капитализма: как ликвидировать государство и создать процветающее общество?
Парадоксы демократии: почему она нереализуема и что может прийти ей на смену